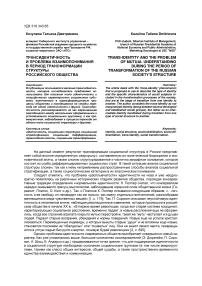Трансидентичность и проблема взаимопонимания в период трансформации структуры российского общества
Автор: Козулина Татьяна Дмитриевна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социологические науки
Статья в выпуске: 20, 2015 года.
Бесплатный доступ
В публикации описывается явление трансидентичности, которое исследователь предлагает использовать для описания типа идентичности и специфических характеристик социального субъекта, включенного в трансформационные процессы общества и находящегося на стадии перехода от одной идентичности к другой. Трансидентичность рассматривается не как маргинальная (находящаяся между несколькими оформленными и устоявшимися социальными группами), а как промежуточная, наблюдаемая в процессе перехода от одного типа социальной структуры к другому.
Идентичность, социальная структура, социальная стратификация, социальная дифференциация, трансидентичность, социальная трансформация
Короткий адрес: https://sciup.org/14937771
IDR: 14937771 | УДК: 316.343.65
Текст научной статьи Трансидентичность и проблема взаимопонимания в период трансформации структуры российского общества
На данный момент результат трансформации социальной структуры в России представляет собой вполне определенную «верхушку», составленную из политической бюрократии и экономической элиты, а также сложно структурированное и частично аморфное основание, которое состоит из слабо дифференцированных социальных страт. В такой ситуации анализ социальной структуры сложен, так как к нему неприменимы распространенные способы анализа социальной стратификации, а также социологические категории в их классическом понимании.
Следует отметить, что проблема «расплывчатости» идентичности не нова и уже неоднократно появлялась на различных исторических стадиях развития общества, порождая консервативные традиции определения «нормальной» идентичности. К. Поппер считал, что консерватизм нередко оказывался присущ мыслителям, наблюдавшим коренной слом общественной жизни (Гераклит, Платон, О. Конт и др.). Так, о Платоне К. Поппер отзывался следующим образом: «…лич-ность и ее свободу он ненавидит так же сильно, как смену отдельных впечатлений, разнообразие меняющегося мира чувственных вещей» [1, с. 175]. Так, П. Сорокин описывал неустойчивую идентичность в негативном ключе, наблюдая революционные изменения, которые произошли в российском обществе в начале XX в.: «В первое время революции, когда вся старая система координат, характеризующих социальное расслоение, временно падает, а новые расслоения еще не оформились, когда все строение агрегата покрыто мутью перестройки, такая же “муть” наступает и в душах людей. Падают старые воззрения, убеждения и нормы поведения. Новые еще не успели кристаллизоваться. Перемещенные индивиды, у которых вынуты старые “души” и не вложены еще новые, становятся похожими на “обалделых” или “очумелых” лиц. Они не знают своего места; превращаются в утлую ладью без руля и вертил, гонимую бурей революции» [2, с. 835].
Однако проблема идентичности современных обществ приобретает совершенно новый характер. Как уже упоминалось выше, большое количество исследователей (Э. Дюркгейм, П. Сорокин, А. Шюц, Б. Андерсо и др.) придерживаются точки зрения, что для поддержания идентичности в социальной структуре необходимо осознание социальными группами (в том числе макрогруппами, такими как класс) общих интересов, общей судьбы, а также пространственно-временного единства взаимодействия и коммуникации.
Для большинства светских обществ современного мира последнее условие является естественно сопутствующим социокультурному базису. Это связано с тем, что светские и технологичные общества, а именно информационные общества, в которых важную роль играют потоки информации, связывающие людей вне времени и пространства, утрачивают пространственно-временное единство. Если следовать за М. Кастельсом, то этот процесс описывается так: «…народы еще живут в конкретных местах. Но, поскольку доминирующие функции и власть в наших обществах организованы в пространстве потоков, структурное господство этой логики очень существенно меняет значение и динамику мест. Опыт, будучи связан с местами, отделяется от власти, значение все больше отделяется от знания» [3].
Об этом пишет К. Ясперс в своей работе «Власть массы», рассуждая об утрате западными обществами христианского видения мира, которое подразумевало движение к концу, к апокалипсису. Согласно философу, человек теперь не живет, направляя свою деятельность на улучшение своего положения в рамках неизменных условий, но, оказавшись оторванным от своих корней, осознает сам себя в «исторически определенной ситуации человеческого существования» [4, с. 10].
Стирают традиционные межгрупповые и межкультурные границы массовое производство и потребление, а также массовые коммуникации. В такой ситуации люди сталкиваются с проблемой определения значения собственного бытия, а также социального смысла своей жизни в массовом обществе. Одним из сложнейших феноменов современности является соединение ощущения возможности обустроить «жизнь здесь и сейчас» с ощущением подвижности и непостоянности, хрупкости мирового порядка. Интересно, что К. Ясперс обращает внимание на актуализирующееся значение для современных людей предков, родственников и семьи как социальной группы, а именно пишет о возрастающем значении для человека «жизни в доме», которая является символом мира. Хотя жизнь в доме представляет собой возможность человека найти собственную групповую идентичность в своем небольшом и подвластном ему мире, в эту жизнь, согласно Ясперсу, вторгается большое число сил – технологизация, отрыв человека от семьи в сторону работы и др. Именно поэтому, по мнению автора, жизнь в доме сейчас не лишена проблемного фронта, который сосредоточен в сознании индивида. «Границей универсального порядка существования служит свобода индивида, который должен своими силами создавать то, чего никто его лишить не может…» [5, с. 64].
В условиях глобальной трансформации бытия человека мы наблюдаем феномен трансидентичности, смены индивидом группы, частью которой он себя считает по праву рождения или воспитания. Сюда можно отнести распространенные факты смены гражданства, пола, религиозной принадлежности и других социальных характеристик. Причем нередко эта смена носит характер коренного слома традиционно сложившегося порядка (сюда можно отнести смену и гражданства, и пола, и сексуальной ориентации, и религиозной принадлежности). Так, смена идентичности в сторону какой-либо религиозной (буддийской, исламской или другой) или гендерной может привести человека к отказу от семьи или страны. Для российского общества, находящегося в состоянии трансформации, проблема формирования новых идентичностей, приходящих на смену старым, а также проблема сохранения базовых идентичностей крайне актуальны.
В этом контексте крайне интересна концепция трансидентичности или транссубъектности Г. Ансальдуа. Такая идентичность представляет собой «двойное сознание, выросшее в зазоре между миром западным и незападным» [6, с. 203]. В чем-то эта идентичность близка идентичности маргиналов, то есть «пограничников», которые обещают свою принадлежность сразу нескольким социальным группам, имеющим совершенно разную культурную и ценностную базу. По утверждению Г. Ансальдуа, идентичность «пограничья» является своеобразным синтезом двух культур, способным включить их в диалог посредством отдельной личности. Ансальдуа описывает следующие характеристики личности, связанные с состоянием «пограничности»: «…вы-живает путем культивирования в себе терпимости к противоречиям и неоднозначности. Ее личность плюралистична и действует в плюралистичном мире – ничто ею не отвергается – ни плохое, ни хорошее, ни уродливое, ничто не исключается и не выбрасывается. Она не только сохраняет противоречия, она переводит амбивалентность в иное качество» [7, с. 204].
Однако феномен трансидентичности имеет и ряд негативных последствий. Так, человек, находящийся на границе социальных групп, слоев и страт, по-настоящему не ощущает принадлежности к большинству из них, он находится между нескольких огней, и ни один не согревает его по-настоящему. Это приводит к тому, что наблюдают современные социологи: уменьшение уровня солидарности в обществе и рост индивидуализации личных судеб. В российском обществе усиливается уровень отчуждения. Так, В.Ю. Комбаров исследует феномен трансотчуждения, в котором смешаны непреодоленные феномены советского отчуждения (от власти, от развития, от удовлетворения потребностей, от информации) и западные виды отчуждения (следствия формирования гиперреальности и общества потребления) [8, с. 90].
Одна из причин отчуждения видится в отсутствии ощущения сопричастности людей, испытываемого по отношению к другим участникам социального взаимодействия и само- или иное устранение их из интерсубъективной социальной реальности. Огромное значение в организации интерсубъективного мира имеет именно мышление, так как он рождается в попытке проинтерпретировать, осмыслить окружающую социальную реальность, предпринимаемую человеком. Одно дело – это воспринимать и принимать реальность, а другое – осмысливать ее. Так, в процессе познания окружающей реальности Б.С. Сивиринов выявляет два уровня. Первый – уровень сенсорно-чувствительной субъективации внешнего мира, а второй – это уровень интерпретации воспринятого. «Социальная реальность субъективируется на основе как уже заданного объяснения в культуре общества, так и социокультурного багажа знаний индивида или социальной общности. Отсюда напрашивается вывод, что у объективистов и субъективистов результат представлен в виде образа. Первые представляют этот образ как абсолютно объективный, а вторые – как абсолютно субъективный. Разница только в том, что представители субъективного направления представляют этот образ как интерпретированную социальную реальность, которая и есть та реальность, с которой человек имеет дело» [9, с. 2 8].
Особую остроту проблема трансформации социальной идентичности и вопрос интерпретации социальной реальности получают под натиском процессов технологизации общества, в том числе с развитием коммуникационных возможностей сети Интернет. В контексте последней указанной темы нередко проводятся исследования трансформации идентичности в пространстве интернета, формирующейся в условиях дихотомии «Я – Другой». Особенно этот феномен интересен при изучении молодого поколения, которое проводит в этом пространстве достаточно большую долю своего времени. Как отмечает исследователь этого вопроса В.В. Пронин, молодые люди сталкиваются с большим разнообразием мира и живут в эпоху перемен. На век каждого следующего поколения приходится перемен гораздо больше, чем на век их предков. Растет количество идентичностей, которые нужно «примерять на себя». «…абстрактное “количество идентичности” или число ролей, которые человеку приходится “примерять” за небольшой период времени, никогда не было таким, как сегодня» [10, с. 11]. Об этом пишет и О.В. Захарова, автор пособия «Социальная идентичность в изменяющемся обществе». Она отмечает, что в эпоху перемен в целом российское общественное создание дестабилизировано. Эти условия непосредственным образом влияют на идентификационные характеристики индивидов и групп индивидов. Одним из важных замечаний этого исследователя является обращение внимания на возникновение новых социальных общностей, с которыми ранее не приходилось иметь дело остальным участникам социального взаимодействия.
Нередко это те самые общности «пограничья» или временные «переходные» социальные общности, сформировавшиеся под влиянием трансформации. Все это приводит к поведенческим проблемам. Как пишет О.В. Захарова, «неопределенность оснований социальной категоризации вызывает неопределенность правил и норм взаимодействия с разными категориями людей, иначе говоря, индивид утрачивает способность к “социальной навигации”: окружающий мир перестает отвечать ожиданиям, а его “навигационные знаки” перестают поддаваться привычным интерпретациям. Нарушаются принципы типизирующего понимания и природа интерпретативных систем» [11, с. 79]. Так, мы возвращаемся к проблеме слабой категоризации оснований социальной идентичности. Когнитивные исследования способны выявить основные принципы, следуя которым люди организовывают свой опыт взаимодействия с окружающей реальностью и находят свою собственную социальную идентичность. Следует отметить, что важной составляющей «нормальной» идентичности в отличие от трансидентичности является понимание и ощущение человеком своей сопричастности к ряду социальных групп, что может выражаться в его активных действиях по проявлению солидарности к этим группам.
В конечном счете для понимания процесса формирования положительной и устойчивой идентичности социологи могут прибегнуть к долгосрочному исследованию когнитивных проблем формирования идентичности, в том числе возможной мерой является изучение трансидентичности, причин ее возникновения и способов преодоления.
Ссылки:
-
1. Поппер К. Открытое общество и его враги / пер. с англ. яз. под общ. ред. В.Н. Садовского. М., 1992. 448 с.
-
2. Сорокин П.А. Система социологии / вступ. ст., сост. и коммент. В.В. Сапов. М., 2008. 1008 с.
-
3. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура [Электронный ресурс] / пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана. М., 2000. 606 с. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/ (дата обращения:
09.10.2015).
-
4. Ясперс К., Бодрийяр Ж. Призрак толпы. М., 2007. 272 с.
-
5. Там же. С. 64.
-
6. Тлостанова М.В. Человек в современном мире: проблемы множественной идентичности // Вопросы социальной теории. 2010. Т. IV. С. 191–217.
-
7. Там же. С. 204.
-
8. Комбаров В.Ю. Трансотчуждение как социологический феномен постсовременности: опыт применения теории трансгрессии // Материалы IV Очередного Всероссийского социологического конгресса / Сессия 1. Общества и теории: отражения, отторжения, притяжения. 2012. 299 с.
-
9. Сивиринов Б.С. О феноменологической интерпретации социальной реальности // Социс. 2001. № 10. С. 26–35.
-
10. Пронин В.В. Трансформация идентичности в пространстве интернета // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия Социальные науки. 2011. № 4 (24). С. 126–132.
-
11. Захарова О.В. Социальная идентификация и социальная идентичность в изменяющемся обществе : учеб.-метод. пособие. Иркутск, 2010. 95 с.
Список литературы Трансидентичность и проблема взаимопонимания в период трансформации структуры российского общества
- Поппер К. Открытое общество и его враги/пер. с англ. яз. под общ. ред. В.Н. Садовского. М., 1992. 448 с.
- Сорокин П.А. Система социологии/вступ. ст., сост. и коммент. В.В. Сапов. М., 2008. 1008 с.
- Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура /пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана. М., 2000. 606 с. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/(дата обращения: 09.10.2015).
- Ясперс К., Бодрийяр Ж. Призрак толпы. М., 2007. 272 с.
- Тлостанова М.В. Человек в современном мире: проблемы множественной идентичности//Вопросы социальной теории. 2010. Т. IV. С. 191-217
- Комбаров В.Ю. Трансотчуждение как социологический феномен постсовременности: опыт применения теории трансгрессии//Материалы IV Очередного Всероссийского социологического конгресса/Сессия 1. Общества и теории: отражения, отторжения, притяжения. 2012. 299 с.
- Сивиринов Б.С. О феноменологической интерпретации социальной реальности//Социс. 2001. № 10. С. 26-35.
- Пронин В.В. Трансформация идентичности в пространстве интернета//Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия Социальные науки. 2011. № 4 (24). С. 126-132.
- Захарова О.В. Социальная идентификация и социальная идентичность в изменяющемся обществе: учеб.-метод. пособие. Иркутск, 2010. 95 с.