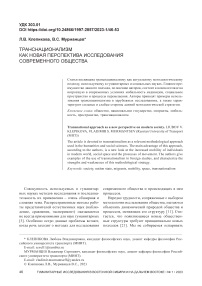Транснационализм как новая перспектива исследования современного общества
Автор: Клепикова Любовь Владимировна, Мурманцев Владимир Сергеевич
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Ракурсы социальной динамики
Статья в выпуске: 1 (63), 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена транснационализму как актуальному методологическому подходу, используемому в гуманитарных и социальных науках. Главное преимущество данного подхода, по мнению авторов, состоит в новом взгляде на возросшую в современных условиях мобильность индивидов, социальное пространство и процессы перемещения. Авторы приводят примеры использования транснационализма в зарубежных исследованиях, а также характеризуют сильные и слабые стороны данной методологической стратегии.
Общество, национальное государство, мигранты, мобильность, пространство, транснационализм
Короткий адрес: https://sciup.org/170198098
IDR: 170198098 | УДК: 303.01 | DOI: 10.24866/1997-2857/2023-1/46-53
Текст научной статьи Транснационализм как новая перспектива исследования современного общества
Совокупность используемых в гуманитарных науках методов исследования и последовательность их применения – очень обширная и сложная тема. Распространенные методы работы представителей естественных наук (наблюдение, сравнение, эксперимент) оказываются не всегда применимыми для наук гуманитарных [5]. Особенно остро данные проблемы встают, когда речь заходит о методах для исследования современного общества и происходящих в нем процессов.
Нередко трудности, сопряженные с выбором методологии исследования общества, пытаются объяснить динамической природой общества и процессов, меняющих его структуру [11]. Считается, что появляющиеся новые общественные структуры требуют принципиально новых подходов [21]. Мы не собираемся оспаривать данный тезис, однако хотели бы обратить внимание и на другой немаловажный аспект, который часто оказывается вне зоны внимания исследователей, занятых изучением общества.
Методологический подход к исследованию во многом зависит от теоретической призмы, сквозь которую ученый рассматривает общество и социальные процессы. Например, во времена СССР в отечественной науке господствовала марксистско-ленинская парадигма, посредством которой анализировались, объяснялись и прогнозировались социальные движения и тенденции [1; 4]. Когда же господство марксистско-ленинской парадигмы подошло к концу, отечественная гуманитарная наука, занимающаяся исследованием общества, оказалась в закономерном кризисе. Причем зарубежные социальные науки находились в схожей кризисной ситуации, обусловленной не только окончанием холодной войны и стремительно набирающей обороты глобализацией [2]. Во многом причина кризиса коренилась в постепенном закате «парадигмы оседлости». Сразу обозначим, что такое название не является официальным. Мы будем применять его, чтобы описать совокупность определенных теоретических констант, методологических приемов и взглядов, которые на протяжении долгого времени обусловливали развитие наук об обществе.
Социальные и гуманитарные науки в течение длительного времени использовали «парадигму оседлости» как отправную точку или перспективу, с которой велось наблюдение за всеми социальными и культурными процессами [23, p. 307]. Социальное бытие по умолчанию интерпретировалось как совокупность различных национальных государств, внутренний состав которых, в соответствии с негласной нормой, должен быть гомогенным. «Парадигма оседлости» не исключала мобильность, однако заключала ее в четко заданные границы. Перемещавшийся на разные расстояния индивид становился «путешественником», который приходил однажды и непременно уходил потом, потому что не принадлежал к физическому пространству, в которое вторгся [20, p. 509]. По этой причине предполагалось, что «путешественник», временно отклонившийся от «нормы», рано или поздно вернется к состоянию оседлости.
Элементы, отклоняющиеся от этого правила, автоматически превращались в источник хаоса. Согласно «парадигме оседлости», в самом существовании внутри национального государства таких групп, как чернокожие евреи или греческие немцы, виделась угроза, так как это нарушало этнокультурный эссенциализм [2, с. 117]. Физическое пространство трактовалось как нечто, к чему естественным образом прикрепляются индивиды, поэтому данное пространство наделялось рядом атрибутов, которые необходимо было определить и научно обосновать. В роли таких атрибутов могли выступать самобытная культура, религиозная принадлежность, разделяемая большинством населения данной территории, или какие-либо этнические характеристики. Но основополагающим элементом, способным объединить и упорядочить все указанные атрибуты, было понятие национального государства [23]. Мир делился на национально-государственные культурные секторы, имевшие гомогенную сущность. Соответственно, общества, проживающие на территории национальных государств, приобретали характер замкнутых и существующих параллельно друг другу «контейнеров». В данном контексте любое вторжение «инородного» объекта в тот или иной сектор выглядело как явление, чреватое «деформацией» культуры.
Следует признать, что на протяжении нескольких десятилетий, на которые пришлись две мировые и одна холодная война, «парадигма оседлости» показала себя инструментом, посредством которого можно было довольно продуктивно анализировать и систематизировать общество (в качестве примера можно привести успешную работу представителей Чикагской школы социологии [3; 23]). При этом слабая сторона данной парадигмы, заключавшаяся главным образом в игнорировании мобильности (или же приписывании ей маргинального статуса), не играла принципиальной роли – каждое национальное государство действительно представляло собой независимую политическую единицу.
Бытование национальных государств как независимых единиц было обусловлено последствиями действий в социальной и политической, но никак не естественно-природной сфере, поэтому гарантом существования национальных государств являлся (и является до сих пор) институт политической границы, а также институты, контролирующие эти границы и их пересечение (это не только институт пограничного контроля, но и институт гражданства, образования и пр.). Социальные концепции, основанные на приоритетной роли национального государства, истолковывают акт пересечения границы как завершенное действие, в соответствии с которым индивид утрачивает прежние социальные и духовные связи и приобретает новые, обусловленные территориальным пространством определенного национального государства. Данный тезис выглядел логично, ведь еще относительно недавно социальные связи невозможно было поддерживать при наличии больших расстояний, отделявших мобильных индивидов от их предыдущего местоположения. Однако с появлением новых средств коммуникаций ситуация радикально изменилась. Физические расстояние более не являются препятствием для сохранения и укрепления старых социальных связей.
Исследовательские трудности еще более усугубились с наступлением глобализации, проявившейся не только в мобильности индивидов, но и в построении всемирной экономической системы. Возникла ситуация, когда прежняя парадигма уже не соответствовала актуальным запросам. Представители социальных и гуманитарных наук больше не могли полноценно действовать в рамках парадигмы, согласно которой по умолчанию считалось, что культура конкретного общества обусловливается национальным государством и обладает набором неотъемлемых свойств [3; 23]. В ситуации, когда мобильность фактически стала нормой современной экономической и социальной жизни, следование подобному взгляду на данный социальный феномен означало бы тупиковую ситуации для развития наук об обществе. Даже если исследователь выберет в качестве объекта исследования некое сообщество не-мигрантов, тесно связанных с конкретной локацией проживания, ему придется иметь в виду, что данное сообщество скорее всего будет находиться под воздействием таких проявлений мобильности, как контакты с мигрантами, зависимость от внешнего импорта, влияние информации, поступающей через интернет из других локаций и т.д. [14; 18].
В связи с вышеуказанными обстоятельствами в области социальных наук назрел новый поворот – так называемый «пространственный поворот» (англ. spatial turn) [17, p. 11]. Его суть состоит в отказе от рассмотрения социального пространства через призму четко фиксированных политических территорий, где процесс движения может происходить исключительно как физическое исчезновение из места А с последующим появлением в месте В. Также исследова- тель больше не рассматривает места А и В как изолированные и не зависящие друг от друга.
Одной из методологических стратегий, предложенных для преодоления пространственного кризиса в социальных науках, является транснационализм. Изначально транснационализм использовался как альтернатива теории ассимиляции, которая была популярна в европейских странах в последние десятилетия ХХ в. [15, p. 11]. В отличие от интернационализма транснационализм позиционировался как понятие, обозначающее совокупность социальных практик и феноменов, которые имеют место в конкретных национальных государствах, однако существуют благодаря действиям лиц, не связанных с определенными государствами [16]. Предполагается, что длительность социальных связей на надгосударственном уровне (будь то семейные, экономические или политические отношения) обусловила формирование принципиально нового типа пространства. Согласно концепции транснационализма, деятельность людей выходит за рамки политических границ и, таким образом, создает «транснациональное социальное пространство», где действует множество разных лиц и институтов. Ученые позиционировали транснационализм прежде всего как исследовательскую программу, главной задачей которой станет анализ и интерпретация нынешних общественных перемен [16, p. 9; 9]. Особенное преимущество транснационализма для социальных исследований заключалось в том, что в рамках данной программы стал возможен методологический разворот эмпирического исследования в сторону расширения изучаемого социального пространства (в поле внимания оказывалось одновременно несколько локаций, соединенных социальными связями).
Следует отметить, что данная методологическая стратегия впервые получила применение в глобализационных и миграционных исследованиях, так как она позволила кардинально сменить перспективу и выйти на принципиально новый исследовательский уровень, где национальное государство уже не выступало в роли изначально заданной единицы [19; 22]. При этом стоит отметить, что преимущества применения стратегии транснационализма не ограничиваются новым взглядом на мигрантов как потенциальных обладателей нескольких идентичностей [3], но предполагают и новую интерпретацию пространства.
В соответствии с концепцией транснационализма, физические расстояния больше не вос- принимаются как нечто деструктурирующее межличностные и межгрупповые связи. Кроме того, общества перестают рассматриваться в качестве однородных систем, замкнутых в государственных границах. Если в вышедших на данный момент отечественных статьях, посвященных транснационализму, большое внимание уделялось идентичности мигрантов и вопросам их интеграции [3; 6], то в данной работе акцент сделан главным образом на проблеме восприятия пространства с транснациональной перспективы. Таким образом, мигрант здесь будет рассматриваться прежде всего как амбивалентная фигура, с одной стороны, зависимая от окружающего ее пространства, а с другой – участвующая в его конструировании. С некоторой долей условности можно констатировать, что в рамках транснационализма исследовательский фокус поднимается над политическими границами. Во внимание берутся так называемые «третьи формы жизни» или пространства социальной деятельности, существующие независимо от политических границ [2, с. 62]. После того, как «аннулируется» привязка к физическому месту, в поле исследовательского зрения попадают новые, ранее оставленные наукой без внимания микро-сообщества, образовавшиеся несмотря на физические расстояния и государственные границы [15, p. 9–10]. Относительно микро-сообществ возникает несколько закономерных вопросов. Кто составляет эти сообщества? Какова их структура? Каким онтологическим статусом они обладают? Какие категории следует использовать для их продуктивного анализа?
Самый простой и, на первый взгляд, очевидный ответ на первый вопрос – мигранты. Однако в данном случае чрезмерное упрощение способно привести исследователя к серьезной методологической ошибке. Ведь столь же очевидно, что мигранты не являются и никогда не являлись однородной группой. Тем не менее мигрант – важная категория в рамках транснациональной перспективы и, следовательно, может быть продуктивно использована в процессе исследования общества. Поэтому данное понятие нуждается в постоянном уточнении в зависимости от социального ракурса, который собирается принять ученый в рамках своего исследования. В свете этого обстоятельства представляется целесообразным привести краткий обзор значений понятия «мигрант», существующих в современном социальном пространстве.
Мигрант (от лат. «migrare» – переезжать, переселяться) – это любой индивид, который по каким-либо причинам на продолжительное время покидает прежнее место жительства и становится мобильным [7]. Данное определение является весьма широким, так как в качестве определяющего фактора берется процесс передвижения. Таким образом, под определение «мигрант» попадает крайне неоднородное собрание индивидов, чей уровень благосостояния, культурный и социальный капитал существенно различаются. Кроме того, под приведенное определение попадают также индивиды, перемещающиеся в границах отдельных государств (например, из провинции в мегаполис). В данной работе внимание будет сосредоточено именно на мигрантах, пересекающих государственные границы, т.е. находящихся на транснациональном уровне. Однако следует подчеркнуть, что эта разновидность мигрантов никогда не являлась однородной. В зависимости от того, стал индивид мобильным по причинам финансовых затруднений, карьерной целесообразности или необходимости повышения своей образовательной квалификации, во-первых, его действия по построению связей на транснациональном уровне будут значительно отличаться, во-вторых, степень и направленность воздействия самого индивида на различные сферы социальной реальности также будут неодинаковыми. Закономерным образом появляется необходимость создания классификации мигрантов. При этом стоит отметить, что критерии дифференциации мигрантов будут отличаться в зависимости от сферы социальной реальности, которую исследует автор, создающий конкретную классификацию. Учитывая то, что современная миграция тесно связана с глобальным городом [17], примером одной из самых кратких и исчерпывающих классификаций можно назвать предложенную социальным антропологом Ульфом Ханнерцом.
У. Ханнерц разработал классификацию, состоящую из четырех социальных категорий, которые «в той или иной мере транснациональны» [10, p. 129]. Нужно оговориться, что при определении ее критериев автор отталкивался главным образом от примера американских мегаполисов, мотивируя это тем, что в экономическом, политическом и культурном плане роль этих городов значима в общемировом масштабе. Итак, Ханнерц выделяет следующие социальные категории людей:
Представители транснационального бизнеса – категория, в которую включены люди, мигрировавшие в деловых целях. Среди особенностей этой категории можно выделить обязательную изначальную связь с местом, куда впоследствии произойдет миграция. Связь имеет деловой характер, то есть содержит в себе как экономические, так и социальные компоненты. Ханнерц отмечает, что этнический состав данной категории варьируется от одного мегаполиса к другому. Например, в Лос-Анджелесе больший процент составляют выходцы из азиатских государств, а в Нью-Йорке это в значительной степени представители западноевропейских стран.
Представители стран третьего мира [10, p. 130]. Составляющие данную категорию люди часто предпочитают селиться в непосредственной близости друг от друга, что приводит к постепенной визуальной «этнизации» конкретной местности. Автор приводит в качестве примера часто присутствующие в ландшафтах мегаполисов чайна-тауны или мексиканские гетто. Со временем подобные места могут превратиться в объекты туристического внимания.
Люди, так или иначе связанные с миром культуры и искусств [10, p. 130], т.е. представители творческих профессий (художники, режиссеры, актеры, фотографы, дизайнеры и пр.). Ханнерц указывает на важный аспект, характеризующий данную категорию, – стремление перебраться «в правильное место». Предполагается, что представителей творческих профессий «стягиваются» в определенные районы мегаполиса. В качестве примера автор приводит парижский Монмартр начала ХХ в.
Туристы. Несмотря на то, что пребывание их вдали от страны своей принадлежности, как правило, краткосрочно, тем не менее они также создают каналы транснациональных связей. Во-первых, туристы, находясь в локации временного пребывания, сохраняют стабильную и крепкую связь со своим изначальным местопребыванием. Во-вторых, туризм включен в структуру транснационального бизнеса, являющегося одним из главных двигателей глобализации. В-третьих, турист представляет собой идеальное воплощение «путешественника», который значительно отклонился от «нормы» оседлости, ведь его мобильность в процессе путешествия зачастую не ограничивается одной локацией.
Общим атрибутом всех четырех категорий, перечисленных Ханнерцом, является то, что их представители, перемещаясь в географическом пространстве и пересекая политические границы, остаются социально, политически, экономически и духовно связаны с национальными государствами, где изначально располагались их места поселения. Существенное отличие такого подхода в сравнении с «парадигмой оседлости» заключается в том, что он не предполагает по умолчанию непременное возвращение индивида в изначальное местопребывание. Кроме того, транснациональная парадигма позволяет учитывать несколько связей одновременно. Например, представитель бизнеса, находясь в стране А, может представлять интересы корпорации, чья штаб-квартира расположена в стране В, и при этом являться гражданином государства С.
В то же время при использовании классификации Ханнерца важно иметь в виду некоторые ее недостатки. Самый очевидный из них – ее условность. Когда исследователь относит представителей изучаемого им сообщества к одной из четырех категорий, он должен по умолчанию допускать возможность перехода индивидов из одной категории в другую, в противном случае возникнет тенденция к «контейнеризации» групп внутри категорий. Пояснительные примеры к каждой из категорий, таким образом, должны фигурировать как «идеальные модели». Еще один важный аспект, который необходимо учитывать при использовании данной классификации, это степень включенности изучаемого сообщества и его представителей в принимающее общество: идет ли речь о конструировании полностью/частично изолированной группы, о построении связей с другими мигрантскими группами (нередкое явление для представителей транснационального бизнеса или людей творческих профессий) или же о том, что мигрант строит связи исключительно с представителями принимающего общества. Также исследователю следует помнить, что глобальный город является феноменом, существующим одновременно в двух измерениях: одно из них напрямую связано с локацией, где расположен город, а второе формируется в результате действий вышеназванных транснациональных категорий людей, превращающих город в значимую единицу на глобальном уровне. Когда исследователь изучает общественные процессы в транснациональной перспективе, ему важно осознавать, какое из этих двух измерений он имеет в виду, рассуждая об изучаемом им сообществе, в противном случае классификация
Ханнерца окажется расплывчатой и не сможет быть использована для достижения поставленных исследователем целей.
Существенное преимущество транснационализма как исследовательской стратегии – отказ от линейного толкования процесса перемещения, когда последний сводится к простой схеме движения из одной географической точки в другую. Использование линейной схемы изначально предполагало, что мобильный субъект не просто обладает свободой воли, но действует максимально рационально и индивидуалистически. Кроме того, возникал гносеологический парадокс, когда субъект, с одной стороны, трактовался как свободный индивид, единолично принимающий независимые решения, с другой – рассматривался как частица однородного миграционного потока. В совокупности это вело к ошибочному отождествлению миграционных потоков с волнами, набирающими силу в определенных регионах земного шара и с полной мощью накатывающими на территорию некоторых государств.
Транснационализм позволяет очертить совершенно иную траекторию миграционных передвижений. Главным условием при этом становится отсутствие фокусирования на стране конечного прибытия [12, p. 52]. Это обусловлено двумя ключевыми причинами. Во-первых, само понятие страны конечного прибытия имеет темпоральный характер вне зависимости от временного промежутка, который мобильный субъект проводит в ней. Теоретически каждый субъект имеет реальную возможность продолжить перемещения, таким образом, «страна конечного прибытия» – понятие относительное. Во-вторых, зачастую траектория пути мигранта, если нанести ее на карту, будет напоминать вовсе не линию, а сложную кривую, состоящую из петель и зигзагов [8, p. 22, 24]. Складывая траекторию передвижения из множества физических местонахождений, транснационализм дает исследователю возможность более комплексно взглянуть на феномен мобильности. В частности, мигрирующий субъект рассматривается с учетом его зависимости от коллектива и социальной среды. При использовании транснациональной перспективы важно иметь в виду тот факт, что коллективы и социальная среда имеют тенденцию качественно изменяться в зависимости от локации, через которую в определенный момент пролегает траектория передвижения мигранта. Кроме того, сама траектория передвижения также выступает как продукт влияния, которое оказывают на субъект коллектив и социальная среда.
Своеобразной чертой транснационализма как исследовательской стратегии является то, что его использование предполагает комбинирование с другими новыми парадигмами. В качестве примера можно привести применение транснационализма в таких научных областях, как культурология, философская антропология, городские исследования и пр. Методологическая концепция транснационализма в этих случаях предполагает транскультурный подход. Последний предусматривает особый взгляд на проблему взаимовлияния культур, когда культуры интерпретируются не как отдельные «контейнеры», а как взаимодействующие открытости [13, p. 8]. Так как процесс культурного взаимодействие в принципе не может происходить в отрыве от социальных групп (носителей культуры) и физических пространств, в пределах которых социальные группы осуществляют различного рода деятельность, логично, что физическое пространство не может оставаться культурно нейтральным. Благодаря концепции транскультурности физические пространства перестают анализироваться как статичные и наделенные жестко фиксированным набором атрибутов. Теперь с пространствами связывается открытость динамике и развитию [13, p. 11].
Так как транснационализм и связанные с ним концепции появились в методологическом арсенале науки относительно недавно, они еще нуждаются в проработке и уточнениях. Например, разрешения требует проблема изначальной географической привязки. С одной стороны, устраняется методологическая проблема, касающаяся бытования общества исключительно в рамках замкнутых географических «контейнеров». Но, с другой стороны, мобильные социальные группы все равно анализируются с позиции их изначальной принадлежности к определенному национально-государственному «контейнеру». В конечном счете данный «контейнер», условно говоря, «растягивается» в пространстве. Таким образом, понятие изначальной связи с местом следует уточнить в нескольких аспектах: в чем именно заключается эта связь (семья, община, деловые связи, культурная связь), насколько сильно эта связь продолжает влиять на действия индивида, является ли эта связь единственной или деятельность индивида будет определять несколько изначаль- ных связей (случаи с двойным гражданством, интернациональными семьями и пр.).
Использования нового методологического подхода, представленного в данной статье, актуально не только для социальной философии, но и для других дисциплин, занимающихся исследованием современного общества и его структуры, – социологии, культурологии, миграционных исследований и др. В современном мире, где перманентная мобильность индивидов становится нормой, вышеназванные дисциплины нередко испытывают сложности с выбором подхода к изучению общества и его структур. Транснационализм может быть использован как инструмент, открывающий перед гуманитарными и социальными науками принципиально новые пути развития, каждый из которых будет разрабатываться с учетом актуальных эмпирических данных (миграционная статистика, отчеты международных компаний и пр.) и, в свою очередь, способен открыть перед исследователями новые направления поиска информации.
Список литературы Транснационализм как новая перспектива исследования современного общества
- Афанасьев В.Г. Системность и общество. М.: Издательство политической литературы, 1980.
- Бек У. Что такое глобализация? М.: Прогресс-Традиция, 2001.
- Костенко В.В. Теории миграции: от ассимиляции к транснационализму // Журнал социологии и социальной антропологии. 2014. Т. 17. № 3. С. 62–76.
- Мишулин А.В. Марксистско-ленинская теория исторического процесса // Вестник древней истории. 1938. № 4. С. 3–12.
- Пружинин Б.И. Воспроизводимость эксперимента как инструмент познания (эпистемологический анализ) // Вопросы философии. 2021. № 10. С. 18–28.
- Степанов А.М. Транснациональный подход в современных миграционных исследованиях // Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология. 2018. Т. 11. № 1. С. 116–127.
- Юдина Т.Н. Миграция: словарь основных терминов. М.: Издательство РГСУ; Академический Проект, 2007.
- Crawley, H., McMahon, S., Jones, K., Duvell, F. and Sigona, N., 2016. Destination Europe?: Understanding the dynamics and drivers of Mediterranean migration in 2015. Coventry: Coventry University.
- Faist, T., Fauser, M. and Reisenauer, E., 2013. Transnational migration. Cambridge: Polity Press.
- Hannerz, U., 1996. Transnational connections: culture, people, places. London: Routledge.
- Hermans, H.J.M. and Kempen, H.J.G., 1998. Moving cultures: The perilous problems of cultural dichotomies in a globalizing society. American psychologist, Vol. 53, no. 10, pp. 1111–1120.
- Hess, S., 2011. Welcome to the container. Zur wissenschaftlichen Konstruktion der Einwanderung als Problem. In: Friedrich, S. ed., 2011. Rassismus in der Leistungsgesellschaft. Analysen und kritische Perspektive zu den rassistischen Normalisierungspozessen der „Sarrazindebatte“. Münster: Edition assemblage, pp. 40–58.
- Kimmich, D. and Schahadat, S., 2012. Einleitung. In: Kimmich, D. and Schahadat, S. eds., 2012. Kulturen in Bewegung: Beiträge zur Theorie und Praxis der Transkulturalität. Bielefeld: Transcript Verlag, pp. 7–21.
- Kossoff, G., 2019. Cosmopolitan localism: The planetary networking of everyday life in place. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, no. 73, pp. 51–66.
- Nowicka, M., 2019. Transnationalismus. Baden-Baden: Nomos Verlag.
- Pries, L., 2010. Transnationalisierung: Theorie und Empirie grenzüberschreitender Vergesellschaftung. Wiesbaden: Springer.
- Scott, A.J., 2019. City-regions reconsidered. Environment and Planning A: Economy and Space, Vol. 51, no. 3, pp. 554–580.
- Schlosberg, D., Rickards, L. and Byrne, J., 2017. Environmental justice and attachment to place: Australian cases. In: Holifield, R., Chakraborty, J. and Walker, G. eds., 2017. The Routledge Handbook of Environmental Justice. London; New York: Routledge, pp. 591–602.
- Schmitz, A., 2014. Transnational leben. Bildungserfolgreiche (Spät-) Aussiedler zwischen Deutschland und Russland. Bielefeld: Transcript.
- Simmel, G., 1908. Exkurs über den Fremden. In: Simmel, G., 1908. Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung. Berlin: Duncker & Humblot, pp. 509–512.
- Snooks, G., 1996. The dynamic society. The sources of global change. London; New York: Routledge.
- Vertovec, S., 2009. Transnationalism. London: Routledge.
- Wimmer, A. and Glick Schiller, N., 2002. Methodological nationalism and beyond: nationstate building, migration and the social sciences. Global networks, Vol. 2, no. 4, pp. 301–334.