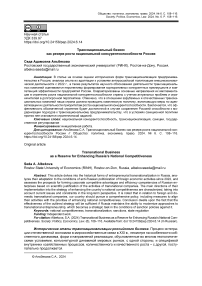Транснациональный бизнес как резерв роста национальной конкурентоспособности России
Автор: Альбекова С.А.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Экономика
Статья в выпуске: 6, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе оценки исторических форм транснационализации предпринимательства в России, анализа опыта их адаптации к условиям антироссийской политизации внешнеэкономической деятельности с 2022 г., а также результатов научного обоснования деятельности транснациональных компаний оцениваются перспективы формирования корпоративных конкурентных преимуществ и компетенций эффективности предприятий России. Охарактеризованы основные направления их имплементации в стратегию роста национальной конкурентоспособности страны с учетом актуальных проблем и ограничителей в долгосрочной перспективе. Отмечено, что в отношении зарубежных и отечественных транснациональных компаний наша страна должна проводить комплексную политику, включающую меры по адекватизации их деятельности приоритетам роста национальной конкурентоспособности. Заключается, что эффективность обозначенной стратегии будет достаточной в случае сохранения Россией способности к модернизации подходов к транснациональному предпринимательству, что в условиях санкционной политики против нее становится стратегической задачей.
Национальная конкурентоспособность, транснационализация, санкции, государственное регулирование
Короткий адрес: https://sciup.org/149145890
IDR: 149145890 | УДК: 339.97 | DOI: 10.24158/pep.2024.6.14
Текст научной статьи Транснациональный бизнес как резерв роста национальной конкурентоспособности России
Россия и в 2024 г. благодаря природному, человеческому, технологическому потенциалам и возможностям потребительского рынка продолжает представлять собой интерес для деятельности иностранных компаний; одновременно хоть и с определенными сложностями, детерминированными в большей степени внешними условиями, продолжается развитие отечественных транснациональных компаний (ТНК), их зарубежная экспансия, реструктурирующее национальную экономику воздействие.
До пика трайбализации процесса экономической экспансии отечественных ТНК (с 2014 г. до настоящего времени) в условиях проводимой государством политики открытости национальной экономики, благоприятности условий для экспансии отечественных ТНК изначально на рынки стран Содружества Независимых Государств (СНГ) (потенциал восстановления производственно-распределительных цепочек советского наследия, потребности экстенсивного роста, отсутствие конкуренции на рынках стран СНГ, в основном, оцениваемых в то время как высоко рискованные для глобальных лидеров), а затем и в дальнее зарубежье, в России сложилась ситуация, при которой отечественный рынок, далекий от максимальной консолидации, представлял собой максимальный интерес для иностранных корпораций, тогда как деятельность российских компаний, заинтересованных в вертикальной интеграции, обеспечении себе комфортных условий хозяйствования (преодолении торгово-политических барьеров), доступа к инновациям, передовым технологиям, а также мотивированных желанием нивелировать фактор непредсказуемости и непрозрачности системы государственного экономического регулирования в России посредством приобретения иностранных активов и депатриации получаемых в нашей стране доходов, была в большей степени ориентирована не внешнеэкономический контур.
Обобщая транснационализацию отечественных компаний, определяя логику ее последовательности как реакцию бизнеса на динамизм факторов внутренней и внешней среды, можно выделить ряд этапов этого процесса.
На первом из них (консолидация, 1990-е гг.) российские ТНК обладали достаточно высоким уровнем научно-технической базы (наследие СССР), были практически лишены любой формы государственной поддержки, однако получили отличные возможности для эксплуатации природно-ресурсного и трудового потенциала страны, что определило консолидационную динамику именно в топливно-энергетическом (покупки активов в странах ближнего зарубежья и Восточной Европы компаниями ЛУКойл, Газпром, ТНК и Татнефть), металлургическом (консолидации внутри страны с целью воссоздания вертикально интегрированной цепи поставок) секторе, а также в сфере финансов (синдицированные кредиты российских частных банков).
В нулевые годы стартовал второй период, логично следующий за консолидацией, а также последствиями финансового кризиса 1998 г. (рост доходности сырьевых компаний благодаря обесцениванию рубля и росту мировых цен на энергоносители), в течение которого величина накопленных зарубежных активов российских ТНК возросла в 25 раз (Драчева, Либман, 2000).
Постепенно процесс транснационализации начинает затрагивать несырьевой сектор (розничную торговлю, финансовые и страховые услуги, телекоммуникации), аффилированный либо никак не связанный с лидирующими нефтегазовыми или металлургическими холдингами. В этот же период заметно активизировалось государство, начавшее «собирать осколки» советского наследия в рамках государственных корпораций, стратегически ориентированных на превращение в национальных чемпионов транснационализации.
С 2005 г. изменилась география зарубежной экспансии российских ТНК, среди направлений которой помимо ставших привычными государств СНГ, появились страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) (страны - транзитеры российской нефти и газа Румыния, Болгария, энергетические, металлургические, финансовые активы Сербии, Македонии, Боснии, Хорватии и т.д.), Ближнего Востока (Турция), Африки (как альтернатива росту добычи сырья в России (вертикальная интеграция предприятий «Алроса», «Ренова», «Русал», «Норильский никель», «Синтезнефтегаз»)) (Маглинова, 2019).
Несмотря на более скромные достижения, росло и присутствие российского инвестиционного капитала на рынках стран Западной Европы и Северной Америки (топливно-энергетический комплекс, металлургия, транспортные проекты, производство бытовой химии и косметики), хотя приоритетами отечественных компаний на них был, прежде всего, прямой доступ к потребителям и производственным технологиям (Ким, 2016).
С другой стороны, к 2010 г. на территории Российской Федерации уже функционировали 80 из 100 крупнейших транснациональных корпораций (24 американских, 16 японских, 10 немецких, по 8 французских и английских (Рудык, 2000)). Рост внутреннего потребления в России трансформировал стратегические интересы выхода иностранных ТНК. Если в начале 2000-х гг. основной целью их была оптимизация и адаптация под условия отечественного спроса производственных процессов (в том числе и ориентированная на обход таможенных барьеров), транснационализация российской электроники и электротехники, фармацевтики, производство товаров гигиены, продовольствия, табака, а также доступ к природным ресурсам, то уже с 2005 г. лидерами транснационализации в России стал ритейл (Metro, Achan, Ikea) и автомобилестроение (Toyota, Hyundai, Kia, BMW, Chevrolet).
В любом случае среди стратегий выхода на российский рынок иностранных производителей никогда не была заметна экспортная ориентация (массовое производство продукции с дальнейшим выводом ее на зарубежные потребительские рынки), как, к примеру, в Китае или Таиланде в 1990-х гг. либо в Индонезии и Бангладеш сегодня. Это соотносится с давно доказанной убежденностью в низкой глобальной конкурентоспособности России как места производства однотипных и относительно простых товаров народного потребления (распределение ресурсов по территории страны, особенности логистики, климатические особенности, специфика человеческих ресурсов страны и т. д. (Паршев, 2021)) с аналогизацией экономического прогресса России лишь с экспортом либо уникального сырья, либо дифференцированных товаров «сложного производства», обладающих высокой нормой добавленной стоимости и мультипликативным эффектом.
Деятельность зарубежных корпораций в России до 2014 г. основывалась на обеспечении их долгосрочного доступа, с одной стороны, к ресурсам страны (сельскохозяйственным, энергетическим, сырьевым), а также к перспективному растущему внутреннему потреблению (монополизация розничной торговли как высшая стадия вертикальной интеграции).
Современный этап транснационализации российского предпринимательства . Современный этап (с 2014 г.) развития транснационализации в России связан в первую очередь с существенным ухудшением ее условий (рост санкционного давления, торговые войны), изначально ориентированных на отечественные ТНК (ограничения на их доступ к зарубежным источникам капитала (Барковский и др., 2015; Макарова, 2015; Хамитова, 2014; Чалык, Морозова, 2014), производственным факторам, рынкам сбыта, прежде всего, в странах коллективного Запада (Ким, 2015: 30), а с 2022 г. – и на иностранные корпорации, активно развивающие бизнес на территории нашей страны.
До 2022 г. на российском рынке работали более 3 тыс. зарубежных компаний (большинство из которых представляли страны Европы (1890, из них 1389 – из Евросоюза) и Северной Америки (763); они функционировали в секторе финансов и платежей (226 компании), потребительских товаров и одежды (221 компания), энергетики, нефти и газа (202 компании), электроники (194 компании) и ИТ (192 компании), играя заметную роль в отечественной экономике (около 2 млн рабочих мест, суммарные налоги примерно 25 млрд долл. США)1.
Уход иностранных компаний из России был проблематичным еще и по причине неравномерности отраслевой концентрации иностранного капитала (наиболее транснационализирован-ные отрасли отечественной экономики – ритейл, производство напитков, отдельных продуктов питания, строительных материалов, автомобилестроение столкнулись с максимально серьезными вызовами), а также множественности форм присутствия нерезидентов (от владения миноритарным пакетом акций до стратегических соглашений, не основанных на собственности), определивших и вариативность форм ухода компаний (от полной ликвидации бизнеса до смены собственника активов и бренда) с российского рынка.
Согласно результатам исследования Университета Санкт-Галлена и бизнес-школы IMD, к концу 2022 г. лишь 8,5 % компаний, представляющих Евросоюз и страны G7, прекратили свою деятельность в РФ2. Безусловно, наиболее активно «покидали» Россию компании из «недружественных стран» (из 170 компаний со штаб-квартирой в Японии ушли 35 %, из 16 тайваньских – 31 %, из 10 сингапурских – 40 % (Егоров, Чатурова, 2024).
Многие компании из стран Евросоюза не изменили режим работы в России (41 %), часть организаций приостановила свою деятельность – 33 %. Большинство компаний из Австрии, Венгрии, Германии, Греции, Италии и Словении продолжают работу в России без изменений; более 50 % организаций из Дании, Ирландии, Испании, Литвы, Люксембурга, Польши, Финляндии, Чехии, Швеции и Эстонии ушли из России (Егоров, Чатурова, 2024).
В отраслевом срезе можно выделить виды деятельности, компании в которых в подавляющем большинстве остаются в России, это: сфера безопасности и индивидуальной защиты – 82 %, морских перевозок – 74 %, фармацевтики и здравоохранения – 61 %, металлургии – 60 % (Егоров, Чатурова, 2024).
Потеря рабочих мест в результате ухода иностранных компаний оценивается в 372 тыс. единиц (26 % всех рабочих мест зарубежных компаний)1.
Отечественный рынок претерпел определенные трансформации, стимулированные стремительным уходом иностранных корпораций. Так, их бренды активно заменяются аналогичными отечественными или из лояльных государств (например, торговые марки «Добрый» и «Черноголовка», поднявшиеся в рейтинге FMCG-брендов 2023 г. на 13 и 70 позиций соответственно2, рост импорта высокотехнологичной продукции из стран Азии (за восемь месяцев 2023 г. доля КНР в экспорте автомобилей в Россию составила 92 %3)).
Изменилась и структура корпоративных лидеров (согласно списку Forbes Russia): Leroy Merlin (розничная торговля, Франция), JT Group (табачные изделия, Япония), Philip Morris International (табачные изделия, США) стали лидерами по выручке в России в 2023 г. В десятке списка Forbes также PepsiCo, Elo Group (сети «Ашан» и «Атак»), нидерландская Veon (до декабря 2023 г. владела российской телекоммуникационной компанией «Вымпелком»)4. В списке также представлены: немецкая группа Metro, американская Mars и швейцарская Nestle. Замыкает десятку китайский автопроизводитель Chery Automobile, который заработал в России почти 150 млрд руб. Впервые в рейтинге появились компании из Таиланда (CP Foods инвестирует в сельское хозяйство), Казахстана (Polymetal International) и Беларуси («Торговый дом “БелАЗ”» и холдинг Santa, занимающийся продуктами питания). При этом рейтинг покинули прошлые лидеры – Volkswagen Group, Renault, Apple, Toyota Motor и Samsung Electronics5.
Отечественные транснациональные корпорации по аналогии с иностранными активно стимулировали конкурентоспособность России, прежде всего за счет постоянного повышения стандартов работы, улучшения условий труда, доведения их до общемировых стандартов, наличия большей (нежели в нулевые годы) корпоративной заинтересованности в развитии экономики страны базирования (в том числе и по причине государственного участия в собственном капитале (Егорова и др., 2014)), роста интеграции передовых методик менеджмента и бизнес-проектиро-вания в российскую практику, диверсификации экспортных рынков и внешнеэкономической деятельности в общем, весомой доли ТНК в формировании федерального и региональных бюджетов (50 крупнейших российских налогоплательщиков платят около 47 % всего объема корпоративных налогов в России6).
Кризисы, через которые прошла отечественная экономика за последние 15 лет (в том числе мировой кризис 2008 г., экономический шок от пандемии коронавируса 2019–2020 гг.; а также геополитические вызовы, с которыми столкнулась Россия с 2014 г. по настоящее время) по-разному сказывались на развитии отечественных ТНК.
Мировой кризис 2008 г. (связанный в большей мере с дисбалансом финансовых рынков, логично вызвавший падение показателей всех отраслей хозяйства (Конина, 2018)) оказал в целом более существенное влияние на мировую экономику, чем краткосрочный по своим последствиям кризис 2019–2020 гг. (в течение которого ограничительные меры распространялись лишь на конкретные отрасли экономики), однако его последствия во многом были сглажены сохранением высокой мировой цены на энергоносители.
Антисанкционная адаптация как источник факторов конкурентоспособности отечественных ТНК. Кризис 2022 г., связанный с началом Россией специальной военной операции на Украине и продолжающийся в настоящем, нанесет экономике страны и российским ТНК более значительный ущерб, нежели все предыдущие ввиду активного применения инструмента санкций, направленных против российских ТНК (запрет на проведение операций с зарубежными контрагентами), банковской отрасли (запрет на кредитование, инвестирование), оборонно-промышленного комплекса, физических лиц и т.д., по результатам внедрения которых появляется риск потери российскими ТНК (особенно имеющими ключевое значение для российской экономики) самого статуса транснациональной корпорации. Многие из них были ограничены в возможности ведения бизнеса в странах Евросоюза, США и ряде других государств, вынужденно закрыли свои филиалы, а также предложили определенные (зачастую оригинальные) инструменты адаптации к новым экономическим реалиям (в том числе и связанные с активной государственной поддержкой, ручным регулированием и жесткой регламентацией внешнеэкономической деятельности в новых условиях.
Среди основных направлений адаптации отечественного транснационального бизнеса, прежде всего, можно указать на его ориентализацию, переориентацию на Восток и Юг (практически все, за исключением Segezha Group, попавшие в 2022 г. под секторальные санкции нефтегазовые, угольные, золотодобывающие, алмазодобывающие и металлургические предприятия при обнулении собственного экспорта на запад успешно справились с вызовом).
Интересно отметить, что во многом благодаря мировому продовольственному кризису, в настоящее время практически не пострадали производители удобрений («Фосагро», «Акрон», «Куйбышевазот»).
Финансовая сфера России также была вынуждена спешно ориентализироваться – Сбер открыл второй филиал в Мумбае, ВТБ – в Шанхае, Тинькофф запустил международные переводы в индийских рупиях; санкт-петербургская биржа в июне 2022 г. начала торги акциями компаний из Гонконга1. Во многом это стало возможно благодаря активизации процессов межгосударственного сотрудничества (подписание многочисленных договоров и соглашений о сотрудничестве, подключение России к платежным системам «дружественных» стран).
Вторым направлением адаптации отечественных ТНК к кризисным условиям внешнеэкономической деятельности стала диверсификация бизнеса. Учитывая особенности санкций (зачастую персонифицированных, адресно направленных на конкретную отрасль, российские ТНК для снижения негативного воздействия увеличивали долю в непрофильном бизнесе, развивали продуктовую линейку.
Некоторые российские компании на фоне ухода зарубежных конкурентов решили активнее вкладываться в развитие местного бизнеса. Наибольший прирост инвестиций был замечен у Globaltrans (покупка «БалтТрансСервиса»). Капитальные расходы также значительно увеличились у Fix Price – за год этот показатель вырос с 6,279 до 12,015 млрд руб. (крупные вложения в строительство двух распределительных центров); «Норникеля», групп «Позитив» и «Фосагро» (рост инвестиций в Россию на 30–50 %)2.
Третьим направлением стали активные слияния и поглощения (прежде всего с участием представителей среднего эшелона бизнеса с целью сохранения иностранных рынков, активов, возможности осуществлять международные платежи и т. д.; а также связанные с приобретением активов ушедших зарубежных транснационалов).
Наиболее активными покупателями активов в 2022–2023 гг. были: АФК «Система» (10 отелей у норвежской компании Wenaas; рост доли до 48,8 % в строительной группе «Эталон»; покупка Natura Siberica, «Архыз-оригинал», компаний по переработке красной рыбы на Камчатке); ВТБ (100 % акций группы «Открытие» за 340 млрд руб.); «Яндекс», «Самолет» и «Татнефть»3.
Еще одним направлением адаптации отечественного крупного бизнеса к санкциям (ориентированным на блокировку финансовой инфраструктуры денежных переводов, в первую очередь) стала редомициляция с целью сохранения и нормализации процесса выплаты дивидендов. Так, VK Group в 2023 г. объявила о возможности переезда с Британских Виргинских островов обратно в Россию4.
Объем прямых иностранных инвестиций в РФ сократился с 2021 г. более чем на 30 % (402 млрд долл. США5), однако финансовые вливания в основной капитал предприятий (благодаря росту импортозамещения, государственным вложениям в оборонно-промышленный комплекс, строительству, приобретению ушедших из России зарубежных ТНК) увеличились на 4,6 %6.
В структуре иностранных инвестиций отечественных корпораций также произошли изменения – самым крупным получателем в 2023 г. стали Казахстан (53 %), Узбекистан и Азербайджан7.
Таким образом, несмотря на сложность современной ситуации и во многом ее уникальность (ни одна из крупных экономик мира никогда не оказывалась в схожем с Россией положении, обремененном ростом расходов на проведение специальной военной операции на Украине, логичной милитаризацией экономики), отечественная народнохозяйственная система не рухнула в условиях стремительного ухода многочисленных транснациональных корпораций из «недружественных» стран, а российский бизнес (в особенности интегрированный в мирохозяйственные связи и наиболее пострадавший в результате введения санкций) оказался способным оперативно адаптироваться к изменившимся условиям и даже продемонстрировал рекордный рост корпоративной прибыли уже в 2023 г. (в третьем квартале российские компании получили рекордную чистую прибыль в 11,3 трлн руб.1).
Данный вывод позволяет рассматривать отечественные ТНК (в первую очередь) как ресурс роста национальной конкурентоспособности даже в условиях стремления стран коллективного Запада к полной экономической изоляции нашей страны, которая на фоне полиполяризации мирового хозяйства, роста экономического и политического значения макрорегиональных экономических союзов (в первую очередь, актуальных для России БРИКС и ЕАЭС), не представляется возможной.
«Национализация» компетенций эффективности отечественных ТНК как компонента стратегии роста национальной конкурентоспособности . Национальная конкурентоспособность России, факторами которой выступают, в том числе, и конкурентоспособность отечественных ТНК, сложившаяся структура государственного экономического регулирования, сохраняет свое глобальное значение.
Очевидна необходимость превращения отечественной стратегии повышения конкурентоспособности в комплекс действий, направленных на внешние и внутренние ориентиры, основывающиеся на росте благосостояния общества и высокой конкуренции внутри страны, рассматривающий международные, межотраслевые, частные взаимодействия, отношения, возникающие в процессе потребления, предполагающий консолидацию усилий государства и транснационального бизнеса по наиболее проблемным направлениям российской конкурентоспособности.
В структуре принимаемых государством мер по стимулированию роста отечественной конкурентоспособности можно выделить пять ключевых направлений, по большей степени связанных с преодолением проблем неэффективной эксплуатации природного потенциала страны (более низкой, чем в среднем по миру и среди проанализированных в исследовании государств), реализация которых потребует модернизации и общеэкономических условий, и внешнеторговой политики, а также отраслевой поддержки в рамках реализации регионально-кластерного подхода.
Подобные меры, прежде всего, должны концентрироваться в отношении сфер – сырьевых чемпионов (нефтегазовая, лесозаготовительная, алюминиевая и никель-кобальтовая отрасли промышленности, по экспорту продукции которых Россия занимает 1–2 место в мире), сфер, в которых Россия обладает уникальными преимуществами (авиакосмическая, атомная и оборонная промышленность), а также характеризующихся растущими рынками (промышленность, строительство, связь, торговля и общественное питание) (Французова, 2018; Шульгина, 2018).
Межотраслевые меры должны быть направлены на рост национальной конкурентоспособности производства за счет развития кластеров, способных превратить группу компаний в ядро промышленного развития, для которых необходимы: устранение барьеров для местной конкуренции; организация соответствующих государственных органов вокруг кластера; сосредоточение усилий для привлечения иностранных инвестиций; создание специализированных программ обучения и переподготовки; построение исследовательской работы в местных университетах по разработке связанных с кластером технологий; поддержка сбора и обработки информации, относящейся к деятельности кластера, улучшение специализированной транспортной инфраструктуры, коммуникаций.
В своей внешнеэкономической политике Россия должна стимулировать экспорт и реализовывать стратегии импортозамещения, в том числе и с использованием опыта деятельности отечественных ТНК, которые в условиях санкционного давления оказались способными переформатировать корпоративные трансграничные цепи создания стоимости, переориентировать собственный экспорт на альтернативные рынки факторов производства и импортных составляющих. В этой связи многократно растет актуальность интеграции в рамках ЕАЭС как стратегической цели стабилизации экономического развития России, обеспечения ее большей устойчивости, автономности от воздействия возможных внешних санкций.
Приход иностранных ТНК не означает достойной оценки отечественной конкурентоспособности (лишь в части доступности сырья и трудового ресурса), но вот анализ таких критериев деятельности иностранных ТНК в национальной экономике, как их инновационность, локализация производства, ориентированность на внутренний рынок, конкурентоспособность производимой продукции, заинтересованность в росте квалификации национальной рабочей силы, социальная ответственность, каталитический эффект (возможность развития параллельных отраслей, распределение мультипликативного эффекта, привлечения дополнительных иностранных инвестиций), во многом характеризующих место России в транснациональной корпоративной системе международного разделения труда, может рассматриваться как потенциальный источник роста национальной конкурентоспособности в будущем.
Посредством такой селективной системы государство может определиться с перечнем иностранных ТНК на своей территории, в отношении которых создание и поддержание системы распространения факторов конкурентоспособности будут адекватными стратегическим приоритетам роста национальной конкурентоспособности и могут включать в себя:
-
– дополнительные преференции (налоговые, бюджетные, инвестиционные) в случае роста локализации процесса производства на собственной территории, количества представителей национального бизнеса, аффилированного в структуру ТНК, квалифицированных рабочих мест, предоставляемых ТНК, доли внутреннего потребления производимой продукции;
-
– распространение существующих льгот для местного бизнеса (связанные с разработкой инноваций, проведением НИОКР, импортом высокотехнологичного оборудования или ноу-хау, экологизацией) на ТНК;
-
– поддержка распространения корпоративных стандартов и технологий работы среди максимального количества заинтересованных участников (их популяризация, публичные обсуждения, внедрение в стандарты работы профильных учебных заведений, саморегулируемых организаций, отраслевых министерств и так далее);
-
– кластерные инициативы государства с целью аккумулирования мультипликативного эффекта на своей территории (к примеру, приоритетное развитие смежных отраслей в регионах концентрации производственных мощностей и центров ТНК);
-
– процесс привлечения иностранного капитала (прямые инвестиции) логично должен быть минимально дерегулирован. В отношении же репатриации прибыли (вывоз капитала, что является одним из негласных условий роста инвестиционной привлекательности производственных или распределительных мощностей страны в структуре ТНК) должны применяться ограничивающие меры (свободный вывоз полученной прибыли в границах общей нормы локализованной прибыли компании до налогообложения за предыдущий год и дополнительные ограничения на вывозимые суммы сверх годового норматива), бремя которых должно снижаться в случае привлечения ТНК средств местных инвесторов;
-
– в отношении экспорта (простота экспорта – один из важных факторов прихода иностранных корпораций, но в то же время и причина формирования экспортозависимого производства) процедуры должны быть более избирательны и увязаны с динамикой локализации производства ТНК, а также с востребованностью производимой продукции на российском рынке.
В отношении отечественных ТНК государство должно также проводить селективную политику (по аналогии с зарубежными) и определять особенности взаимодействия, учитывая:
-
– степень зависимости национальных ТНК от использования местных исчерпаемых ресурсов;
-
– уровень обработки продукции и локализации производства национальных ТНК;
-
– экспортный потенциал продукции национальных ТНК;
-
– доля готовой продукции ТНК, реализуемой на национальном рынке;
-
– величина мультипликативного эффекта деятельности национальных ТНК.
Аналогичным способом государство должно регулировать экспортно-импортные операции собственных ТНК, оставаясь особенно внимательным к процессу инкорпорированного международного трансфера капитала (местные ТНК могут использовать собственные сетевые преимущества с целью выведения капитала в более комфортные, стабильные, с меньшим налоговым обременением юрисдикции).
Создав определенные условия адекватизации деятельности отечественных ТНК приоритетам роста национальной конкурентоспособности, государство должно продолжать оказывать поддержку их зарубежной экспансии (с применением в том числе инвестиционного ресурса, привлекая партнеров к реализации крупных государственных проектов развития, обеспечивая квалифицированной рабочей силой, оказывая дипломатическую поддержку за границей и т. д.), реализовывать политику формирования собственных трансграничных производственно-распределительных сетей и в перспективе диссеминации конкурентных преимуществ в национальной макроэкономической системе.
Наконец, само государство также должно являться рецептором конкурентных преимуществ, генерируемых транснациональным предпринимательством, безусловно, с поправкой на различия принципов его функционирования от рыночных, ориентированных сугубо на рост дохода и экономическую эффективность.
Успех реализации стратегии национализации корпоративных факторов конкурентоспособности будет во многом определяться и способностью самого государства к модернизации, имплементации им принципов технологического лидерства, сетевых взаимодействий, проектного подхода, свойственных в настоящее время транснациональному предпринимательству.
Безусловно, попытки изолировать Россию от международных экономических связей в ответ на проведение адекватной требованиям национальной безопасности политики не прошли бесследно, хоть, однозначно, и не оправдали ожиданий их инициаторов; более того, они стимулировали появление новых проблем в собственных экономиках последних (падение темпов промышленного производства, потребления, инфляция и т. д.).
Вместе с тем существенные трансформации российской экономики как в сегменте ее транснационального предпринимательства, так и в системе государственного экономического регулирования стимулировали формирование дополнительного ресурса конкурентоспособности бизнеса (в первую очередь транснационального), конвертация которого в факторы национальной конкурентоспособности – стратегическая задача власти на пути преодоления наиболее актуальных и значимых ограничителей.
Список литературы Транснациональный бизнес как резерв роста национальной конкурентоспособности России
- Барковский А.Н., Алабян С.С., Морозенкова О.В. Последствия западных санкций и ответных санкций РФ // Российский внешнеэкономический вестник. 2015. № 9. С. 3–7.
- Драчева Е.Л., Либман А.М. Проблемы глобализации и интеграции международного бизнеса и их влияние на российскую экономику // Менеджмент в России и за рубежом. 2000. № 4. С. 112–114.
- Егоров Д.О., Чатурова Д.И. Иностранные компании в российской экономике после начала СВО // ЭКО. 2024. № 1 (595). С. 72–95. https://doi.org/10.30680/ECO0131-7652-2024-1-72-95.
- Егорова Ю.А., Санников С.В., Фомина Л.А. Роль ТНК в экономике России // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2014. Т. 2, № 10. С. 137–138.
- Ким Т.Г. Дестабилизация российской экономики: экономические санкции и боевые действия // Вестник ИМСИТ. 2015. № 1 (61). С. 27–32.
- Ким Т.Г. Состояние российских ТНК в современных условиях // Вестник ИМСИТ. 2016. № 1 (65). С. 64–65.
- Конина Н.Ю. Проблемы деятельности российских ТНК в условиях санкций // Современный бизнес: основные векторы развития. М., 2018. С. 63–79.
- Маглинова Т.Г. Деятельность российских транснациональных корпораций в условиях экономических санкций // Экономические отношения. 2019. Т. 9, № 2. С. 589–596. https://doi.org/10.18334/eo.9.2.40807.
- Макарова Е.П. Влияние экономических санкций на деятельность фирм в России // Science Time. 2015. № 5 (17). С. 246–257.
- Паршев А.П. Почему Россия не Америка: версия 2.0. М., 2021. 352 с.
- Рудык Н.Б. Рынок корпоративного контроля: перспективы развития в РФ // Финансист. 2000. № 6. С. 40–42.
- Французова Е.С. Конкурентоспособность отечественной экономики: проблема повышения // Наука и образование в глобальных процессах. 2018. № 1. С. 132–133.
- Хамитова Ю.Ф. Влияние санкций на рост экономики России // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2014. № 8-9. С. 71–78.
- Чалык Е.А., Морозова С.А. Анализ влияния санкций на внутренний рынок России // Science Time. 2014. № 12. С. 594–596.
- Шульгина Д.Ш. Анализ конкурентоспособности российской экономики на основании рейтинга глобальной конкурентоспособности // Вестник современных исследований. 2018. № 7.2 (22). С. 295–297.