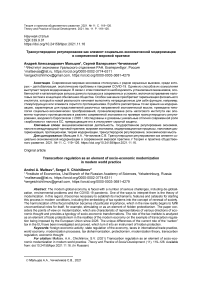Трансуглеродное регулирование как элемент социально-экономической модернизации в современной мировой практике
Автор: Андрей Александрович Мальцев, Сергей Валерьевич Чичилимов
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Экономика
Статья в выпуске: 11, 2021 года.
Бесплатный доступ
Современная мировая экономика столкнулась с рядом серьезных вызовов, среди которых – деглобализация, экологические проблемы и пандемия COVID-19. Одним из способов их осмысления выступает теория модернизации. В связи с этим появляется необходимость установления механизмов, особенностей и катализаторов запуска данного процесса в современных условиях, включая встраивание налоговых систем в концепцию обновления общества. Особое значение приобретает гармонизация фискального института, который в новой реальности начинает выполнять нетрадиционные для себя функции, например, стимулирующую или элемента скрытого протекционизма. В работе рассмотрены точки зрения на модернизацию, характерные для представителей различных направлений экономической мысли, приведена типология социально-экономических преобразований, проанализирована роль налогового института как эле-мента торгового протекционизма в реалиях современной экономики на примере трансуглеродного регулирования, вводимого Евросоюзом с 2026 г. Исследованы и доказаны уникальные отличия современной роли «карбонового» налога в ЕС, превращающие его в инструмент скрытой защиты
Внешнеэкономическая деятельность, государственное регулирование экономики, налоги в международной торговой практике, мировая экономика, модернизационные процессы, налоговая дисгармонизация, протекционизм, теория модернизации, трансуглеродное регулирование, экономическая мысль
Короткий адрес: https://sciup.org/149136519
IDR: 149136519 | УДК: 339.9.01 | DOI: 10.24158/tipor.2021.11.16
Текст научной статьи Трансуглеродное регулирование как элемент социально-экономической модернизации в современной мировой практике
Введение . Мировая социально-хозяйственная система в последние годы испытывает на себе влияние целого ряда неблагоприятных факторов. За 2010–2020 гг. уровень мировой безработицы вырос с 5,9 до 6,4 %1. Глобальный валовый продукт за этот же период увеличился на 28,1 %, однако в прошлые годы прирост фиксировался значительно больший: 2000–2010 гг. – 96 %, 1990–2000 гг. – 47,8 %, 1980–1990 гг. – 101 %2. И это с учетом всех кризисов и мировых потрясений минувших десятилетий, включая второй энергетический кризис и распад социалистического блока 1980-х гг., азиатский кризис 1997 г., мировой финансовый кризис 2007–2009 гг. С абсолютными показателями глобального валового внутреннего продукта (ВВП) и валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности (ВВП по ППС) на душу населения, ситуация схожая. Количество людей, живущих за чертой крайней бедности – меньше чем на 1,9 долл. США в день, сократилось за 2010–2019 гг. на 37 %, однако в «реальном» выражении в условиях экстремальной нищеты живет практически 700 млн человек по всему миру3. Количество людей, страдающих от недоедания, за 2010–2017 гг. снизилось в объеме статистической погрешности, то есть меньше чем на 1 %4. По предварительным оценкам экспертов ВОЗ5 и Всемирного банка6, пандемия COVID-19 обострила каждую из этих проблем. Вместе с тем мировая экономика столкнулась и с новыми вызовами – деглобализацией и гиперболизацией проблематики климатической повестки. Для адаптации к текущим реалиям требуется новая модель социально-экономической модернизации. Государства, первыми ее разработавшие и внедрившие в практику, станут будущими лидерами мировой экономики.
Сущность модернизации в современной теории . Разработке теории и осмыслению практики модернизационных преобразований в мировом хозяйстве посвящено множество работ известных специалистов – Д. Аджемоглу, Е.В. Балацкого, Н. Бойлера, С. Бродберри, С.Ю. Глазьева, А.П. Заостровцева, П. Марша, Э. Мэддисона, Д. Норта, Р.М. Нуреева, Т. Пикетти, И.В. Побе-режникова, А. Робинсона и др.
Cовременная теория модернизации стала результатом научных разработок многих исследователей, в частности, таких как П. Штомпка (Штомпка, 2013), В. Цапф (Цапф, 1998), У. Бек (Beck, 1992), С. Хантингтон (Хантингтон, 2003). В числе основных ее положений следует назвать следующие:
-
• локальные модели модернизации не просто существуют, а являются наиболее эффективными для местных рынков;
-
• ключевую роль играют международные и экзогенные факторы, действующие как основные триггеры и катализаторы реформ;
-
• повышенная роль социума и социальных факторов в процессах модернизации, возможность обеспечить рост или трансформацию ситуации посредством волевого вмешательства;
-
• появление рассуждений на тему исторической случайности и понимание необходимости рассматривать модернизационный процесс в историческом контексте;
-
• признание возможности проведения трансформации экономической системы поэтапно или посегментационно;
-
• осознание некорректности интерпретации модернизации как непрерывного социальноэкономического процесса.
Стоит отметить работу И.В. Побережникова «Теория модернизации: основные этапы эволюции», в которой проанализированы ключевые точки зрения на современную теорию модернизации и изложены принципы выведения универсального критерия, призванного помочь опреде- лить основные институты хозяйственной системы, которым требуется модернизация. Практический интерес представляет подробный разбор современных эталонных вариантов, созданных ведущими экспертами в области современной модернизации, к которым необходимо стремиться экономическим системам, страдающим от излишней традиционности (Побережников, 2001).
К началу XXI в. ученые сошлись во мнении о несостоятельности строгого противопоставления традиции и современности. Более того, сам подход к вопросу модернизации в корне пересмотрен. Она стала осознаваться следствием, а не пререквизитом успешного социально-экономического развития, и ее целью отныне признана трансформация экономических и политических институтов, которая может проводиться не только на базе копирования западных правил игры. Более того, взгляд на модернизацию стал не просто дуалистичным, как раньше, а многомерным.
Представители практически каждого направления экономической мысли предлагают собственные концепции модернизационных изменений и по-своему описывают их суть. Главное, на чем сосредоточились авторы в конце XX в. и начале XXI в., – причины, катализаторы и секреты успеха модернизации, а не пошаговое описание программы реформ. Объединяет большинство модернизационных теорий то, что их авторы склонны считать катализатором реформ, как правило, экзогенные факторы, побуждающие экономических и политических субъектов к действию. Именно внешние воздействия обнажают большинство проблем текущей экономической и политической реальности. А уже борьба с обнаруженными проблемами, которые ставят под угрозу существование текущей хозяйственной инфраструктуры, служит причиной запуска модернизационных процессов в государстве (табл. 1).
Таблица 1 – Основные причины начала модернизации с точки зрения основных течений экономической мысли (по Р.М. Нурееву (2008) и А.П. Заостровцеву (2014))
|
Экономическая школа |
Катализатор модернизации |
|
Неокейнсианская теория (Е. Домар (Domar, 1957), У. Ростоу (Rostow, 2012)) |
Вливание денежных средств в страну извне ради разрыва порочного круга бедности и перехода к самоподдерживающемуся росту. Постепенный уход от финансовой зависимости через преодоление технико-технологического отставания |
|
Неоклассическая теория (У. Льюис (Lewis, 1993), А. Хиршман (Hirschman, 1958) |
Межсекторный обмен и его субъекты (предприниматели) выступают главным катализатором прогресса, причем наиболее эффективна модель обмена между двумя странами. Таким образом, именно внешнеэкономическая деятельность дает предпринимателям максимальное количество ресурсов для модернизации экономики |
|
Цивилизационная теория (А. Тойнби (Тойнби, Хантингтон, 2016), О. Шпенглер (Шпенглер, 1993)) |
Столкновение двух (и более) цивилизаций есть путь либо к их гибели, либо к модернизации и выходу на новый уровень |
|
Австрийская теория (Д. Лал (Лал, 2020), Ф. фон Хайек (Хайек, 2009)) |
Обмен идеями на международном уровне создает мощный «пузырь» знаний, который продавливает текущие институты и запускает технико-технологический прогресс |
|
Институциональная теория (Г. Мюрдаль (Myrdal, 1968), Э. де Сото (Де Сото, 1995)) |
Прогресс порожден «хорошими» инклюзивными институтами – теми, которые позволяют максимизировать полезность каждого члена общества через свободу и индивидуализм |
|
Мир-системный анализ (Ф. Бродель (Бродель, 2006), И. Валлерстайн (Wallersteinl, 2011)) |
Модернизация как некая линейная структура отсутствует. Есть лишь отношения между периферией и ядром, которые постоянно изменяются. На основе этих отношений и происходит подгонка социально-экономической базы под нужды глобальной системы |
|
Бихевиоризм (М. Рабин (Rabin, 1993), Р. Талер (Талер, 2017)) |
Модернизация есть ответ государства на распространение информационного тумана, попытка его рассеять и сделать прозрачным для социума. Чем больше информационного тумана, поступающего извне, тем решительнее должны быть действия государства |
Как можно видеть из таблицы 1, большинство экономических школ предлагают авторские и не похожие друг на друга концепции. Однако совершенно точно, что все ключевые факторы введения и поддержки модернизации носят экзогенный характер. Впрочем, понимание катализаторов модернизации – лишь часть успеха. Необходимо определить, как влиять на эти факторы и с помощью каких инструментов направлять ход модернизации в нужное русло, повышая ее эффективность и позитивность всех долгосрочных результатов. Как раз этот вопрос в различных подходах к модернизации и трактуется зачастую полярно противоположно.
Для неоклассиков, как известно, секретом любого успеха выступает снижение барьеров для максимально свободной игры рыночной стихии.
Неокейнсианцы рассматривают теорию большого толчка как необходимый инструмент модернизации. Такой толчок может совершить только сильное государство, которое применит для этого структурный анализ экономики и сможет грамотно руководить всеми трансформационными процессами. Только государство знает, в каком направлении должна развиваться модернизация. Поэтому процессы реформ, с точки зрения неокейнсианцев, представляют собой прежде всего глубокие структурные изменения, охватывающие основные отрасли народного хозяйства.
Институционалисты всегда были верны себе. В XХ столетии Г. Мюрдаль выдвинул предположение, что для преодоления отсталости необходимо изменить систему вознаграждения за труд и осуществить перераспределение налогов, причем делать это должно государство (Myrdal, 1968). Отсюда вытекает примерно следующая логика рассуждений: модернизация есть такое изменение законодательства и государственного аппарата, которое приводит к улучшению жизни каждого хозяйствующего субъекта посредством создания максимально благоприятной системы стимулов для его участия в экономической жизни.
Сегодня именно эти три ключевые теории определяют инструментарий модернизационной теории, которым вооружены страны мирового хозяйства. При этом большинство экспертов выделяет два основных типа модернизационных процессов: органические и неорганические. Модернизация считается органической, когда происходит в обществе преимущественно под воздействием эндогенных факторов, при этом триггером подобных преобразований нередко выступают изменения в области культуры. Соответственно, неорганическая модернизация – прохождение по пути, уже протоптанному пионерами в вопросах реформ. Ключевые признаки трансформационных процессов в экономике определяют тип реализуемой модернизации (табл. 2).
Таблица 2 – Типология модернизационных процессов1
|
Ключевой признак |
Тип модернизации |
|
Время относительно лидера |
Первичная |
|
Вторичная |
|
|
Природно-географический фактор |
Европейская, североамериканская |
|
Азиатская, ближневосточная, латиноамериканская |
|
|
Основной катализатор |
Эндогенная |
|
Эндогенно-экзогенная |
|
|
Экзогенная |
|
|
Размещение ресурсов |
Рыночная |
|
Плановая |
Приведенная типология весьма хорошо описывает классические модернизационные процессы. Однако она не обеспечивает прозрачности в вопросе определения перспектив успеха или провала модернизации. Поэтому предлагаем в первую очередь смотреть именно на признак органичности модернизационных процессов, а также на наполнение самого процесса осовременивания экономики. Рассмотрим подробнее типологию модернизационной деятельности с точки зрения ее содержания, а не внешней характеристики изменений (табл. 3).
Таблица 3 – Типология модернизаций с точки зрения содержания
|
происходящих процессов2 |
||
|
Ключевой признак |
Тип модернизации |
Характеристика |
|
1 |
2 |
3 |
|
Эволюционная |
Протекает длительное время. Ее результаты являются логичным венцом сложившейся институциональной структуры в государстве. Социум – главный катализатор процесса. Яркие примеры – Голландия, Великобритания, Канада, Израиль |
|
|
Уровень изменений |
Революционная |
Протекает скачкообразно и быстро. Зачастую в ходе нее используется и адаптируется опыт других стран. Результаты изменений разрушают старые устои, выстраивая новую экономическую, политическую и культурную сферу в государстве. Государство – главный катализатор. Яркие примеры – Аргентина, «Японское чудо», «Сингапурское чудо», Мексика |
|
Полнота проведения |
Полная |
Разрушает старые ценности, заменяя новыми. На первых этапах может привести к ухудшению жизни. Имеет долгосрочный и отложенный эффект. Яркий пример – «немецкое экономическое чудо» |
|
Ложная |
Стоит на полумерах. Все инновации поддерживаются старой инфраструктурой, из-за чего начинаются конфликты между новым и старым. Главный сдерживающий фактор – лидеры старого порядка, экономисты, политики, социальные деятели. Примеры – СНГ, Латинская Америка |
|
Продолжение таблицы 3
|
1 |
2 |
3 |
|
Воссоздание |
Итерационная |
В ходе модернизации создается попытка имитировать доминирующую на данный момент в глобальной экономике хозяйственную систему. Примеры – Россия и некоторые страны СНГ в 1990-е гг. |
|
стандарта |
Самостоятельная |
Использование культурологических и институциональных особенностей для построения уникальной экономической системы в рамках государства. Примеры – реформы в Китае, Японии, Индии во второй половине XX в. – начале XXI в. |
Таким образом, любая модернизация стоит на трех китах: агрессивности по отношению к старому укладу, полноте проведения и уничтожения самой основы былых пережитков, а также желании подражать стандартам и нормам более успешных экономик мира, которые являются доминирующими в данный момент истории. Именно эти три основополагающих признака важнее первичности или вторичности модернизации. Ведь именно темпы изменения, глубина процессов креативного разрушения, а также культурное или контркультурное развитие определяют социально-экономические контуры государства, на которых базируются хозяйственная и общественная системы страны.
Деглобализация и экологический кризис как причины налоговой дисгармонизации . Остроту проживаемому современным мировым хозяйством моменту добавляют ускорившиеся в последние несколько лет процессы деглобализации и экологизации экономических систем. Активная фаза первой из них началась с официальным выходом 31 января 2020 г. из состава ЕС Великобритании – финансового центра и второй по величине экономики Старого света1. Отделение Англии от ЕС влечет не только серьезные последствия для бизнеса и населения Европы, но и создает опасный прецедент. Рост настроений сепаратизма усилился как внутри страны, так и в Старом свете в целом2. Тенденция к созданию небольших блоков, обеспечивающих интересы ограниченного количества членов, ярче всего иллюстрируется созданием 15 сентября 2021 г. Австралией, Великобританией и США трехстороннего оборонительного альянса AUKUS. После объявления об организации союза Австралия в одностороннем порядке аннулировала договор с Францией на поставку атомных подводных лодок на сумму в 56 млрд евро3. Стоит отметить, что разрыв деловых и оборонительных договоренностей у трех стран – участниц AUKUS произошел даже с традиционными партнерами. В новый альянс не вошли Канада и Новая Зеландия. Данные события все больше фрагментируют социально-экономическую картину мира, ставя под угрозу реализуемость глобальной цели обеспечения устойчивого экономического роста.
Для развивающихся и наименее развитых стран экологические издержки – очевидное последствие модернизационной индустриализации, которая должна стать фундаментом всей хозяйственной системы. Для развитых экономик «зеленая» повестка становится частью процесса сращивания тарифных и нетарифных методов регулирования. Один из самых ярких примеров реализации подобной стратегии на сегодня – объявленное в 2021 г. введение с 1 января 2026 г. трансграничного углеродного регулирования (ТУР) на территории ЕС4. Схема его включает в себя установление дополнительных барьеров для углеродоемкого импорта, которые должны уравнять регуляторную нагрузку для внутренних производителей и экспортеров, чем минимизировать риск «утечки углерода». К высокоуглеродным товарам отнесены нефть, природный газ (в том числе сжиженный), уголь (энергетический и металлургический), цветные металлы (алюминий, никель, медь) и изделия из них, продукция черной металлургии (окатыши, полуфабрикаты и прокат), нефтехимии, минеральные удобрения (азотные и калийные), электроэнергия и некоторые другие5. Из определения высокоуглеродных товаров становится ясно, что одна из ключевых целей вводимого ограничения – защита «собственной» добавленной стоимости, а также стимулирование возникновения цепочек создания добавленной стоимости внутри ЕС без привлечения сторонних импортеров. Данный пример очень ярко иллюстрирует безграничные возможности нововведения. По оценкам экспертов Института проблем естественных монополий, только прямые потери российских компаний, продукция которых является одной из самых высокоуглеродных в импорте ЕС, могут составить 2,3 млрд евро в год. Плюс косвенные потери от снижения потребления электроэнергии и тепла внутри РФ оцениваются в 222 млн долл.1
Строго говоря, углеродные налоги, считаясь «идеальным и самым естественным для рыночной экономики способом вытеснения различных парниковых технологий с заменой их на бес-парниковые» уже получили распространение в национальной практике отдельных стран и находят все больше сторонников. Во Франции, впрочем, быстрое повышение углеродного налога на топливо с 44 евро за 1 т СО 2 до 56 евро (при цене нефти примерно 80 долл. за 1 баррель) в 2021 г. вызвало массовые протесты (Алабужин, 2021: 43). Правда, это не повлияло, скажем, на решение Австрии, которая с 2022 г. вводит налог на СО 2 в размере 30 евро за 1 т выбросов в год с повышением до 55 евро к 2025 г. для предприятий и рядовых граждан. Объявленная цель «эко-социальной» реформы – изменить «экологическое поведение граждан». И хотя дается обещание все собранные средства вернуть населению, несомненные перспективы перекладывания бремени дополнительных расходов на потребителей как-то отводятся на второй план2.
Кстати, Казахстан первым из стран ЕАЭС заявил о планах ввести трансграничное углеродное регулирование по схеме ЕС, намереваясь взимать на границе не только импортную, но и экспортную пошлины. Следует иметь в виду, что Казахстан оценивает свои потери от ТУР в ЕС в 9 млрд евро в год к 2035 г. Возможно, имеется в виду расчет на то, что ЕС засчитает пошлины, которые казахстанские экспортеры заплатят при вывозе товаров из республики. Однако пока ТУР не предполагает возможности зачетов3.
Выводы . Обобщая сказанное, отметим:
-
• мировая практика определила основной причиной начала модернизации в стране необходимость реформирования хозяйственной системы под давлением совокупности внешних и внутренних факторов для обеспечения стабильного экономического роста. Ключевая особенность современного подхода к вопросу выбора стратегии модернизации заключается в признании роли культурологических и институциональных особенностей каждой отдельной системы. Широкую вариативность модернизационного инструментария обеспечивают в настоящее время разные подходы, зависящие от хозяйственных условий, в которых проводится реформа, и доминанты той или иной школы экономической мысли;
-
• типология модернизаций опирается на ключевые факторы их успешности в современных реалиях: первичность/вторичность проведения, состояние ресурсно-сырьевой базы, характер влияния эндо- и экзогенных факторов. Не менее важно понимание полноты и законченности проведенных реформ, уровень институционального копирования модели, применяемой лидерами мировой хозяйственной системы, а также темпы экономических изменений в «своей» стране. Для Российской Федерации при проведении модернизационных преобразований крайне значимо избегать попадания в ловушку неоконченных реформ;
-
• анализ проекта социально-экономической модернизации ЕС в направлении дальнейшей экологизации европейского сообщества задействованием нового инструментария трансуглеродного регулирования позволяет, во-первых, говорить о его ярко выраженном протекционистском характере: даже европейские регуляторы не скрывают того, что введение ТУР поможет за 2021– 2027 гг. наполнить евроказну дополнительными поступлениями в объеме от 5 до 14 млрд евро4. Во-вторых, за всеми этими перестроениями как-то почти не поднимается вопрос о реальной способности углеродных налогов волшебным образом модернизировать экономики стран, обеспечивая их углеродосберегающими технологиями, а население, скажем, – достаточным количеством «умных» энергосберегающих гаджетов, дешевой электроэнергией в необходимом количестве. В-третьих, при этом несомненно, что даже декларация «взять на вооружение» новый инструментарий может «фантастически быстро увеличить энергетическое неравенство» (Алабу-жин, 2021: 44) и спровоцировать ухудшение ситуации с энергообеспечением не только в Европе, но и, скажем, в Китае, чему события осени 2021 г. выступают наглядным подтверждением5.
Список литературы Трансуглеродное регулирование как элемент социально-экономической модернизации в современной мировой практике
- Алабужин И. Зеленая программа Евросоюза: процветание без затрат // Эксперт. 2021. № 27. С. 42–45.
- Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. М., 2006. 1670 c.
- Де Сото Э. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире. М., 1995. 320 с.
- Заостровцев А.П. О развитии и отсталости. Как экономисты объясняют историю? СПб., 2014. 248 с.
- Лал Д. Непреднамеренные последствия. Влияние обеспеченности факторами. М., 2020. 333 с.
- Мальцев А.А. Стратегии модернизации в мировой экономической практике. Екатеринбург, 2013. 216 с.
- Нуреев Р.М. Экономика развития. М., 2008. 366 с.
- Побережников И.В. Теория модернизации: основные этапы эволюции // Проблемы истории России. 2001. № 4. С. 217–246.
- Талер Р. Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики и как на этом заработать. М., 2017. 368 с.
- Тойнби А.Дж., Хантингтон С.Ф. Вызовы и ответы. Как гибнут цивилизации. М., 2016. 288 с.
- Хайек Ф. Судьбы либерализма в XX веке. М., 2009. 337 c.
- Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце XX века. М., 2003. 368 с.
- Цапф В. Теория модернизации и различие путей общественного развития // Социологические исследования. 1998. № 8. С. 14–26.
- Шпенглер О. Закат Европы. М., 1993. 592 с.
- Штомпка П. Модернизация как социальное становление (10 тезисов по модернизации) // Экономические и социаль-ные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2013. № 6 (30). C. 119–126.
- Beck U. Risk Society: Towards a New Modernity. L., 1992. 272 p.
- Domar E. Essays in the Theory of Economic Growth. N. Y., 1957. 272 p.
- Hirschman A. The Strategy of Economic Development. New Haven, 1958. 217 p.
- Lewis A.W. The Roots of the Development Theory // Handbook of Development Economics. 1993. Vol. 1. P. 27–37.
- Myrdal G. Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations. N. Y., 1968. 464 p.
- Rabin M. Incorporating Fairness into Game Theory and Economics // The American Economic Review. 1993. Vol. 5. P. 1281–1302.
- Rostow W. The Stages of Economic Growth. A Non-communist Manifesto. Cambridge, 2012. 272 p. https://doi.org/10.1017/CBO9780511625824
- Wallersteinl M. The Modern World System. Berkeley, 2011. 837 p.