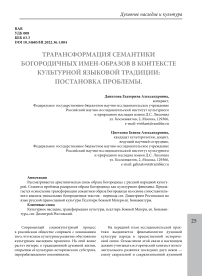Трарансформация семантики богородичных имен-образов в контексте культурной языковой традиции: постановка проблемы
Автор: Данилова Екатерина Александровна, Цветкова Галина Александровна
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Духовное наследие и культура
Статья в выпуске: 1, 2022 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается архетипическая связь образа Богородицы с русской народной культурой. Ставится проблема раскрытия образа Богородицы как культурного феномена. Предлагается осмысление трансформации семантики образа Богородицы на основе сопоставительного анализа уникальных богородичных текстов - перевода свт. Димитрием Ростовским на язык русской православной культуры Псалтири Божией Матери еп. Бонавентуры.
Культурное наследие, трансформация культуры, псалтирь божией матери, еп. бонавентура, свт. димитрий ростовский
Короткий адрес: https://sciup.org/170194521
IDR: 170194521 | УДК: 008 | DOI: 10.34685/HI.2022.36.1.004
Текст научной статьи Трарансформация семантики богородичных имен-образов в контексте культурной языковой традиции: постановка проблемы
Современный социокультурный процесс в российском обществе сопряжен с пониманием того, что всякое культурное развитие обусловлено культурным наследием прошлого. На этой волне растет интерес к традиционной духовной жизни, открытию её культурно-исторического субстрата, перерабатываемого поколениями.
На передний план исследовательской практики выдвигается феноменология духовной культуры народа в преемственной исторической связи. Осмысление этой связи в настоящем должно учитывать исторический контекст интеллектуального развития последних двух веков — смену сакральной и сакрализованной духовной культуры культурой секулярной и секуляризующейся культурой.
Для современного, наукоориентированного общественного сознания одной из точек скепсиса является признание христианского происхождения элементов многосложного культурного развития, хотя, априори, противостояние сакральных и секулярных культур не исключает их сосуществование и взаимовлияние. И более того, как бы ни казалось парадоксальным, но очевидно — христианские символы и образы константны в нынешней обыденности.
Независимо от степени воцерковленности, веры или неверия, присутствие их ощущается как бы самих по себе, как таковых, без прямой связи с религией и богословием, но в непосредственной, прямой связи с духовной жизнью. Этот феномен с достаточной полнотой открывается эмпирически как житейский опыт, а теоретически утверждается как ключевая особенность российского бытия, более того, признак национальной, цивилизационной идентичности: «драма нашей идентичности связана с тем, что она с самого начала носила не натуралистический характер, не довольствовалась наличностями этнического, географического и административно-державного толка, а являлась по преимуществу ценностнонормативной, духовной»1. Драма этой идеокра-тической идентичности — привязанности к священному идеалу — с особой остротой ощущается как проблема самосохранения, поскольку «всякая человеческая жизнь представляет собой культурную драму, в которой на каждый вызов внешней действительности человек отвечает не «непосредственно», а с позиции определенной культурной идентичности»2, которая, безусловно, не складывается исключительно на конфессиональной основе, а включает трудовой, бытовой и другие типы народного опыта. Поэтому исследование духовной жизни всегда затруднено проблемой соотношения, осознанного и латентного в её явлениях.
В комплексе вошедших в нынешнюю обыденную картину мира религиозных символов одно из главных мест занимает образ Богородицы. Истоки этой традиции как раз и восходят к субстратным корням русской народной культуры.
И обусловлено это тем, что с первых столетий христианства Богородица обрела статус практического, социального служения в качестве «заступницы передБогом, котораязнаетнужды игорестичелове-ка, … покровительницы рождения детей, семьи, продолжения рода»3, исходным пунктом которого является её священная роль Матери.
При этом культ Богородицы, почитание её исторически приобрело особенный вкус у разных народов, выражено особенным семантическим кругом, который не был результатом случайного стихийного предпочтения, а связан с субъективным выбором конкретного народа как отражение его ментальности.
Эта обусловленность образа Богородицы культурной идентичностью открывается в исторической ретроспективе. Так, «Западная Европа как бы разделяется между двумя основными символами христианства: Распятием и Мадонною. Это разделение соответствует … народностям, из которых составляется население … Суровый гений Тевтонский, сильный более мыслию, нежели чувством, расположенный преимущественнее к высоким потрясениям, чем к впечатлениям тихо, сладостно изящным, есть по превосходству чтитель Креста. Напротив, светлое воображение народов происхождения Романского предпочтительнее услаждается ликом Мадонны. Различие, имеющее глубокий смысл и неисчислимые во всех отношениях последствия! … Там, где царствует Мадонна, всё дышит кротким, мирным очарованием, удивительным изяществом»4.
И на Руси становление православного самосознания было тесно связано с образом Богородицы, и также семантика образа Богородицы наполнялась народными представлениями. Образ Богородицы утверждался своеобразным отражением народной духовности, демонстрацией неповторимого культурного своеобразия, выражаемого и образом, и чувством, и словом. Образ Богородицы в русской культуре стал многообразной разработкой инварианта святой по- мощи, связан с «максимализмом православного милосердия»5.
В календаре Русской Православной церкви официально поминается около 260 чтимых и чудотворных икон Богородицы, установлены отдельные дни празднования большинства икон, созданы многочисленные молитвы, тропари, кондаки и акафисты в их честь. При этом неформально насчитывается более 860 различных образов Богородицы (и бесчисленный ряд местночтимых чудотворных икон), которые появились в результате народной инициативы, в конкретных историко-культурных ситуациях. Не было на Руси города и веси, где не было бы своего предания о явлении Богородицы и личного, в связи с этим, именования её образа (Годы-шевская, Абульская, Мижевичская, Велятичская, Заставницкая, Цеговская, Будятичская и др.). Топонимические иконные имена демонстрируют масштаб распространения, а номинация иконографии Богородицы в русском языке являет глубину связи: «в имплицитной форме иконы содержат ассоциативную связь с конкретным типом изображения, т.е. сакрально-догматический концепт именования, заложенный в изобразительной семантике, … но эксплицированный локальный признак является непосредственным указанием на наличие в структуре номинации идеоэтнического концепта-события, возникшего на русской почве»6.
В народных представлениях с отзывчивостью Богородицы связываются насущные заботы, первичные жизненные потребности. В именном многообразии богородичных икон очерчен практически весь житейский круг: «Помощница в родах», «Млекопитательница», «Прибавление ума», «Скоропослушница, «Взыскание погибших», «Всех скорбящих радость», «Неупиваемая чаша», «Нечаянная радость», «Утоли моя печали», «Умягчение злых сердец», «Споручница грешных», «Сострадание» и др. Особенным эмоциональным содержанием и семантическим богатством выделяется икона «Умиление», не имеющая смысловых аналогов в греческом комплексе. В русских именованиях икон запечатлены эмо- ционально-чувственные отношения, глубокая интимная, доверительная связь с Богородицей, которая является производной от веры в вечную функцию персоны Богородицы — Защитницы и Покровительницы верных. Эта Её роль понята особым образом на Руси. Здесь «эта функция связывается не столько с сакральным событием, сколько с событием конкретной истории и его смыслом, преломленным в ракурсе этнических чудес, исходящих от персоны Богородицы. Сообразно этому, инвариантным значением всех имен-композитов, возникших на русской почве, является идеоэтнический мифологический концепт «Богородица — Защитница и Покровительница Земли Русской»7, воплощением чего понята русская история.
Образ Богородицы один из знаковых национального исторического мышления. Важнейшие события в истории России ознаменованы именем Богородицы, которое укоренилась культурным кодом всенародного единения перед лицом угрозы8. В критические дни бедствий сплочение и героизация русского народа стимулировались «покровом» Богородицы, верой в её невидимое присутствие. В XVII веке Кузьма Минин патриотическую стратегию единения обозначил священным победным символом: «Станем за Дом Пречистой Богородицы!», зная, что именно с этим призывом он будет услышан, впереди народного ополчения несли икону Богородицы «Казанская». В XXI веке аналогичным призывом единения, психологическим стимулом преодоления разобщающих, социально разрушительных следствий пандемии стал в 2020 году объезд вокруг Москвы с иконой Богоматери «Умиление» с молитвой об избавления от «напасти коронавируса». Это событие в общественном сознании коррелировалось с легендарным фактом «воздушного крестного хода» в 1941 году — облет над Москвой с иконой Богородицы на военном самолёте в самый разгар битвы и тем самым спасение города, было актом вневременной духовной связи.
Эффективность в социальном единении образа Богородицы исходит из диалектики отвержения, нигилизма и веры чудотворности избавления, латентного механизма исторической преемственности и сохранности «языка понятий и интересов», как проявление этоса. Эта данность связана с древнейшими представлениями, первопричинами, обобщенными метафорой: «по какой бы дороге ты ни шёл, ты не найдешь границ души, настолько она глубока», отсылающей к культурным архетипам, среди которых Богородица — женское начало православной культуры, «весь секрет которой в том, что православная культура не доверяет целиком рациональному Логосу, опирающемуся на знание законов и закономерностей, но не на сверхзаконническую интуицию правды-справедливости. Православная культура формирует иные презумпции: прочнее то дело, в котором лежит не столько мужской тип самоутверждения, сколько женское призвание самоотверженной любви»9.
Глубинное социокультурное значение образа Богородицы непредвзято раскрывается в духовных стихах и песнопениях.
Их излюбленными сюжетами были легенды, предания о Богоматери (таковыми часто бывают моления грешников10), образ которой зачастую подавался сквозь призму народных суеверий, был пронизан мистическим ужасом перед таинственными божественными чудесами. Но не только духовные песни и сказания, а в целом, образ Богородицы разлит в пространстве русской культуры, сливая и переплетая разные её уровни и жанры.
Так, литературные произведения русских поэтов становились безымянными песнями в духовной лирике, как это известно о стихотворной легенде Ф. К. Сологуба «У кузнеца»11. Затворницы-инокини не подозревали, что духовный стих «Кузнец», часто ими исполняемый, создан профессиональным поэтом, но их пристрастие к нему, их выбор нельзя отнести к случайности, а можно объяснить только латентной связью русского художественного творчества с народной духовностью. Примеров здесь может быть множество, как-то, у Лермонтова безродный странник сокровенные желания поверяет Богородице: «Я, матерь божия, ныне с молитвою…»12. Или М. Горький, определяя национальное отно- шение к Богородице, отмечает, что молитва к ней превращается в пение души, становится «акафистом, хвалою искренней и простодушной»13. Эта искренность народного чувства воспроизведена М. Горьким в картине непредвзятого детского впечатления о глубине погружения в сакральный мир «общения» с Богородицей, увиденного мальчиком в психосоматическом преображении его бабушки: «…выпрямив сутулую спину, вскинув голову, ласково глядя на круглое лицо Казанской божией матери, [бабушка] широко, истово крестилась и шумно, горячо шептала: Богородица преславная, подай милости твоея на грядущий день, матушка!»14. И древнерусская литература, в частности, литературные памятники русских княжеств ХI–ХV веков наполнены сказаниями о почитании Богородицы15.
Художественная репрезентация фактологических, текстовых, визуальных источников народного почитания Богородицы акцентирует интерес к осмыслению образа Богородицы как объекта, транслирующего богословское содержание интерпретированного культурой. Другими словами, к вопросу: можно ли в догматике о Богородице обнаружить элементы культурного происхождения?
В такой постановке, т.е. раскрытие образа Богородицы как культурного феномена — проблема является одной из сложнейших для исследования. Возникает методологический казус: каким образом можно показать то, что религиозный образ несёт в себе культурный субстрат, отражает народные представления. Религиозные образы и сюжеты по определению закрыты для мирского, светского вторжения постольку, поскольку они строго связаны с каноном, заключены богословским узусом исторического места Богородицы в деле спасения (431 г. Эфесский собор) и запрещены для вольных интерпретаций.
При этом даже поверхностный частотный анализ распространения на уровне профанного сознания частного образа Богородицы показывает опыт внедрение субъективных трактовок в его понимание, обращение к национальным, этнокультурным мирам, и оппонирует безапелляционности запрета для народной творческой импровизации как результату аффекта, духовного порыва в моменты катаклизмов личных и исторических. Этот эмпирический аргумент в пользу осмысления семантики образа Богородицы в контексте этнокультурного миропонимания. В связи с этим можно поставить задачу исследования религиозного образа Богородицы как культурного феномена.
Теоретические подходы имеют место быть, показав, в частности, продуктивность анализа богородичных имен и текстов16.
Исследование богородичной символики в русской культуре ведется именно на текстах богослужебных книг и акафистов17. При этом проявление в текстах «богородичного символа»
и его функциональных аспектов в сравнении с библейской, богослужебной, келейной традиций показало, что библейская практика трансформируется русским православием, а трансформация семантики богородичного символа сильнее с удалением от богослужебной практи-ки18. Ещё более категоричные выводы об этнокультурном влиянии сделаны в исследованиях именований Богородицы19. Оказывается, «актуальная для наших дней номинация иконографии представляет собой микросистему сакральных поименований Богородицы», которая образует концептуальную иерархию, отражающую религиозно-эстетическую систему мировидения как одну из констант русской культуры, где ядром является «гипероним» Богородица20.
И хотя тема образа Богородицы как культурного феномена освещена слабо и, как правило, затрагивалась опосредованно, было обнаружено, что при поиске культурного компонента адекватным источником можно рассматривать богородичный дискурс — религиозные тексты о Богородице.
В отличие от текстов визуальные образы — иконы, иконография специфической ситуации всегда вписаны в типологический ряд, не свободны от канонических типов изображения. И только в истолковании номинации иконных образов (т.е. текстах) демонстрируется интел- лектуальная игра: в названии явлены народные представления, а в теологических трактовках — богословие отцов церкви. Именно словесные образы, языковое творчество преобразует аутентичную, связанную с архетипом семантику в контекстуальных условиях истории, поэтому религиозные тексты в их сопоставительном анализе могут служить источником обнаружения этноконфессионального элемента в семантике образа.
Богородица была излюбленным сюжетом не только в русской православной, но и в католической традиции. Имеется значительный корпус религиозных текстов разного жанра, посвященных Богородице в обеих христианских конфессиях. Но для чистоты анализа этнокон-фессионального присутствия в интерпретации образа Богородицы нужен специфический текст.
Такого рода уникальным источником могут служить тексты латинской и русской православной традиции — Псалтирь Божией Матери свт. Димитрия Ростовского и еп. Дж. Бонавентуры, пока не попадавшие в поле зрения исследователей, но определенно предпосланы культурологическому анализу.
Каждый из этих текстов имеет в себе сущностный признак богословского и народного происхождения: признанное авторство и легендарность его происхождения. Культурное происхождение, связанное с понятием «авторства», лежит в русле литературной психологии, неотъемлемый её атрибут, свидетельствующий о том, что слово живет внутри жизненной ситуации общения21. Такого рода тексты имманентны религиозной традиции.
Так, имя Давида, присвоенное сборнику культовых песнопений, возникших в различное время дает образ и авторитет Давида. Песнопения созданы «во имя» Давида или «от его имени», а потому суть «Давидовы псалмы»....Личное имя — это символ, «метка», «указывающая на особое значение сборника, которому это имя присвоено»22.
Аналогично символическое авторство «Псалтири Богородице» Бонавентуры и св. Димитрия Ростовского. Псалтирь бытует под именами, коих авторство не установлено, но этнолокальное происхождение не требует доказательства.
Поэтому гипотетически можно полагать, что этот письменный источник (Псалтирь Божией Матери) при переводе с латинского на русский язык фиксировал особенности народной трактовки образа Богородицы и, якобы авторские, тексты демонстрируют пленение этими трактовками. Передаваемые из уст в уста образы воплощаются здесь невольно, возникают безымянными, легендарными именно потому, что отвечают народному богородичному образному языку, а приписываемая персона автора лишь олицетворяет традицию. Исходя из этой посылки предметом исследования становиться трансформация образа Богородицы в результате рецепции инокультурного источника, перевода этноконфессионально истолкованной ветхозаветной псалмовой традиции на язык русской православной культуры.
Можно полагать, что созданы теоретические и источниковые предпосылки для культурологического анализа семантики образа Богородицы.
Поставленная проблема осмысления образа Богородицы как феномена русской народной культуры основана на утверждении архетипического значения персоны Богородицы в системе народного мировидения, для решения проблемы имеются методологические прецеденты, в частности, в искусствоведении и филологии, а в комплексе богородичных текстов выделены адекватные источники.
Список литературы Трарансформация семантики богородичных имен-образов в контексте культурной языковой традиции: постановка проблемы
- Аверинцев С.С. Греческая "литература" и ближневосточная "словесность" /Риторика и истоки европейской литерат. традиции. М.: Школа "Языки русской культуры", 1996.
- Бельтинг Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства. М.: Прогресс -Традиция, 2002. 752 с.
- Панарин А. С. Православная цивилизация в глобальном мире. М.: Алгоритм, 2002. 496 с.
- Плюханова М. Б. Сюжеты и символы Московского Царства. СПб.: Акрополь, 1995. 334 с.
- Самохвалова Л.Д. Номинация иконографии Богородицы в русском языке: в аспекте когнитивной лексики. Дисс. канд филолог. наук., 2000. 285 с.
- Степанова Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования, 1997.