Три грустных песни о том, как государство «сливало» промышленность и рабочий класс
Автор: Божков Олег Борисович
Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop
Рубрика: Книжная полка
Статья в выпуске: 3, 2016 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/142182186
IDR: 142182186
Текст краткого сообщения Три грустных песни о том, как государство «сливало» промышленность и рабочий класс
Предлагаемый вниманию читателей текст — это не рецензия, а скорее обзор своеобразной трилогии Бориса Ивановича Максимова. Автор — человек активный и, что очень ценно, неравнодушный. Жизнь рабочих стала центральной темой во всем его научном творчестве. Об их жизни Б.И. Максимов знает не понаслышке. Несколько лет он руководил социологической лабораторией НПО «Кировский завод», был бессменным председателем исследовательской секции «Промышленная социология» ленинградского отделения Советской социологической ассоциации (ЛО ССА), объединявшей заводских социологов Ленинграда, а затем несколько лет входил в состав правления Санкт-Петербургской ассоциации социологов (СПАС) — правопреемника ЛО ССА.
Первая из перечисленных книг — это переработанное и дополненное современными данными переиздание книги «Положение, действия рабочих и профсоюзов в период перемен» (LAP LAMDERT Academic Publishing, 2013). Эту книгу, как и две другие, надо читать внимательно и вдумчиво — пересказывать их бесполезно и бессмысленно. При пересказе неизбежно потеряется уникальная авторская интонация, та душевная боль, которой пронизаны эти книги. Поэтому постараюсь выделить лишь доминанты в каждой из них.
Что могут профсоюзы?
В качестве доминанты первой книги я бы выделил вопросы профсоюзного движения. Центральная глава книги: «Рабоче-профсоюзная жизнь в отдельных событиях» начинается с описания и анализа двух съездов рабочих. «Сразу два съезда1 — это, конечно, здорово, — пишет автор, — но когда узнаешь, что они собираются параллельно — в одном и том же городе, в одни и те же дни, по сути дела — как альтернативные, то понимаешь — не так уж это и здорово. Точнее, совсем не здорово. Если смотреть, разумеется, с точки зрения всего рабочего движения. Рабочие собираются бороться друг с другом? Противостояние не прибавит авторитета, влияния ни одному, ни другому съезду.<…> СМИ (т.е. власть предержащие, под чьим контролем находятся СМИ — О.Б.) не преминут воспользоваться возможностью поиздеваться над рабочими, выставить на посмешище всей России» (с.76)2.
Здесь стоит привести еще одну цитату: «Если бы автора спросили, то он сказал бы, что надо в первую очередь трезво отрефлексировать сегодняшнее положение рабочих, и в их числе горняков, шахтеров. Здесь и социологические данные могли бы пригодиться. Конечно, рабочие сами, на собственной шкуре чувствуют, какое у них положение. И все же не мешает глянуть на ситуацию в целом и в сравнительном плане. Далее, не менее трезво оценить настроения широких масс рабочих, их готовность бороться за свои права, наметить, наряду с ближайшими, стратегические цели коллективных действий и определить не только с кем надо бороться, но и союзников, ибо в одиночку, как показывает опыт, даже такому мощному отряду как горняки не изменить ситуацию кардинальным образом» (с. 77-78).
Автор не ограничивается только московскими акциями горняков и анализом работы двух профсоюзных съездов, в поле его внимания широкий круг протестных акций. Это и забастовка рабочих завода Форда (Всеволожск), и забастовка докеров в СПб, и ситуация в Пикалево, и действия шахтеров шахты «Киселевская». Как видим, география анализа весьма обширна. И везде автор отмечает непоследовательность в действиях профсоюзов и их лидеров, отсутствие четко сформулированных стратегических целей. Впрочем, к теме профсоюзов, их позиции, а также роли лидеров автор возвращается неоднократно и в двух других книгах трилогии.
«Флагман индустрии» в нерыночной стихии
Слова «Флагман индустрии» в названии другой книги воспринимаются мной, как грустно-иронические. Содержание этой части трилогии охватывает десять лет наблюдений (19952005 гг.) и даже больше3.
Вот фрагмент из «зарисовки с натуры» 1995 года.
«Интервью у костра на главном конвейере. Первые вопросы напрашиваются сами собой: отчего в корпусе так прохладно и почему бы людям не пойти нормально пообедать в столовую, по крайней мере, погреться в обеденном зале?
Рабочие объясняют: холодно потому, что практически полностью отключено отопление в целях экономии тепловой энергии: цеховые столовые, в которых худо-бедно можно было «принять пищу», позакрывались в виду большого расхода той же теплоэнергии; осталась одна центральная столовая. Но и в неё рабочие не ходят по причине дороговизны блюд. «Так всю зиму и обогревались кострами. А на обед — бутерброд, чаем запьешь — и все. Раньше давали «кормовые» (доплата на питание), теперь их нет».
Это — внешние условия работы. Спрашиваем о других параметрах положения рабочих и, прежде всего, — в материальном отношении. Оказывается, по уровню заработной платы «трактористы» находятся почти в наихудшем положении, здесь зарплата в два раза ниже средней по предприятию, около 200 тыс. «чистыми» — только третья часть потребительской корзины, на которую равняются на заводе» (с. 10-11).
В главе «Акционерная форма?» подробно описывается, как администрация манипулировала людьми, по ходу дела изменяя «правила игры», и как в результате были выхолощены и содержание процесса акционирования, и самый его смысл. Вместо стимулирования работников (в первую очередь — рабочих) к тому, чтобы они стали настоящими собственниками предприятия, ответственными за его успешность, их просто «отодвинули», дескать, «не вашего ума это дело».
Но и сам Кировский завод в конце 90-х оказался под серьезной угрозой. Он косвенно оказался объектом интереса двух монополистов: Министерства сельскохозяйственного машиностроения и мощной мировой компании «Джон Дир». «Профком предприятия обнаружил публикацию, в которой мельком говорилось о договоре с «Джоном Диром» на поставку техники по лизингу под гарантии российского правительства (которое оно упорно не соглашалось давать своим компаниям). Скоро выяснилось, что дело зашло уже далеко -главные тогдашние патриоты отечественного производства и радетели сельского хозяйства, вице-премьеры Маслюков и Кулик, ведут переговоры о закупке сельхозтехники не с российскими заводами, а американскими, и, прежде всего — компанией «Джон Дир».С подачи не кого иного как министра сельского хозяйства подготовлен проект поставки в Россию американских тракторов, комбайнов, сеялок, плугов, борон и т.п. (список из десятков наименований и сотен тысяч единиц), всего на сумму в 1 млрд. долларов в первый заход и, кроме того — создание сети МТС, обслуживающих эксплуатацию импортной техники — еще на 7 млрд. …» (с.112-113).
«Одним из главных шагов профсоюза был поиск союзников. Обратились к коллегам на родственные предприятия — Ростсельмаш, Волгоградский тракторный, Челябинский тракторный завод с предложением выступить единым фронтом. Этим заводам (особенно Ростсельмашу) грозила не меньшая опасность. Но с солидарностью, главной силой рабочего и профсоюзного движения, увы, ничего не получилось. Рабочая (точнее, профсоюзная) солидарность оказалась в дефиците и в тот момент, когда более всего была нужна. Вывод можно было сделать, что ее заблокировали профсоюзные лидеры. Одни из них говорили, что рассчитывают извлечь выгоду из совместного с американцами производства (об этой возможной «выгоде» хорошо написал корреспондент «Труда», сказав в подзаголовке: «Ростсельмашу придется поработать на подхвате у американской «Амеко» (российский представитель «Джон Дира»); вторые — что «боятся помешать администрации («Директор сидит в Москве по этому вопросу, как бы не навредить»); третьи просто избегали контактов. Таким образом, главный ресурс задействовать не удалось, пришлось рассчитывать только на собственные силы. И это тоже было весьма показательно для сегодняшней России» (с.115).
В Петербурге «Тракторная война» сплотила всех. На борьбу с акулами капитализма поднялись все (и администрация, и профсоюз, и даже рабочие) и подняли всех, включая двух депутатов Госдумы, представляющих там Кировский завод, лидера КПРФ Г. Зюганова и губернатора Петербурга.
Тогда — в 1999 году вроде бы была достигнута победа. Однако через два года, когда, казалось бы, заказов на трактора было много, когда победа представлялась окончательной, атака на завод пришла с неожиданной стороны. Конвейер остановился по той причине, что бывший филиал Кировского завода тихвинский завод «Трансмаш» «… даже не отказался поставлять узлы, а неожиданно загнул такие цены, что это было равно отказу <…> Постепенно выяснилось, что тихвинцы загнали цены именно для того, чтобы поставить Кировский завод в безвыходное положение. Дело в том, что … Тихвин делал серьезные комплектующие: раму, постаменты, задние и передние мосты, еще ряд деталей; наладить производство этих узлов на своей площадке, по крайней мере, невозможно в короткие сроки.
Дальше начиналось самое интересное. Приперев свой бывший головной завод к стенке, «Трансмаш» сделал ошеломительное заявление, что он намерен передать в Тихвин все комплектующие конвейеры, другое оборудование и, главное, — марку трактора» <…> Снова замаячил на горизонте, а точнее, совсем рядом, забытый потерявшими бдительность кировцами, Джон Дир» (с. 136-137).
Самое удивительное в этой истории то, что воевать кировцам пришлось на «своей территории» и вовсе не с американцами, а со своим собственным правительством и со своими коллегами — тихвинцами. При этом, именно правительство «сливало» отечественных производителей их же руками.
Этими сюжетами впору заниматься Следственному комитету и прокуратуре, а не социологам. Отнюдь не случайно в аннотации указано: «Предназначена для самих работников завода, его руководящего состава, экономистов, социологов и историков». Заметим, на первом месте — работники завода. Из текста очевидно, что автор не только описывает и анализирует непростую ситуацию на производстве, но работает еще и «агитатором», «просветителем», пытается помочь своим респондентам заняться самоанализом и брать инициативу в свои руки. Пока что, это не удается.
Остается надеяться, что экономические санкции против России окажутся более эффективной защитой отечественных производителей, нежели бездарные потуги российских властей. Но и это очень слабая надежда на фоне растерянности и безынициативности самих работников отечественных предприятий.
Рабочие как субъект инновации и модернизация производства
Третья книга — самая свежая, в ней «представлены результаты социологических исследований по НИП «Социальные механизмы инновационной деятельности в сфере производства», «Субъекты инновационной деятельности: совокупность, роли, факторы», выполненных автором в секторе социологии науки и инноваций Социологического института РАН в 20092015 гг.»
Грустной оказывается песня и об инновациях и модернизации производства. Именно об этом свидетельствуют многочисленные статистические данные, широко представленные в первой же главе этой книги. К сожалению, дальше деклараций на самом высоком уровне и гигантских проектов вроде пресловутых Сколково и РОСНАНО, дело не двигается. А если и двигается, то исключительно «черепашьими темпами». Впрочем, автор не чужд оптимизма: «Упомянутое множество предпосылок (к инновационной деятельности — О.Б.) неминуемо сработает и обусловит широкое инновационное движение <…> И. Юргенс, директор ИНСОРа (Институт современного развития при президенте) считает даже, что «Россия обречена на модернизацию, притом в широком плане и в силу многих общественных процессов, в т.ч. политических» (с. 35-36).
И все-таки, сквозь природный оптимизм прорываются печальные ноты. «На «Ленполиграфмаше» по словам генерального директора, модернизация производства отсутствует по той «простой» причине, что «отсутствует само производство». Заказчик продукции (оборонка) разорвал контракты, оставив предприятие без работы с вытекающими последствиями. Генеральный директор: « Нам подрезали крылья. Какая может быть модернизация, если производство стоит?! Сократили 350 человек, но понимаем, что этот путь ведет только к банкротству. Мы не собираемся сдаваться, но не до новшеств сейчас» (с. 31-32).
Б. Максимов, как человек, позитивно-деятельностно ориентированный, пытается сгладить доминирующий в научной и научно-публицистической литературе акцент на негативных аспектах этой проблематики. Одна из глав книги так и называется «Преимущественно положительные факторы», где приве- дено несколько действительно позитивных примеров. Впрочем, и в последующих главах эти — позитивные — примеры находят место.
Не забывает автор и о стержневой теме трилогии — положение и самочувствие рабочих. Здесь же акцент на участии в модернизации производства и инновационных процессах. Очевидно, что при кардинальном изменении экономических и политических условий в стране, требуются изменения и в Трудовом кодексе, который напрямую касается не только работодателей и наемных рабочих, но и различных органов власти и целого ряда общественных организаций. «Даже из основных субъектов трудовых отношений, — пишет Б. Максимов, — не все были включены в число участников подготовки нового трудового законодательства. <…> Наемным работникам оставалась возможность осуществлять свое участие в протестной форме, в виде пикетов, митингов, заявлений и т.п. акций протеста. Никто не пригласил делегацию наемных работников на Охотный ряд и не выслушал их мнения по документу, регламентирующему всю трудовую жизнь» (с. 83-84).
Тем не менее, автор приводит положительный опыт вовлечения всех работников, в том числе и рабочих, к инновационной деятельности на КАМАЗе. Правда, этот опыт оказался заимствованным у японцев. Хотя на самом деле, он был широко распространен и в Советском Союзе.
«Об интеллектуальном потенциале рабочих свидетельствует широкое их участие в рационализаторском движении в период его расцвета. Несмотря на забюрократизированность рационализаторства, рабочие были основными участниками, даже подавали предложения без расчета на вознаграждение. <…> На предприятии Ленполиграфмаш работал рабочий, непрерывно вносивший усовершенствования в свою работу, до 5 раз перевыполнявший нормы, работавший даже в отдельном помещении… (правда, по соображениям не-растространения «заразы» новаторства)4» (с. 167).
Говоря о факторах инновационного развития, автор особо выделяет социальные, которые находятся в сфере компетенции социологии. Обстоятельному обзору социологических исследований в этой области отведено в книге немало страниц (с. 46-68).
И, естественно, как ветеран промышленной социологии, автор не мог пройти мимо, к сожалению, редких сегодня случаев успешной деятельности заводских социологических служб. Такой опыт он обнаружил на КАМАЗе. «… социологическая работа не замыкается на кадры (хотя и находится в составе службы управления персоналом). Она подвергает анализу (притом систематически) ситуацию в лизинговой сфере, вопросы повышения качества работ и продукции, позиции поставщиков комплектующих изделий, … процесс выборов и т.п. За 2010 г. выполнено 33 анализа по различным направлениям. <…>
Социологическая служба КАМАЗа показывает, что заводские социологические подразделения не являются «излишним звеном», и изгнание производственной социологии с предприятий в рыночных условиях не было объективно оправданным, а обусловлено весьма субъективными представлениями новых собственников, нередко «некомпетентных и жадных», по выражению премьер-министра В.В. Путина (высказанному в Пикалево), близоруко заботящихся о сиюминутной выгоде» (с. 147-148).
Заключение
Несмотря на то, что события, описываемые в трилогии, уже являются историей, эти книги не потеряли актуальности. На мой взгляд, они, безусловно, будут полезны для руководителей производства всех уровней, для профсоюзных активистов и участников иных рабочих общественных организаций. Характерно, что вторую часть трилогии автор прямо адресует рабочим Кировского завода.
Эти книги стоит читать внимательно и вдумчиво, ибо из них можно и нужно извлечь некоторые очень ценные уроки. Конечно, книги адресованы также и историкам, и социологам, т.к. содержат живые и очень ценные наблюдения.
По нынешним временам тиражи этих книг огромны (500 экз. каждая), хотя, по большому счету, конечно же, просто мизерны. Тем не менее, объем тиража позволяет обеспечить многие библиотеки (полезно сделать их широкую рассылку). Но не менее полезно было бы направить их в аппарат Президента России, в правительство РФ и в аппарат Госдумы. Нет надежды, что там их кто-либо будет читать, но… вдруг?
Надежда умирает последней.
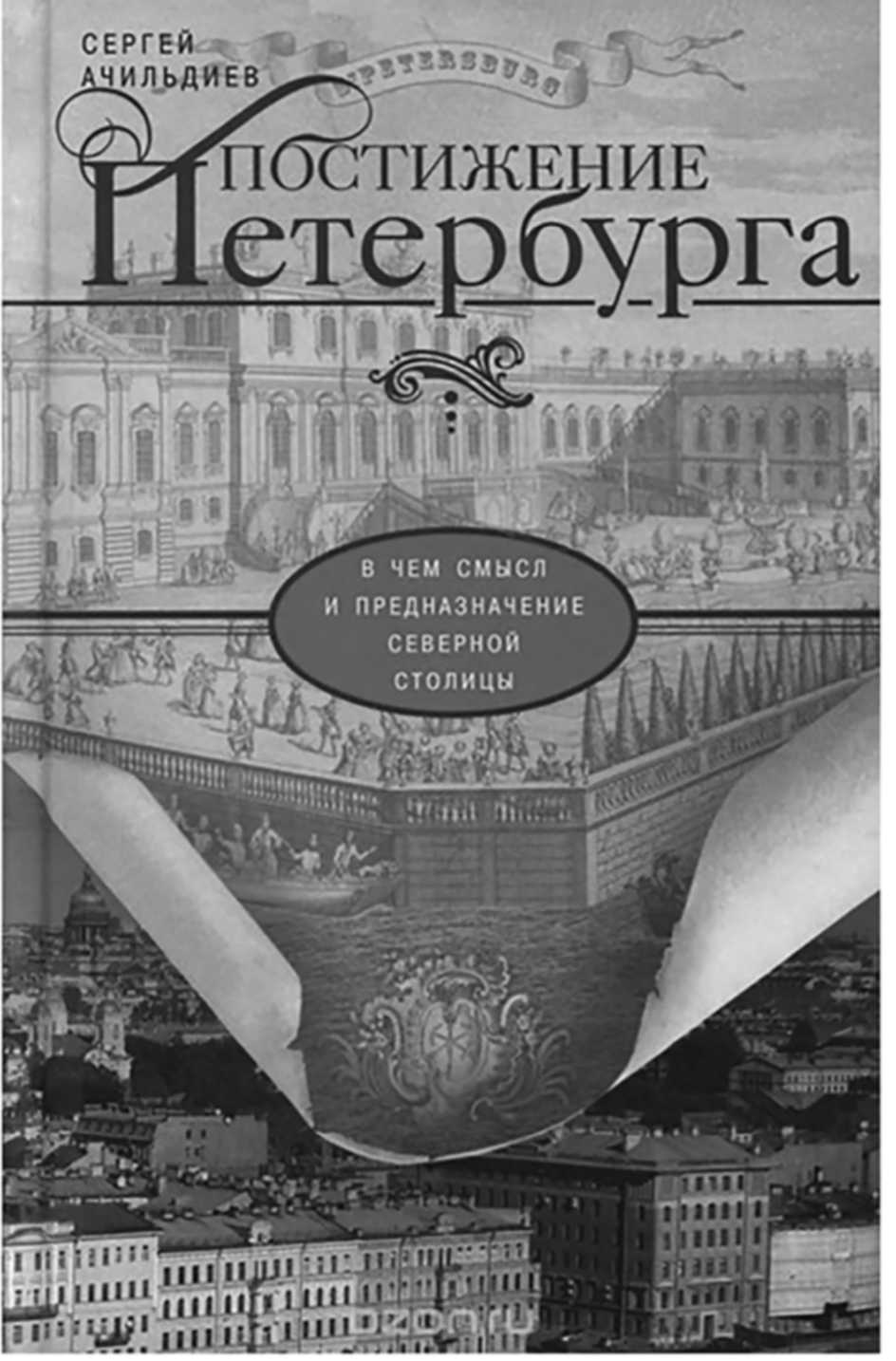
Это — книга-размышление о Петербурге. В чем смысл и предназначение Петербурга? Зачем он был основан и почему именно здесь, в самом устье Невы? Какова роль этого города в истории России, его место в Европе и мире? Как со временем трансформировались образ и характер Северной столицы? Каким на протяжении разных эпох представлен Петербург в литературе, живописи, музыке и каким его видели сами жители? Каково значение интеллигенции для становления городского самосознания? Что такое «петербургский стиль»? Какое будущее ожидает вторую столицу России? Таков круг основных тем, затронутых автором. Без преувеличения эту работу можно расценить как продолжение знаменитой книги Николая Анциферова «Душа Петербурга» (1922). Издание адресовано всем, кто интересуется историей России и северной столицы.
Книгу можно приобрести в книжных магазинах города и в интернет-магазинах.
Список литературы Три грустных песни о том, как государство «сливало» промышленность и рабочий класс
- А.Н. Алексеев «Драматическая социология и социологическая ауторефлексия. Том I, СПб, «Норма», 2003, с. 418


