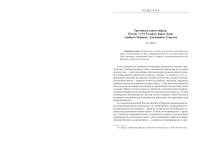Три поиска одного образа: Россия / СССР в прозе Карло Леви, Альберто Моравиа, Джованнино Гуарески Татьяна Дронзина, Иванка Мавродиева. Образ России в средствах массовой информации Болгарии
Бесплатный доступ
Итальянская культура, итальянская публицистика, образ советской России, образ современной России, поэтический взгляд леви, репортаж, сниженный образ у гуарески, социологический взгляд моравиа, стереотипы о России
Короткий адрес: https://sciup.org/14912024
IDR: 14912024
Текст статьи Три поиска одного образа: Россия / СССР в прозе Карло Леви, Альберто Моравиа, Джованнино Гуарески Татьяна Дронзина, Иванка Мавродиева. Образ России в средствах массовой информации Болгарии
Если оставить за скобками очевидные различия в степени знакомства с Россией разных слоёв итальянского общества (а в рамках одного слоя — ещё и различия, обусловленные родом занятий, уровнем образования, богатством личного опыта), то окажется, что современный средний итальянец смотрит на Россию глазами итальянца прошлых веков — видит в ней что-то далёкое, огромное, накрытое маревом мороза, укутанное в вечные снега… Этот простой стереотип как жил в его сознании, так и живёт и, предположительно, будет жить и дальше. Вместе с тем на таком, в сущности, геоклиматическом фоне, однажды выкристаллизовавшемся в сознании итальянцев и с тех пор остающемся неподвижным, разные эпохи облекали образ России в различные исторические одеяния или оболочки, что придавало ему изменчивый вид.
Из дореволюционной России пришёл в Италию сверкающий образ аристократического бомонда с его огромными, казавшимися неисчерпаемыми, богатствами — пришёл в окружении «подобразов» излишества, роскоши и femmes fatales1. Сейчас он возрождается — правда, в неумело подражательной, пошловатой версии постсоветских нуворишей. К сожалению, кроме этого устаревшего образа в обновлённой оболочке да загадочного — не вполне установившегося и про-
Уго Перси, профессор кафедры славистики Университета г. Бергамо (Италия).
яснившегося — образа могущественной нефтегазовой державы (от которой, между прочим, в немалой мере зависит зимний уют многих итальянских домов), в представлениях итальянцев, как мне кажется, нет чётко очерченного образа современной России. Сегодняшняя Россия создаёт (создала?) себе имидж страны, подобно Фениксу восставшей из пепла; но она не создала впечатляющего нового мифа о себе, который распространился бы за её пределы. Из современной итальянской печати трудно получить убедительное представление о России, хоть сколько-нибудь выходящее за рамки газетной хроники. Со своей стороны, художественная литература предлагает только немногие и тоже неубедительные фрагменты такого представления; не оказывается особенно щедрой и публицистика — видимо, из-за ухода из жизни великих журналистов второй половины XX века.
Если и далее использовать метафору «исторических оболочек», придётся констатировать: на воображение итальянцев сильнее всего воздействует советская оболочка — сильнее и изрядно полинявшей оболочки царской империи, и мутной, не прояснённой оболочки современной буржуазной России. Итальянцы даже в наши дни нередко путают Россию с Советским Союзом2. А то, что одни из них относились и/или относятся к советскому периоду с трепетом и восторгом, другие же — с презрением и страхом, во многом есть следствие мифа, который СССР сумел создать о себе и который, как все настоящие мифы, имел свою положительную и отрицательную стороны.
Важно и то, что значительная часть богатой советской мифологии устно и письменно выражалась по-итальянски. Многие итальянские писатели, журналисты, публицисты оставили замечательные произведения о Советском Союзе. Благодаря интеллектуальному, нравственному и художественному уровню их авторов эти произведения живо и убедительно (что не означает — полно и во всём верно) показывают повседневную жизнь России, позволяют читательскому взгляду проникать сквозь преграды истории, политики, личных убеждений, уловить сложную суть России, её идеалы. Примеров тому много: от репортажей знаменитых журналистов, таких, как Энцо Бьяджи3 и Альберто Каваллари4 и писателей, таких, как Анна Мария Ортезе5, до исторического романа Джулио Бедески «Сто тысяч ледяных котелков»6 и повести Марио Ригони Стерна «Сержант в снегу» («II sergente nella neve»)7, посвящённых трагической судьбе солдат АРМИР (Armata Italiana in Russia)8. Из этого богатого резервуара9 я позволил себе выбрать три текста, представляющих, на мой взгляд, разные типологии письма и разные идеологические взгляды: «II futuro ha un cuore antico» («У будущего старинное сердце») Карло Леви,
«Un mese in U.R.S.S.» («Месяц в СССР») Альберто Моравии, и «II сот-pagno don Camillo» («Товарищ дон Камилло») Джованнино Гуарес-ки. Первый из них был опубликован в 1956 году, второй — в 1958, третий же, появившийся в 1963 году, входит в объединённый повторяющимися главными героями цикл произведений, начало которому было положено в 1948 году.
Прежде чем переходить к текстам, скажу коротко о каждом из трёх авторов.

Рис 1. Карло Леви (1902—1975)
Врач, художник, писатель и политический деятель Карло Леви (рис. 1) родился в 1902 году в Турине в зажиточной и просвещённой буржуазной семье, умер в 1975 году в Риме. Вовлечённость в антифашистскую деятельность была причиной его ареста в 1934 году; в следующем году он был сослан в Луканию (второе название области — Базиликата) — в то время забытый и полудикий горный край в южной Италии. Несмотря на все трудности, которые Леви испытал в ссылке, год, проведённый им на юге, оказался самым важным в его жизненном и творческом опыте. А самый драгоценный плод его пребывания в Лукании — это книга-репортаж «Христос остановился в Эболи» (“Cristo si е fermato a Eboli”, 1945), по которой в 1979 году был снят одноимённый кинофильм10. Этот документальный роман был переведён на многие иностранные языки, включая русский. О популярности в СССР романа и автора свидетельствуют, между прочим, описанные в «II futuro ha un cuore antico» встречи с самыми крупными советскими писателями того времени, среди которых стоит упомянуть Константина Симонова, Константина Паустовского, Виктора Некрасова и Илью Эренбурга. Как писатель, Леви и далее продолжал, но менее удачно, социальную тему, заявленную в первом его произведении. На фоне не слишком убедительных последних книг выделяются его достижения в живописи. Ученик Ф. Казорати11 до середины 1920-х годов, Леви в 1929 году вошел в «Группу Шести», или «Туринскую шестёрку» («Sei torinesi»), боровшуюся против академизма тогдашней итальянской художественной школы12. Луканский опыт положительно повлиял и на его искусство живописца, способствовал его сближению в 1950-х годах с неореализмом. Искусствоведы считают его одной из наиболее ярких личностей итальянской живописи XX века13. Впервые избранный в итальянский сенат в 1963 году как независимый кандидат от компартии, Леви до самой смерти оставался его членом. Похоронен он в месте ссылки — в городке Алиано14.
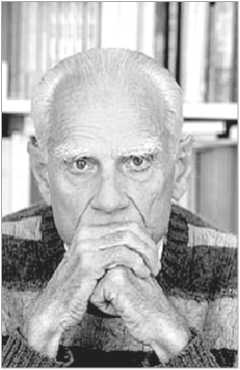
Рис 2. Альберто Моравиа (1907—1990)
Писатель и публицист Альберто Моравиа (рис. 2) (псевдоним, настоящая фамилия — Пинкерле, родился в Риме в 1907 году, умер там же в 1990 году) был, несомненно, одним из столпов итальянской художественной культуры второй половины XX века. Во время фашизма попал в списки «неблагонадёжных» как по причине своего еврейского происхождения по отцу, так и вследствие неприятия режимом его творчества. Чтобы содержать себя и первую жену, известную писательницу Эльсу Моранте15, Моравия вынужден был писать киносценарии; с другой стороны, благодаря этому он стал своим в мире кино, а его романы послужили сценарной основой для многих известных итальянских фильмов I960—1980-х годов. В частности, прогремевший по всему миру фильм «Чочара» с Софи Лорен в главной роли был снят режиссёром Витторио де Сика по одноимённому роману Моравиа («La ciociara», 1957). Из других его романов заслуживают упоминания «Неоправданные амбиции» («Le ambizioni sbagliate», 1935), «Римлянка» («La romana», 1947), «Конформист» («Ilconformista», 1951), «Презрение» («Ildisprezzo», 1954), «Скука» («La noia», I960), «Я и он» («1о е lui», 1971), «Внутренняя жизнь» («La vita interiore», 1978). Моравиа писал также бесчисленные рассказы и репортажи о своих путешествиях во все четыре стороны света (преимущественно для миланской газеты «Corriere della Sera»). Был председателем жюри XXVIII Венецианского кинофестиваля (I960), а с 1984 по 1989 год — депутатом Европейского парламента, избранным в качестве независимого кандидата от Итальянской компартии16.
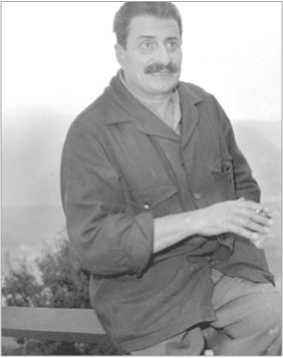
Рис 3. Джованнино Гуарески (1908—1968)
Джованнино17 Гуарески (рис. 3) родился в 1908 году в местечке Фонтанелле ди Роккабьянка неподалёку от Пармы, умер в 1968 году в курортном городке Червиа близ Равенны. Отец его, землевладелец и торговец, в 1927 году обанкротился, и сыну пришлось бросить школу, чтобы зарабатывать на жизнь. Сменив несколько работ, он начал писать в пармские газеты, а с 1936 года стал редактором популярного сатирического журнала «Бертольдо», ответственным редактором которого тогда был Чезаре Дзаваттини, будущий сценарист некоторых из лучших итальянских фильмов второй половины XX века. Хотя по своим политическим взглядам Гуарески во многом был согласен с фашистской партией, острое его перо не щадило никого и ничего, так что в конце концов он был арестован немцами и попал в концлагерь в Польше. А в 1954 году он был осуждён на год тюремного заключения по иску, выдвинутому против него тогдашним премьер-министром и лидером христианских демократов Альчиде де Гаспери18. В 1945 году Гуарески основал сатирический журнал «Кандидо», пользовавшийся большой популярностью. На страницах «Кандидо» и появились впервые коммунист мэр Пеппоне и его оппонент священник дон Камилло. Почву, из которой эти персонажи родились такими, какими их знает читатель, образовали ярый антикоммунизм автора, его монархические настроения и нерушимая католическая вера. О приключениях и взаимоотношениях Пеппоне и дона Камилло Гуарески написал целую серию книг. Почти все они были экранизированы, и фильмы пользовались большим успехом, тем более, что в первых пяти картинах играл замечательный актёрский дуэт Черви19 — Фернанделя20. Следует отметить, что, несмотря на беспощадность его журнальных нападок на политических противников, последние даже в большей степени, чем идейные соратники Гуарески, признавали его последовательность и порядочность21.
II
Карло Леви совершил путешествие в СССР вскоре после смерти Сталина, в 1955 году, в следующем году выпустил книгу о своей поездке22. Не будь в нашем распоряжении аналогичного отчёта о личных впечатлениях, написанного Моравиа с утонченной интеллектуальной усложненностью, мы, читая книгу Леви, могли бы решить, что идеологическое сродство непременно побуждало иностранных авторов видеть и передавать советскую реальность в розовом свете. В самом деле, читая «II future ha un cuore antico», мы словно переносимся в какой-то сказочный мир, одновременно и новый и старый, в котором, однако, всё прекрасно и поэтично. Дело тут в том, что Леви в первую голову не политический деятель и не публицист, а художник — настоящий художник, куда больше стремящийся изображать людей и жизненные повседневные ситуации, чем изучать и оценивать достижения нового общества.
Вместе с тем его поэтический взгляд на Россию не мешает ему очень трезво смотреть на неё с высоты её исторического и духовного развития. Это помогает ему уловить сущность Советского Союза, о чём свидетельствует следующее суждение, оправдывающее название книги23:
«И ещё раз овладевает мною внезапное давнее ощущение забытого порядка, уже знакомого, уже где-то прожитого, памятью залитого мира — мира детства, долгих зим и сугробов выше меня... когда вся жизнь была будущим, вся была устремлена в неясное завтра, переполненное незабываемыми чудесами; когда в том европейском детстве казалось, что мир повзрослеет с нами, вместе с ростом наших детских тел в их естественном, бесконечном и беспрерывном развитии, полном ожидания, стыдливости и уверенности... Везде я встречал это ощущение: в бесчисленных предметах, на которые падал мой взгляд, в домах, в утвари, в украшениях, в одежде, на дорогах, в картинах... Как жители Новой Англии сохранили пуританские нравы первоначальной своей родины, или как канадцы сохранили французский язык XVIII века, так советские люди остались хранителями чувств и нравов Европы, той единой Европы, которая вся верила в немногие идеальные истины и была уверенной в собственном существовании».
Леви обнаруживает эти черты советской России прежде всего в воспринимаемых им как знаковые деталях жизни её граждан, в самом физическом облике её людей. Его взгляд — одновременно аналитический и синтетический: аналитический потому, что Леви уделяет особое внимание деталям, и синтетический потому, что выявляемая им прямая качественная связь между этими деталями и системными характеристиками СССР позволяет нам обрести целостную картину страны. Причём в этой целостной картине вся страна рассмотрена, как представляется, в виде настоящей семиотической территории. Вот как продолжает автор24:
«Из этих основных чувств и идеалов вытекает устойчивость всех аспектов повседневной жизни, до самых мелких: матовые косы женщин и их лица без косметики; фасон белья, подтяжки, высокие сапожки и длинные пиджаки;
популярность оперного театра, балета, оперетты, цирка... религиозное уважение к культуре, книгам, народной школе, к распространению просвещения... к храмам знания — библиотекам, музеям, памятным статуям (это у них — настоящая мания), к идеалам новаторства, освобождения и прогресса отсталых народов, поражения любого мракобесия... И над всем этим — магическое слово, подобно атмосфере все окутывающее и разукрашивающее в радужные цвета: "будущее"».
В то же время, утверждая, что народ смотрит и верует в будущее, Леви, вглядываясь в его социальный состав, исподволь обнаруживает восходящий к прошлому наивный характер наблюдаемого им общества. Например, в воскресной толпе посетителей Всесоюзной выставки сельского хозяйства: люди «группами приезжают из самых далёких деревень на эту выставку, воспринимаемую в крестьянской стране как её подлинный центр и символ, чтобы изучать себя и гордиться собой самими, чтобы говорить о себе через ту пшеницу, тот виноград и те яблоки... »25 Но и в публике Большого театра Леви распознаёт приметы крестьянской естественности русских26:
«Отсутствие грима... выставленная напоказ скромность одежды, на мой взгляд, придавали этой женской толпе, которую я видел впервые, странный для театра облик деревенских женщин — странный из-за тотального, преднамеренного и, я бы сказал, демонстративного отсутствия всякой эротичности, явно заменённой иными намерениями и идеалами».
III
Альберто Моравия тоже отметил деревенский облик советского общества и советской жизни вообще27:
«Советский Союз — крестьянская страна... Из этого его характера, в своей основе крестьянского, и вытекают, на мой взгляд... суровость и пуританизм городской жизни, неопределённая сельскость, семейность, медлительность и ласковость, везде замечаемые в СССР».
Уловил он и «ретроспективный» характер советского общества, однако по-иному, чем Леви, и с совсем иными чувствами. У Леви бросается в глаза прямое знакомство автора с техникой живописи, о чём говорят и колористическое богатство его рассказа, и чёткая обрисовка человеческих типов. Интеллектуальное повествование Моравиа куда более сдержанное, сухое: романист словно застёгнут в униформу невозмутимого журналиста, в которой больше напоминает размышляющего социолога и экономиста, чем публициста. Особенно это ощутимо в последней главе репортажа, названной «Настоящая десталинизация»28 ; в ней он утверждает, что с сугубо идеологических позиций подвести итог путешествия в СССР не составит труда: коммунист будет сообразовываться, хотя бы и поневоле, с дискурсом десталинизации, антикоммунисту же будет только приятно всё раскритиковать. «Тем не менее, — продолжает Моравиа, — если путешественник не является ни коммунистом, ни антикоммунистом, — что, по мнению коммунистов, невозможно, а на наш взгляд представляется достаточно частым случаем, — итог получается отнюдь не простой»29. И далее он задаётся вопросом: зачем, собственно, такой путешественник поедет в Советский Союз? Ответ: вовсе не в поисках оригинального и уникального стиля жизни, поскольку уже до отъезда он знает, что советская экспансия — чисто политическая и идеологическая, что СССР экспортирует не определённый «way of life», как это делают США, а почти исключительно — «коммунистическое слово». Иностранный путешественник30:
«...посетит великую страну, увидит гигантские заводы, огромные стройки, множество промышленного оборудования. С большим интересом ознакомится с советским человечеством, с этими безмерными массами, направленными революцией на социальный путь, никем и никогда до сих пор не испытанный. Но напрасно он будет искать то, что в других странах привлекает внимание прежде заводов, оборудования и социального строя,— ту блестящую и плотную оболочку цивилизации, которую марксисты называют надстройкой. Он осознает: во всём, что имеет отношение к этой оболочке, СССР как будто остался в дореволюционной эпохе, и стиль жизни Советского Союза есть не что иное, как стиль жизни Европы девятнадцатого столетия».
По мнению Моравиа, в области промышленного производства в СССР есть всё, что и в других странах, но нет в нём пока того, что могло бы отличить эту страну от других в области стиля. СССР похож на огромное строящееся здание: видны его несущие конструкции, но нет фасада и непонятно, к какому архитектурному направлению он будет принадлежать — к функционализму ли, к барокко или, может быть, к модерну. Ибо «в Советском Союзе все усилия в последние двадцать лет обратили на строительство тяжёлой промышленности, тогда как легкая, или потребительская промышленность, в которой выражается творческий дух народа (что известно коммунистам и даже признаётся ими), по сю пору пребывает в зачаточном состоянии, и её развитие, несмотря на происходящую десталинизацию, всё ещё не планируется»31.
Вообще тема огромного разрыва между тяжёлой и лёгкой промышленностью является своего рода красной нитью всего репортажа Моравиа. Причём в определённые моменты он оценивает этот разрыв скорее с эстетической точки зрения, чем с экономической, поскольку скромность внешнего облика страны ставит в прямую связь с ограничением творческих способностей народа. В итоге следует довольно резкое суждение32:
«Хуже всего, тяжелая промышленность распространила свой стиль, свой грубый и серый утилитаризм, на все явления советской жизни».
IV
Моравиа вовсе не критикует социальный строй СССР. Нет в его рассказе и иронии по поводу бытовых проблем общества, скорее устремлённого в лучшее будущее для всех, чем желающего нежиться в частном удобном настоящем. И всё же, какая разница между светлым и спокойным Советским Союзом Леви и угрюмым Советским Союзом Моравиа! Если в первом господствуют солнце, снег и яркие цвета, во втором — всё покрашено серой краской, на фоне которой выделяются разве что первомайские красные флаги. Лик Советского Союза — «суровый, серый, важный лик рабочего человечества»; «равнина» Москвы «лишена цвета и движения, вся из монотонности и повторяемости»; столичная толпа «равномерно скромна, одета больше всего в тёмную одежду, часто без шляп и без галстуков»; что касается Ленинграда, то он «бледен, холодного и болотно-зеленого цвета»; огромные дома северной столицы — «мрачны и обшарпаны», улицы — «тихи и траурны», а лестница дома Раскольникова своей «жестокой и зловещей мрачностью» внушает «ужасную грусть»33.
Моравиа посетил Ленинград в апреле—мае, Леви — осенью. Несмотря на это, у Леви цвета города на Неве не сильно отличаются от тех, которыми воспользовался Моравиа, рисуя тот же город: серый, водянисто-зеленый, черный. Однако, как ни странно, в этих цветах горит свет, пусть холодный, северного солнца; а у Моравиа свет погас. Свет, которым Леви освещает свой Ленинград, — теплый свет прошлого, лучи воспоминаний, радуга детства. Ленинград ему напоминает родной Турин, «старую столицу Пьемонта»: ведь оба города — столицы без короны, «оба — центры самодержавных, бюрократических и военных государств, резиденции монархов, двора и дворянства, оба построены в великий век разума по рациональному ясному плану», «оба потом быстро стали промышленными столицами, рабочими центрами своих стран»34. Так размышляет Леви, мчась на машине по Невскому проспекту в гостиницу «Астория» и глядя на знаменитую улицу, «прямую, с великолепными дворцами, архитектурой XVIII века, элегантными магазинами, оживлённой, изящной и хорошо одетой толпой»35. Всё же, несмотря на безусловное великолепие Ленинграда, на то, что писателю он так сильно напомнил западные города, в том числе его родной город, — он признает, что ему не терпится «вернуться в бесформенную, материнскую Москву»36, наблюдая которую с самолета, он спрашивает себя37:
«Москва белокаменная38... Москва с белыми, округлёнными и крепкими руками молодой матери нас ждёт. Почему в этой чужой стране мне кажется, что я возвращаюсь домой?»
Вся книга Карло Леви пронизана чувством хорошего старого времени, любовью и уважением ко всему прошедшему. Даже определённая отсталость и простота советского быта ему дороги и вызывают у него уважение, потому что они «добродетельны». Автору они напоминают время его ссылки в далекую забытую Луканию, ту жизненную среду, которая вначале казалась ему непереносимой, а потом так много дала в человеческом плане. Когда Леви наблюдает русскую жизнь, ему на память настойчиво приходят слова «серая, добродетельная и голая» — ис трудом он, наконец, вспоминает, что это слова из стихотворения, некогда написанного им при виде одной площади в Лукании, стране крестьян:
Кто будет искать в этом воздухе, Сером, добродетельном и голом, Улыбающуюся красоту?
«Наверное и эта страна, — размышляет Леви, — со всей её мощью и безмерностью — страна крестьян»39.
Впрочем, тёплое и чуть сентиментальное уважительное отношение Леви к доброму старому времени покинуло его как раз там, где время это казалось воплощённым совершеннее, чем где-либо ещё. В Загорске, в Троице-Сергиевой лавре он испытал не только чувства отчуждённости и забвения — чувства естественные, если соотнести их с историко-политическим контекстом места, — но и, с наибольшей силой, — чувство коренной «запылённости» и великолепных святынь, и самих людей, в окружении этих святынь живущих и действующих. То было чувство, рождённое впечатлением от учреждения, от Православной церкви, для которой традиция перестала быть богатством, вложенным в развитие, а стала замороженным непроизводительным капиталом. И хуже всего ему показалось то, что такая бесперспективность, такое удовольствование имеющимся обусловлены не внешней причиной — социально-политическим строем Советского Союза, а внутренней40:
«В Троицком соборе древний, застоявшийся воздух будто спускается со сводов, как их веками остававшаяся неподвижной тень — золотисто-темная, ритуальная, высокопарная и абсурдно изысканная... У людей, наполняющих перенасыщенный декламаторским экстазом собор, тела и лица, одежда и жесты выглядят так, словно они вне времени — и не только у женщин и стариков, но и у молодых... Жёсткие, непроницаемые лица, круглые головы крестьянок... фанатичные глаза... Попы — в вышитых епитрахилях и высоких митрах; у них огромные головы, с которых свисают гигантские окаменелые бороды, седые, черные, рыжие — пестрые религиозные чащи волос; и длинные шевелюры распущены у них по плечам, светлые и блестящие у молодых, выцветшие — будто пыльные — у старых... Знаменитый отшельник, ему за сто лет, сидит на каменной скамье. Он походит на скалу или на ствол дерева в лесу. У него громадная голова с огромным, как башня, лбом, обрамленная кущами седых волос, спадающих по плечам прядями подобно мху, свисающему со старых ветвей».
Мнение Моравиа после посещения знаменитого монастыря — не менее критическое. Заметив, что в соборе молились только старушки-крестьянки в платочках и валенках, автор так передаёт своё впечатление от Загорска: место, ещё согретое вековой набожностью, однако в то же время медленно, но неудержимо остывающее. Как и Леви, Моравиа объясняет это не столько социально-политическими обстоятельствами, сколько внутренней отсталостью Православной церкви41:
«В густой тени некоторых расписанных и дымных часовен я угадывал фигуры молодых бледных светловолосых дьячков с острыми бородками и визионерскими глазами: таких персонажей Достоевский мастерски описал в главе, посвящённой монастырю Старца в "Братьях Карамазовых". И тот факт, что здесь я везде встречал то, что я уже знал и чего ожидал благодаря классической рус- ской литературе, лишь подтверждал вынесенное мной впечатление о непоправимом упадке мира, не столько преследуемого и угнетаемого, сколько анемичного и лишённого жизнеспособности».
Гуляя по монастырю, Моравиа делает предположение, что «ключ к пониманию этого упадка можно усматривать в мифическом, фантастическом, фольклорном, неисторическом характере самого места, где всё говорит более воображению, чем уму»42, а заканчивает свои размышления обширными и нелестными для православия цитатами из де Кюстина. Невольно напрашивается вывод, что как писатель-коммунист Моравиа и не мог прийти к иному заключению. На это, однако, следует ответить, что святым местам католицизма он подобные черты не приписывает, хотя и остаётся при этом на позиции неверующего интеллектуала.
V
Очевидно, что при всех отмеченных мной (и не отмеченных) различиях между двумя первыми произведениями, они очень близки в жанровом отношении: это замечательные книги двух знаменитых писателей об их путешествиях по послесталинскому Советскому Союзу. И хотя первая из них «заказная» (импульс к её созданию исходил от знаменитого туринского издателя-интеллектуала Джулио Эйнауди), тогда как вторая, похоже, родилась без видимого побуждения извне, обе вероятнее всего были написаны при поддержке итальянской компартии. Третий же выбранный мною текст принадлежит человеку совсем иных воззрений и является отнюдь не путевыми воспоминаниями и впечатлениями, а настоящей художественной прозой о путешествии вымышленных героев в СССР, где сам автор никогда не был.
Гуарески написал пасквиль — по-настоящему смешной. Содержание его таково. В провинциальном городке итальянской области Эмилия-Романья, фактически представляющем собой всю Италию, политические симпатии населения делятся между двумя партиями: коммунистами и христианскими демократами, интересы которых отстаивают постоянно и пылко воюющие друг с другом мэр-коммунист Джузеппе Боттацци (для всех просто Пеппоне) и приходский священник дон Камилло. В один прекрасный день до дона Камилло доходит слух, что Пеппоне выиграл фантастическую сумму в футбольной лотерее. Пеппоне сначала отрицает факт выигрыша. Но он понимает, что попал в неудобное положение: с одной стороны, истинный коммунист не может быть миллионером, а с другой — всё-таки человек семейный, деньги всегда пригодятся и т. д. Не зная, на что решиться, Пеппоне просит дона Камилло спрятать пока чемоданчик с купюрами у него дома. Священник соглашается, однако при одном условии: в планируемую премиальную поездку в СССР лучших местных активистов компартии, в которую они должны отправиться под руководством Пеппоне, поедет и дон Камилло под чужим именем партийного функционера. Делать нечего, мэр соглашается. Во время визита в СССР дон Камилло не упустит ни одной возможности для того, чтобы, во-первых, разоблачать мелкобуржуазные нравы каждого участника путешествия, во-вторых, как только представится случай, выполнять свои обязанности священника — крестить, сочетать браком и даже служить мессу. Моя цель вовсе не в том, чтобы дать разбираемым произведениям сравнительную оценку. Но полностью избежать сравнения невозможно. Герои Гуарески такие яркие, их постоянные перебранки так забавны, соперничество — так наивно, что они не могут не вызывать человеческую симпатию. Но, увы, неприкрытая идеологическая предвзятость автора повести, изобилующей политическими штампами и общими местами, лишают её, при сравнении с историко-социологической конкретностью текстов Леви и Моравиа, с их продуманными, спокойными суждениями, какого-либо интеллектуального значения.
Тем не менее Гуарески тоже ищет и создаёт свой образ современной ему России. Правда, «свой» в данном случае не означает «оригинальный»: он скомпонован из распространённых тогда в Италии представлений о СССР, в том числе, явно многим обязан вычитанному у Леви и Моравиа. В подтверждение влияния на Гуарески этих авторов, в особенности Моравиа, достаточно обратить внимание на разбросанные в его повести пейзажные зарисовки, точнее, на их тональность. Приведу только два примера. Вот первый43:
«Покинули город, и пошли унылые бесконечные поля».
А вот второй пример, на мой взгляд, ещё более убедительный44:
«Наступил вечер: ни дерево, ни дом не прерывали монотонность безграничной волнистой равнины, обдуваемой ветром... Вроде бы и нетрудно вообразить эти поля преобразившимися в колышущийся под ветром океан золотистых колосьев — но они такие унылые, что и солнце самой ослепительной фантазии не смогло бы согреть замороженного их видом сердца».
Есть, однако, в этом комбинированном образе нечто, что, невзирая на его явную вторичность, не позволяет им пренебречь. Это черты, наличествовавшие и у Леви с Моравиа, но у Гуарески преувеличенные иронией. Скажем, в его повести тоже подчёркиваются скромность одежды русских, отсутствие в ней сколько-нибудь заметной эротичности, её сугубая функциональность, но — почти гротескно45:
«Было серое осеннее утро: на безлюдных улицах женщины, закутанные в мужскую рабочую одежду, мыли и подметали асфальт. Старыми полуразвалив-шимися трамваями управляли женщины-водители, тоже в штанах. Другие женщины, в комбинезонах, асфальтировали площадь, а третьи, опять-таки в запылённых штанах, работали в строящемся здании. Перед «Гастрономом» — большая очередь из женщин: они также в очень скромной одежде, хотя определённо женской».
(Кстати, в этом отрывке акцентируется ещё одна черта, поражавшая побывавших в СССР итальянцев, — отсутствие существенных различий в структурах мужской и женской занятости. В Италии того времени господствовал режим жесткой дифференциации между профессиями, считавшимися мужскими и женскими. Тогда женщине было немыслимо работать, например, водителем трамвая или строителем.)
Или, подобно Моравиа, Гуарески обращает внимание на неразвитость в СССР лёгкой промышленности. Но посмотрите, как он это делает, какие слова вкладывает в уста дона Камилло после того как тот разворачивает в гостинице свёрток с последней покупкой Пеппо-не, сделанной в универмаге какого-то безвестного провинциального города46:
«Прелесть! У нас такие носки и во сне ни увидишь. Не говорю уж об умнейшей идее делать один носок длиннее другого. Ведь и в самом деле ни у одного человека ноги не бывают совершенно одинаковыми!»
Оригинальность образа СССР у Гуарески в том, что он всем чертам этого образа, списанным с путевых впечатлений предшественников, даёт совсем не то их истолкование — возвышенно эмоциональное или бесстрастно интеллектуальное, — которое мы находим у Леви и Моравиа: та самая усмешка обывательского здравого смысла, с помощью которой он их выхватил и заострил, делает их одновременно сниженными, развенчанными —ив конечном счёте развенчивающими советского человека, помогающими представить его таким же
«мелкобуржуазным» в душе, как и итальянские коммунисты — спутники дона Камилло. И тут уже в ход идут не пропагандистские клише, а художественные средства. Вот как — лаконично и убедительно — передаёт он, например, ощущение потребительской обделён-ности русских женщин, разворачивая перед читателем сцену, которую вполне мог представить по чьим-то рассказам, но своими глазами уж точно не видел47:
«Большой магазин был битком набит женщинами. Многие были в рабочих комбинезонах или же в форме водителя трамвая либо почтальона; но все они, выходя из продуктового отдела с какими-то купленными там банками или свертками, как зачарованные, любовались выставленной в других отделах обувью, одеждой, бельём и прочими женскими штучками».
* * *
В текстах Леви, Моравиа и Гуарески можно было бы проследить немало других аспектов представлений, значимых для изучения образа СССР в Италии, например, о полиэтническом составе населения, состоянии культуры и образования, сельского хозяйства и т. д. Однако мне кажется, что рассмотрение аспектов, затронутых в статье, довольно ясно и однозначно позволяет сделать, как минимум, три вывода. Во-первых, вывод о большом интересе итальянцев к Советскому Союзу. Во-вторых, о том, что интерес этот необязательно проявлялся только в политически дружественном СССР лагере. В-третьих, ещё и о том, что наблюдения и суждения трёх писателей важны с точки зрения лучшего понимания не только образа советской России, но и личностей этих до сих пор авторитетных деятелей итальянской культуры. Равно как и политического образа самой Италии в то время, да и спустя многих лет. Кроме того, примечательно, что у всех троих часто всплывают вроде бы мимолётные, но много значащие сравнения русского народа и России с итальянцами, Италией и другими народами и странами. Мне кажется, что здесь кроется одна из самых важных и ценных характеристик рассмотренных произведений, общая им и не выступающая на первый план, а скрытая в складках повествования, чаще всего даже в «не сказанном». Это отражение одной особенности итальянцев, точнее, быть может, итальянцев какими они были до эпохи глобализации: определить её можно как отсутствие укоренённого национализма и расизма.
Заключение, хотя и банальное, здесь может быть только одно: вопреки всем мыслимым различиям в социальном строе и полити- ческих ориентациях, в нравах и обычаях, все мы в конце концов одинаковы. Этим во многом объясняется — и утверждается — сугубо человеческий, не идеологизированный либо преодолевающий идеологизацию подход наших авторов к увиденному ими или воображённому Чужому.
В связи с этим хочется заключить цитатой из «II compagno don Camillo», самого ироничного, порой даже язвительного из трёх рассмотренных текстов. Фраза — внешне простая, а подтекст — насыщен значением. «Представляя» итальянской делегации русского переводчика Надю Петровну48, Гуарески пишет49:
«Девушка говорила на чистейшем итальянском языке. Не будь у неё такого напора и не будь на ней такого, с квадратными плечами, женского костюма, её можно было бы спутать с девушкой из наших краёв».
Список литературы Три поиска одного образа: Россия / СССР в прозе Карло Леви, Альберто Моравиа, Джованнино Гуарески Татьяна Дронзина, Иванка Мавродиева. Образ России в средствах массовой информации Болгарии
- Казари P. Fascino slavo: русская femme fatale в итальянской литературе конца XIX -начала XX века//Colloquium-2007. Белгород -Бергамо, 2007. С. 67-74.
- Bedeschi G. Centomila gavette di ghiaccio. Milano, Mursia, 1963.
- Giordano V. La tragedia dell'ARMIR. Milano, Gastaldi, 1950;
- Valori F. Gli italiani in Russia. La campagna dello C.S.I.R. e dell'A.R.M.I.R. Milano, 1967
- CarloniM. La campagna di Russia. Milano, Longanesi, 1971;
- Filatov G. La campagna orientale di Mussolini. Milano, Mursia, 1979
- Messe G. La guerra al fronte russo. Milano, Mursia, 2005.
- de Michelis С. II "testo russo" nella narrativa italiana del XX secolo («Русский текст» в итальянской беллетристике XX века)//Toronto Slavic Quarterly (Academic Electronic Journal in Slavic Studies), Summer 2006, No. 17. Available at: www.utoronto.ca/tsq/17/michelisl7.shtml.
- Calvesi M. La metafisica schiarita. Da De Chirico a Carra, da Morandi a Savinio. Milano, Feltrinelli, 1982
- Cowling E., Mundy J. On Classical Ground. Picasso, Leger, de Chirico and the New Classicism 1910-1930. London, Tate Gallery, 1990
- Baldacci P. De Chirico 1888-1919. La metafisica. Milano, Leonardo Arte, 1997
- Ragghianti С. L. Carlo Levi. Firenze, 1948
- Levi C. Opere dal 1923 al 1973 (каталог выставки. -У. П.). Perugia, 1988
- Mann V. В. Gardens and Ghettos. The Art of Jewish Life in Italy (каталог выставки. -У. П.). New York, 1989
- Arte della liberta (каталог выставки. -У. П.). Milano, Mazzotta, 1996; www.archimagazine.com/rlevifonti.htm.
- Rosa G. Cattedrali di carta. Elsa Morante romanziera. Milano, II saggiatore, 1995;
- Lucamente S. Elsa Morante e 1'eredita proustiana. Firenze, Cadmo, 1998
- Bardini M. Morante Elsa. Italiana. Di professione poeta. Pisa, Nistri-Lischi, 1999;
- Jorgensen C.-K. Visione esistenziale nei romanzi di Elsa Morante. Roma, L'Erma, 1999.
- Sanguined E. Alberto Moravia. Milano, Mursia, 1962;
- Siciliano E. Alberto Moravia. Vita, parole e idee di un romanziere. Milano, Bompiani, 1982;
- Per Moravia. Press book della sua morte. Roma, Salerno Editrice, 1990
- Dego G. Moravia in bianco e nero. La vita, le opere, i viaggi. Lugano, Casagrande-Fidia-Sapiens. 2008.
- Gualazzini В. Guareschi. Milano, Editoriale Nuova, 1981
- Conti G. Giovannino Guareschi. Biografia di uno scrittore. Milano, Rizzoli. 2008.
- Moravia A. Un mese in U.R.S.S.//Opere complete, 14. Milano, Bompiani, 1976. P. 25-26.