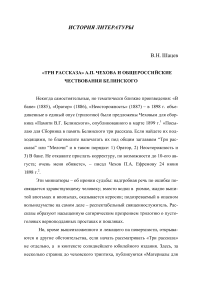«Три рассказа» А. П. Чехова и общероссийские чествования Белинского
Автор: Шацев Владимир Натанович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: История литературы
Статья в выпуске: 2 (9), 2009 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14914159
IDR: 14914159
Текст статьи «Три рассказа» А. П. Чехова и общероссийские чествования Белинского
Некогда самостоятельные, но тематически близкие произведения: «В бане» (1885), «Оратор» (1886), «Неосторожность» (1887) – в 1898 г. объединенные в единый опус (трилогию) были предложены Чеховым для сборника «Памяти В.Г. Белинского», опубликованного в марте 1899 г.1 «Посылаю для Сборника в память Белинского три рассказа. Если найдете их подходящими, то благоволите напечатать их под общим заглавием “Три рассказа” или “Мелочи” и в таком порядке: 1) Оратор, 2) Неосторожность и 3) В бане. Не откажите прислать корректуру, по возможности до 10-ого августа; очень меня обяжете», – писал Чехов П.А. Ефремову 24 июня 1898 г.2.
Эти миниатюры – об иронии судьбы: надгробная речь по ошибке посвящается здравствующему человеку; вместо водки в рюмке, жадно выпитой впотьмах и впопыхах, оказывается керосин; подозреваемый в опасном вольнодумстве на самом деле – респектабельный священнослужитель. Рассказы образуют насыщенную сатирическим презрением трилогию о пустоголовых верноподданных простаках и пошляках.
Но, кроме вышеизложенного и лежащего на поверхности, открываются и другие обстоятельства, если начать рассматривать «Три рассказа» не отдельно, а в контексте солиднейшего юбилейного издания. Здесь, за несколько страниц до чеховского триптиха, публикуются «Материалы для биографии Белинского», среди них «Записки и письмо Белинского к А.П. Ефремову3» и «Письма Белинского к жене, 1846 г.». Главное в письме к Ефремову, отправленном из Петербурга 23 августа 1840 г., – оплакивание смерти Станкевича. Это письмо сближается по своей тональности с многочисленными адресами и приветствиями от обществ распространения народной грамотности, драматических кружков, от жителей станции Рти-щево, от общества пензенских врачей и т.п. – адресованных редакции Сборника, который посвящен 50-летию смерти Белинского, «одного из великих сынов России»4. Тексты от почитателей, выдержанные в духе некрасовской гражданственности, определяют и невероятно серьезный, вплоть даже до некоторой неосознаваемо пародийной мрачноватости, настрой всей более чем 600-страничной книги, в которую включены научные, эпистолярные и художественные тексты шестидесяти четырех авторов.
Сборник состоит из предисловия и двух отделов, в первом из которых представлены тексты речей Н.И. Стороженко, И.И. Иванова, В.Е. Якушкина, А.Н. Веселовского, Г.А. Джаншиева, В.П. Острогорского, Н.К. Михайловского, Д.Н. Овсяннико-Куликовского, М.М. Филиппова, А.Н. Пыпина5, а также «Материалы для биографии Белинского».
На этом сурово-торжественном академическом фоне удивительным диссонансом звучат помещенные почти в самом начале второго отдела легкомысленные «Три рассказа».
В первом из них («Оратор») на похороны «коллежского асессора Ва-вилонова, умершего от двух болезней, столь распространенных в нашем отечестве: от злой жены и алкоголизма» (V, 431) приглашен за выпивку и скромный гонорар популярный молодой оратор Запойкин – «cказать на прощание какую-нибудь чепуховину <…> поцицеронистей» (V, 431). Пьяный Запойкин, не разобравшись, кто лежит в гробу, произносит скорбный монолог об усопшем Прокофии Осиповиче, в то время как Прокофий Осипович, вполне даже здравствующий, присутствует тут же, на кладби- ще: «…наподобие неутомимой пчелы, носил свой мед в общий улей государственного благоустройства, тот, который… этот самый обратился теперь в прах, в вещественный мираж. Неумолимая смерть наложила на него коснеющую руку… <…> Незаменимая потеря!» (V, 431). Шутовская псевдо-скорбь Запойкина по усопшему заставляет вспомнить слова Белинского о Станкевиче, «божественной личности»6: «Мысль о том, что все живет одно мгновение, что после самого Наполеона осталось только несколько костей <…> Смерть, смерть! Вот истинный Бог мира!»7. Кости, прах, в которые превращается каждый, всемогущество смерти — эта гамлетовская («Poor Yorick!») риторика, вполне возможная в любом надгробном словотворчестве, здесь, в контексте сборника, звучит серьезно по отношению к Станкевичу и вызывает в памяти то многое, что сказано в панегирических эссе о Белинском, но также вдруг обнаруживает свое отражение в комическом зеркале «осколочного» Чехова.
Второй текст в триптихе – «Неосторожность», «рассказ о чиновнике, который по ошибке вместо водки выпил керосину» (П VII, 193)8. В письме к сестре Чехов точно ошибся в названии рассказа9, а Л.Н. Толстой, который, по свидетельству его дочери Т.Л. Толстой, считал эту «мелочишку» лучшей из всех трех помещенных в сборнике «Памяти Белинского», называл ее «Керосин»10. В предназначенной для мемориального Сборника трилогии рассказ этот, при всей его внешней незамысловатости, является центральным и хотя бы потому значительным. Значение его в том, что «Неос-торожность»/«Ошибка»/«Керосин» повествует о сокрушительной неожиданности: «…произошло нечто вроде чуда. <…> Ему показалось, что вместо водки он проглотил кусок динамита, который взорвал его тело, дом, весь переулок… Голова, руки, ноги – все оторвалось и полетело куда-то к черту, в пространство…» (VI, 64). В некотором смысле чудесной неожиданностью в сборнике предстает и коллекция миниатюр «Три рассказа», которые определенно являются чужеродным взрывным материалом по от- ношению ко всему корпусу печальных и торжественных текстов, составляющих сборник.
Третий рассказ «В бане» – о том, как цирюльник Михайло заподозрил в одном из мужчин, хлещущих себя веником в парилке, социального радикала, с «идеями». Подозреваемый, который, по мнению Михайлы, опасными речами «народ смущает», оказывается почтенным служителем церкви. Но сатира на глупенького доносчика оказывается не единственным смыслом рассказа, если рассмотреть его в связи с фигурой Белинского в контексте сборника его памяти.
Критик предстает в статьях сборника как «бедняк, зарабатывающий свой хлеб журнальной работой»11, как писатель и редактор, который «получал очень мало, сильно нуждался в средствах даже для самого необхо-димого»12. Эта репутация находит свою параллель в рассказе Чехова: «Беден, да честен! – донесся с верхней полки хриплый бас. – Такими людьми гордиться нужно. Образованность, соединенная с бедностью, свидетельствует о высоких качествах души. Невежа!» (III, 180).
Как и все части «Трех рассказов», гневные реплики голого дьякона приобретают какое-то особенное – пародирующее – значение после пафосных характеристик, данных Белинскому в статьях прославленных профессоров и литературных критиков.
«…Наша критика должна быть учителем общества и на простом языке высказывать высокие истины»13. «Исчезли давно все те, которых Белинский считал тормозами нашего общественного развития и которые своими нападками и преследованиями отравили его недолгую жизнь. Но, забывая по-христиански все содеянное ими, мы не должны забывать, что тем подъемом общественного сознания, той массой света и тепла, которые пролились с тех пор на русскую землю, мы обязаны, главным образом, людям сороковых годов и стоявшему во главе их Белинскому»14. «Вы видите, какая сравнительно сложная задача – понять настоящую цену просвети- тельной работы писателя <… > связи всех живых сил русского народа с Белинским»15. Этот почтительный восторг перед просвещением и обличение невежества отзываются в следующем диалоге, происходящем в парил- ке:
«Писатели были в России многие и пользу принесшие. Они просветили землю, и за это самое мы должны относиться к ним не с поруганием, а с честью. Говорю я о писателях как светских, так равно и духовных.
– Духовные особы не станут такими делами заниматься.
– Тебе, невеже, не понять. Димитрий Ростовский, Иннокентий Херсонский, Филарет Московский и прочие другие святители церкви своими творениями достаточно способствовали просвещению» (III, 181).
Наличие отцов церкви в списке просветителей неожиданно перекликается с некоторыми мотивами мемориального сборника, где врагов, «тормозящих просвещение», предлагается простить по-христиански. Первая из трех фототипий, та, что на титульном листе, сделана с рисунка И.А. Астафьева «Белинский в гробу»: профиль покойного стилизован под традиционные изображения лика Христа, а лавровый венок, обрамляющий голову, напоминает терновый венец.
Особенно интересна третья фототипия с портрета О.М. Языковой (С. 157), помещенная всего за четыре страницы до «Трех рассказов». Она изображает великого критика именно так, как у Чехонте описан отец дьякон: «Длинноволосый <… > Худенький такой, белобрысенький... Бородка чуть-чуть... Всё кашляет» (III, 181–182). Фототипия, разумеется, не передает хронический кашель, «не грудной и не желудочный, а происходит от расстройства всего организма, преимущественно же нервной системы»16. О нем, о кашле, в письмах Белинского к жене на 27-ми страницах есть 12 упоминаний. Болезнь, погубившая Белинского, конечно, была известна Чехову, который не мог не отдавать себе отчета в портретном сходстве собственного персонажа с великим критиком.
Рассказ, выбранный Чеховым для сборника, в новом контексте обретает новый смысл. Удивительным образом тень Белинского как будто нисходит с литературного Олимпа в провинциальную баню и ложится на верхнюю полку парилки, откуда уже в образе дьякона хрипло и страстно критикует невежество. В виднеющемся сквозь волны пара дьяконе, который обмахивается веником, а затем наливает себе в банную шайку воды, узнается воитель за просвещение, страшный в гневе неистовый Виссарион, торжествующий над скудоумным врагом.
«Отец дьякон! – обратился к нему Михайло плачущим голосом. – Простите меня, Христа ради, окаянного!
– За что такое?
Михайло глубоко вздохнул и поклонился дьякону в ноги.
– За то, что я подумал, что у вас в голове есть идеи!» (III, 182).
Этому финальному во всем триптихе диалогу предшествуют рассуждения о Белинском, который в письме к Боткину признавался, что социальная идея стала для него «идеей идей»17, который, по словам И.И. Иванова, генерировал «идеи совершенно бесспорные»18 и повлиял на содержание учебников, «основанных на его литературных идеях»19.
Каждый из персонажей «Трех рассказов» – будь то до безобразия красноречивый и знаменитый в своем городе оратор Запойкин или хлебнувший керосина добродетелями обремененный Стрижин, не умерший только оттого что, по его словам, вел «правильную и регулярную жизнь» (VI, 68), или бдительный ловец инакомыслящих в бане «цирюльник-с» Михайло – мог бы быть охарактеризован мнением Белинского о его тесте: «Почтенный человек! Вот истинный-то представитель отсутствия добра и зла, олицетворенная пустота!»20.
Выбирая рассказы для мемориального сборника, Чехов не мог заранее познакомиться с другими включенными в него текстами. И все же «странные сближения», которых даже значительно больше, чем перечис- лено выше, объяснимы не отнюдь случайностью, а другим обстоятельст- вом.
Лично знакомый Чехову бывший редактор «Северного вестника» Б.Б. Глинский выпустил в свет обзорный труд «Виссарион Григорьевич Белинский и чествование его памяти, с пятью иллюстрациями и приложением его юношеского “Журнала поездки в Москву и пребывания в оной”» (СПб: Типография А.С. Суворина, 1898). Эта книга описывает посвященные Белинскому общественные чествования в столицах и провинции: возложение венков на постамент его бюста, заседания, театральные представления и (как это было, например, в Пензе) обеды с предложением почтить вставанием «память отсутствующего Афитриона и виновника торжества»21 с тостами за Государя Императора, за августейшего покровителя местного Лермонтовского общества великого князя Константина Константиновича и других, уже местных, меценатов и общественников («Тост в честь городского головы был покрыт громкими и продолжительными рукоплескания-ми»22). Очерки Б.Б. Глинского насыщены его собственным восторженными оценками и пересказами многочисленных статей и докладов, произнесенных как раз упомянутыми и цитированными выше Н.И. Стороженко, И.И. Ивановым, В.Е. Якушкиным, А.Н. Веселовским, Г.А. Джаншиевым, В.П. Острогорским, Н.К. Михайловским, Д.Н. Овсяннико-Куликовским, М.М. Филипповым, А.Н. Пыпиным и многими другими. Здесь «славный покойник»23, «светоч, зажженный рукою творца в сумерках человеческой жизни!..»24, «сам воздвигал себе несокрушимый памятник в летописях русской художественной мысли»25; здесь не было предела в славословии «учителю правды, добра и красоты»26, а интеллигенцию призывали быть достойной «памяти своего выдающегося вождя и учителя »27 и т. д.
«Три рассказа» были отосланы П.А. Ефремову в июне 1898 г., в середине июля того же года выходит в свет обзорный труд Б.Б. Глинского, пафос и стилистка которого позволяют судить о той атмосфере, которую
Чехов должен был неминуемо почувствовать, возвратившись из Франции. В мае 1898 г. писатель попадает в обстановку всероссийских чествований Белинского, бурная подготовка к которым и освещение которых весной 1898-го велась во всех заметных литературно-общественных и политических периодических изданиях.
Таким образом, далекий от патетики Чехов мог легко представить себе общий тон сборника, издаваемого Ефремовым, и предложить свои «Три рассказа», вполне умышленно стремясь понизить градус мемориальной восторженности и высокопарности. Здесь можно было бы вспомнить заметку Пушкина о пародии «Англия есть отечество карикатуры»: «Всякое замечательное происшествие подает повод к сатирической картинке: всякое сочинение, ознаменованное успехом, подпадает под пародию. <…> Сей род шуток требует редкой гибкости слога…»28. Замечательное общероссийское помпезное мероприятие вызвало затаенную на него пародию Чехова. Недоверие Чехова к любым юбилейным торжествам и восторгам не связано с его отношением к Белинскому. Чехов оставил о нем и его трудах несколько беглых упоминаний, доброжелательную интонацию которых вряд ли могло поколебать даже раздраженное отношение к великому критику А.С. Суворина29. Желание дистанцироваться от легко предугадываемой патетики большинства авторов сборника – вот что могло побудить Чехова предложить откровенно сатирические «Три рассказа» П.А. Ефремову. В этой связи уместно привести наблюдение современного исследователя: «Вопреки вере самого Чехова в науку, прогресс и факты, доброжелательное просветительство или научный интерес у его героев не бывает полностью позитивен. Человек, выступающий в любом из субжанров информативного сообщения, излагающий нужные, полезные или занимательные факты, – всегда оказывается по какой-то причине не безупре-чен»30. Страстно преподнесенные полезные и занимательные факты, изложенные в довольно похожих друг на друга публицистических и поэтиче- ских текстах памяти Белинского благодаря «Трем рассказам», введенным в сборник, оказываются не то чтобы небезупречными – скорее здесь возникает еще одно измерение, еще одна возможность: взглянуть на ораторов и стихотворцев немного иронично. Три чеховские рассказа – карикатурное зеркало торжественности, помпы, парадности с привкусом мертвечины, обожествления некогда бывшего не только величайшим («His name became the greatest Russian myth in the nineteenth century…»31), но все-таки еще и по-человечески слабым, ранимым, смешным, эгоистичным – всяким – Виссарионом Белинским. Публикация «Трех рассказов» в сборнике происходит в важный для жизни Чехова момент. Как 1888-ой с публикацией повести «Степь» стал для Чехова переломным годом, так и десять лет спустя, в период между «Чайкой», «Дядей Ваней», с одной стороны, и «Тремя сестрами», с другой, происходит новый творческий подъем, выход на иной, особенный, уровень миропонимания. «После восьми месяцев, проведенных во Франции, в возбуждении от дела Дрейфуса, Чехов вернулся на родину, и результатом этого нового возмужания, и гражданского, и художнического, стал “Человек в футляре”»32, написанный в мае-июне 1898 г.
Этот важный момент характеризуется еще и тем, что здесь по-своему сводятся счеты с критиком А.М. Скабичевским, который в давней рецензии на «Пестрые рассказы» не без некоторых на то оснований ядовито заметил про Антошу Чехонте, что тот « записался в цех газетных клоунов <…> увешавшись побрякушками шута»33. Этот отзыв, в целом достаточно все же сочувственный, как известно, сильно и надолго обидел Чехова, который вполне мог предполагать, что его рассказы окажутся в сборнике «Памяти Белинского» под одной обложкой с текстом Скабичевского. Основания для такого предположения были: Скабичевский принимал активное участие в чествованиях «неистового Виссариона» и в майском номере читаемой Чеховым «Русской мысли» (1898) поместил статью с популярным в ту весну стандартным названием «Памяти Белинского». Здесь, как и в прочих подобных статьях, биография великого критика излагалась в сопровождении цитат из Некрасова; сам же Белинский был представлен общественным светочем в ночи невежества: «Эта редкая великая нравственная сила влияла столь же неотразимо не на одних друзей Белинского: просвечивая в каждой строке горячих и увлекательных статей, она увлекала все русское общество, раздвигая перед ним широкие и далекие перспективы умственного и нравственного прогресса и призывала на смертельную борьбу с мраком невежества и зверства»34.
Однако Скабичевский не опубликовался в ефремовском сборнике, и тем не менее встреча Чехова с обличителями «шутовской» юмористики состоялась. Вот что совершенно в духе Скабичевского писал публицист Л.З. Слонимский: «Господство формы над содержанием, доведенное до крайности, создает особый тип писателей, у которых нет ничего за душой, кроме бойкого пера, свободно гуляющего по бумаге. Поворотливый острый язык действует без всякого контроля; он не нуждается ни в знаниях, ни в логике, ни в здравом смысле и подчиняется исключительно стремлению к дешевым внешним эффектам. Такие писатели могут легко приобрести популярность; но эта популярность остается столь же мимолетною, как и те остроты и словечки, на которых она держится.
Ежедневная печать предъявляет постоянный спрос на людей, умеющих лучше и живее писать, чем думать. Завлекая в свой круговорот молодые умы и таланты, она перерабатывает их в известном духе, разменивает на мелочи их творческую силу и постепенно обрекает их на бесплодие. Кто раз попал в газетную журналистику и увлекся ее соблазнами, тот редко уже сохраняет способность к самостоятельной умственной работе; он незаметно делается жертвою писательства, в котором слово предшествует мысли»35.
Это суждение основательно, но не безусловно. Ведь «осколочные» «Три рассказа», Чеховым подобранные для сборника в честь Белинского, обнаруживают глубокие и подчас причудливые связи. Это связи зрелого писателя с литературной и общественной средой его времени, оглядывающейся на собственное культурно-историческое наследие.
-
1 Памяти В.Г. Белинского: Литературный сборник, составленный из трудов русских литераторов. С 3 фототипиями / Изд. Пензенской общественной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова. М., 1899.
-
2 Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. М., 1979. Т. 7. С. 227. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте, с указанием тома и страницы. Перед номером тома, относящимся к серии писем, ставится литера «П».
-
3 А.П. Ефремов – друг Белинского, Станкевича и Грановского, отец П.А. Ефремова, редактора сборника «Памяти В.Г. Белинского».
-
4 Памяти В.Г. Белинского. С. XXXIX.
-
5 Речи были произнесены 8 апреля 1898 г. на посвященном памяти Белинского торжественном собрании Общества любителей российской словесности.
-
6 Памяти В.Г. Белинского. С. 116.
-
7 Там же.
-
8 Из письма к М.П. Чеховой от 28 марта (9 апреля) 1898 г. из Ниццы.
-
9 «У меня в столе справа, в среднем ящике есть вырезка из “Осколков”, рассказ “Ошибка” (кажется)» (Там же).
-
10 См.: П: VI, 636 (примеч. В.Б. Катаева).
-
11 Стороженко Н.И. Памяти Белинского // Памяти В.Г. Белинского. С. 1.
-
12 Якушкин В.Е. Белинский, его друзья и враги // Памяти В.Г. Белинского. С. 35.
-
13 Стороженко Н.И. Указ. соч. С. 2 (курсив мой – В.Ш. ).
-
14 Там же. С. 7 (курсив мой – В.Ш. ).
-
15 Иванов И.И. Белинский как русский культурно-исторический тип // Памяти В.Г. Белинского. С. 10–11 (курсив мой – В.Ш. ).
-
16 Письма Белинского к жене. 1846 // Памяти В.Г. Белинского. С. 138.
-
17 Цит. по: Стороженко Н.И. Указ. соч. С. 2.
-
18 Иванов И.И. Указ. соч. С. 9–10.
-
19 Там же. С. 10.
-
20 Письма Белинского к жене. 1846. С. 121.
-
21 Глинский Б.Б. Виссарион Григорьевич Белинский и чествование его памяти, с пятью иллюстрациями и приложением его юношеского «Журнала поездки в Москву и пребывания в оной». СПб., 1898. С. 74.
-
22 Там же. С. 89.
-
23 Там же. С. 80.
-
24 Там же. С. 81.
-
25 Там же. С. 98.
-
26 Там же. С. 103.
-
27 Там же. С. 106 (курсив мой – В. Ш. ).
-
28 Пушкин А.С. Полн. собр. соч. [М.; Л.], 1949. Т. 11. С. 118.
-
29 Суворин А.С. «Горе от ума» и его критики // «Горе от ума», комедия в четырех действиях А.С. Грибоедова. СПб., 1886. С. XXXV, XLV, LI .
-
30 Степанов А. Д. Проблемы коммуникации у Чехова. М., 2005. С. 86–87.
-
31 Berlin I. Vissarion Belinsky // Russian Thinkers. London, 1994. P. 152.
-
32 Катаев В.Б. Чехов плюс… М., 2004. С. 45.
-
33 Скабичевский А.М. Новые книги. Пестрые рассказы. А. Чехонте // Ле Флеминг С. Господа критики и господин Чехов. СПб., 2006. С. 503.
-
34 Скабичевский А.М. Памяти Белинского // Русская мысль.1898. № 5. С. 11.
-
35 Слонимский Л.З. Профессия писателя // Памяти Белинского. С. 393–394.
Список литературы «Три рассказа» А. П. Чехова и общероссийские чествования Белинского
- Памяти В.Г. Белинского: Литературный сборник, составленный из трудов русских литераторов. С 3 фототипиями/Изд. Пензенской общественной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова. М., 1899
- Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. М., 1979. Т. 7. С. 227
- Памяти В.Г. Белинского. С. XXXIX
- Памяти В.Г. Белинского. С. 116
- П: VI, 636 (примеч. В.Б. Катаева)
- Стороженко Н.И. Памяти Белинского//Памяти В.Г. Белинского. С. 1
- Якушкин В.Е. Белинский, его друзья и враги//Памяти В.Г. Белинского. С. 35
- Стороженко Н.И. Указ. соч. С. 2 (курсив мой -В.Ш.)
- Иванов И.И. Белинский как русский культурно-исторический тип//Памяти В.Г. Белинского. С. 10-11
- Письма Белинского к жене. 1846//Памяти В.Г. Белинского. С. 138
- Стороженко Н.И. Указ. соч. С. 2
- Иванов И.И. Указ. соч. С. 9-10
- Письма Белинского к жене. 1846. С. 121
- Глинский Б.Б. Виссарион Григорьевич Белинский и чествование его памяти, с пятью иллюстрациями и приложением его юношеского «Журнала поездки в Москву и пребывания в оной». СПб., 1898. С. 74
- Пушкин А.С. Полн. собр. соч. , 1949. Т. 11. С. 118
- Суворин А.С. «Горе от ума» и его критики//«Горе от ума», комедия в четырех действиях А.С. Грибоедова. СПб., 1886. С. XXXV, XLV, LI
- Степанов А. Д. Проблемы коммуникации у Чехова. М., 2005. С. 86-87
- Berlin I. Vissarion Belinsky//Russian Thinkers. London, 1994. P. 152
- Катаев В.Б. Чехов плюс… М., 2004. С. 45
- Скабичевский А.М. Новые книги. Пестрые рассказы. А. Чехонте//Ле Флеминг С. Господа критики и господин Чехов. СПб., 2006. С. 503
- Скабичевский А.М. Памяти Белинского//Русская мысль.1898. № 5. С. 11
- Слонимский Л.З. Профессия писателя//Памяти Белинского. С. 393-394