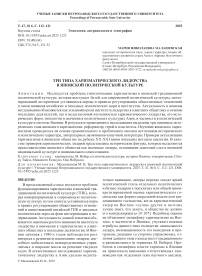Три типа харизматического лидерства в японской политической культуре
Автор: Малашевская М.Н.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Этнография, этнология и антропология
Статья в выпуске: 6 т.47, 2025 года.
Бесплатный доступ
Исследуется проблема типологизации харизматизма в японской традиционной политической культуре, которая выступает базой для современной политической культуры, синтезировавшей исторически устоявшиеся нормы и правила регулирования общественных отношений и заимствования китайских и западных политических норм и институтов. Актуальность и новизна исследования объясняются как усилением роли института лидерства в азиатских обществах в течение последних десятилетий, так и недостаточной изученностью харизматического лидерства, его исторических форм, типологии и значения в политических культурах Азии, в частности в политической культуре и системе Японии. В результате проведенного исследования выделены три основных исторических типа японского харизматизма: реформатор, герой и властитель. Изучение японского харизматизма проводилось на основе сравнительного и проблемного анализа источников исторического и политического характера, литературных памятников и научной литературы. Примеры актуализации харизматизма в японском обществе на рубеже XX–XXI веков показаны методом аналогии. В качестве примеров харизматических лидеров представлены исторические фигуры, которые выделяются представителями японского общества как значимые лидеры, оставившие заметный след в японской национальной культуре и национальном самосознании.
Харизматизм, М. Вебер, политическая культура, история Японии, модернизация, Сётоку Тайси, Минамото Ёсицунэ, Ода Нобунага
Короткий адрес: https://sciup.org/147251809
IDR: 147251809 | УДК: 572; 94.5; 321.52 | DOI: 10.15393/uchz.art.2025.1223
Текст научной статьи Три типа харизматического лидерства в японской политической культуре
В представленной статье изучается проблема функционирования харизматизма в японской традиционной политической культуре (ТПК), которая инкорпорирована в современную политическую культуру путем синтеза устоявшихся норм и правил регулирования общественных отношений и заимствований китайской ТПК и западных политических норм на фоне вестернизации и модернизации. Актуальность данной тематики объясняется заметным ростом значимости института лидерства и внимания к харизматизму в азиатских обществах в последние десятилетия. В Японии начиная с 1980-х годов наблюдается рост интереса к развитию и воспитанию лидеров, способных мобилизовать непосредственных управляемых и широкие массы на решение текущих задач. В отечественных исследованиях харизматическому лидерству в Азии уделено недоста- точное внимание, авторы нередко сводят яркий политический стиль отдельных политических и бизнес-лидеров к популизму или общей некон-кретизированной оценке харизматического господства как формы сакральной власти или традиционного господства, когда харизматический лидер на Востоке «лучше других и поэтому лучше знает, что делать, и общество не должно его контролировать» [9: 107]. Подобные оценки не объясняют специфику харизматизма на Востоке, в частности в Японии, упускают важные атрибуты данного типа господства: аномальность лидера, инновационность его поведения и программы, реакцию со стороны управляемых, отличия данного типа господства от традиционного и рационального (в терминах М. Вебера). Проблема и специфика власти харизмы в Японии на привлекала внимания отечественных японоведов как отдельная тема научного анализа.
В зарубежной литературе японская политическая культура оценивается как традиционная, регулируемая за счет клановой иерархии, обычая и традиции. Японские авторы затрагивали проблему лидерства и харизматизма, однако рассматривали отдельные его виды и не давали системной оценки, выделяя проблему харизмы сакральной фигуры императора [5: 32], [8: 315], харизмы военных правителей (сёгунов) [17], лидерства и его элементов в отношениях лидера и последователей [24], [25], [26], в контексте проблематики, связанной с менеджментом и системой административного управления. Новизна данной работы состоит в попытке объяснения специфики и типологизации харизматического господства в Японии на основе исторических примеров, реакции на инновационное поведение харизматиков со стороны японской аудитории и поиск аналогов в актуальной политической истории страны.
Автор статьи выделяет три основных типа японского харизматизма, которые прослеживаются на протяжении длительного исторического времени и особенно ярко проявляются в бифуркационные эпохи, провоцирующие необходимость восхождения ярких лидеров. В работе использованы следующие методы: метод кейсов для рассмотрения отдельных случаев и ситуаций, метод аналогии, сравнительный и проблемный анализ. Источниками исследования выступают исторические, политические, публицистические, литературные произведения. Выбор отдельных харизматических лидеров, поведение которых разбирается в статье, обусловлен широким признанием этих исторических персонажей со стороны японского общества и их ценностью для национальной культуры.
Харизматизм и властно-управленческая система тесно связаны между собой. М. Вебер сформулировал проблему традиционного, рационального и харизматического господства, согласно которой деятельность харизматического лидера ставила своей целью достижение вне-прагматических задач, реализуемых на основе эмоционального подчинения авторитету лидера. Природа данного типа лидерства носит иррациональный характер и ставит своей целью инновационное преобразование общества. Харизматический лидер принимает неординарные решения в чрезвычайных ситуациях [2: 184]. В рамках властно-управленческой системы, как отмечал В. В. Бочаров,
«управление понимается как упорядочение системы. Оно обусловливается взаимодействием управляющего (управляющей системы) и управляемого (управляемой системы). Это взаимодействие осуществляется посредством циркуляции информации от управляющей системы (генератора управляющей информации) по каналам связи к управляемой системе и от нее к управляющей системе по принципу обратной связи. На этом этапе она определяется как осведомляющая или контролирующая» [1: 12–13].
Харизматический лидер, таким образом, решает задачи по переходу общества на новый уровень развития в критические моменты, требующие инноваций.
Ниже выделены несколько переходных эпох в японской истории:
-
1. Период модернизации-китаизации VII века, осуществленной императорским двором и принцем-реформатором Сётоку Тайси.
-
2. Эпоха формирования дуальной модели власти в XII столетии, внутри которой сакральные и административные функции распределились между двумя ее базовыми элементами – императорским домом и военной ставкой сёгуна, когда ритуальные функции в поддержании гармонии в государстве сохранялись за императором, а вопросы административного управления передавались ставке.
-
3. Десятилетия объединения Японии и переход к последнему сёгунату в XVI – начале XVII столетия, когда на сцену вышли не связанные с императорской фамилией военные кланы, под властью которых страна была объединена и достигла высокого уровня развития национальной культуры и экономики.
ХАРИЗМАТИЗМ РЕФОРМАТОРА
Чтобы показать связь моделей харизматиз-ма в японской истории, подчеркнем, что в эпоху Мэйдзи (1868–1912) архитекторы реформ обратились к историческому опыту тысячелетней давности, а именно к реформам по китаизации политической структуры, созданию первого придворного правового государства и реформаторской деятельности одного из харизматических лидеров Японии – принца Сётоку Тайси (574–622). В период реформ Тайка (девиз правления, означающий «Великие преобразования», 645–650 годы, император Котоку) были продолжены коренные преобразования в области управления государством и религии, определившие развитие бюрократического государства и его идеологии [3: 116]. Идеологом реформ выступил принц Сётоку Тайси, сделавший ставку на распространение в Японии универсальной религии – буддизма, централизации власти в руках бюрократии – администрации при императоре Японии. «Конституция Сётоку» (604 год, «Семнадцатистатейное уложение») ознаменовала становление японского государства в качестве правового рационального образования и стала образцом реформаторской деятельности, а этической базой выступало конфуцианство. Текст «Конституции» представляет собой моральную программу для правящих и управляемых, в нем указаны функции чиновнического аппарата, а в третьей статье подчеркивается гармоничное взаимодействие государя и его подданных, взаимозависимость которых уподобляется небу и земле [12: 127]. При помощи указов в японское общество внедрялись конфуцианские идеологемы строго иерархизированного подчинения низших высшим и всеобщего подчинения императору, космологическая функция такой системы состоит в поддержании мира и гармонии в обществе.
Принц Сётоку ввел в японскую политическую структуру китайскую ранговую систему, состоявшую из двенадцати рангов, сформулированных согласно конфуцианским представлениям о добродетелях цзюньцзы (благородный муж) – чиновников государства. Политика и ритуал визуализировались при помощи одежд императора, царедворцев и прочих должностных лиц, регламентировались по форме и цвету согласно китайской натурфилософии [4: 53].
Личность Сётоку Тайси пользовалась неизменным уважением в японском обществе с эпохи раннего Средневековья: Д. Квинтер отметил, что он «почитался как одаренный ребенок, преданный сын, военачальник, великий государственный муж, культурный герой и поборник буддизма» [18: 155–156]. Благодаря заслугам перед государством и огромной роли, которую он сыграл в распространении буддизма в стране, принц Сётоку стал объектом поклонения, был обожествлен, возник культ поклонения этому божеству, ставший весьма популярным в Японии [18: 153]. Тексты, посвященные жизнеописанию Сётоку Тайси и его деяниям, получили широкое хождение с XI столетия, а в XIX веке в период реставрации императорской власти и модернизации эпохи Мэйдзи фигура принца Сётоку использовалась в качестве образца для подражания, позднее его изображение было помещено на банкноту номиналом 10 тыс. йен. Историк Сато Хиро назвал его «национальным идолом» [23]. Политолог Окуда Кадзухико подчеркнул важнейшую роль принца Сётоку Тайси в формировании нового государства путем адаптирования буддизма и конфуцианства и создания особой «гражданской религии», выступавшей в роли фундамента политики и цивилизации в новой Японии [22: 184–186].
Принц Сётоку почитается сегодня как национальный герой, японской молодежи его созидательная роль объясняется в качестве «архитектора создания новой страны»1. В последние десятилетия образ Сётоку Тайси пользуется большой популярностью в общественном дискурсе. Обучающие программы для школьников от национальной радиовещательной компании NHK говорят о личности принца и его реформах на поприще внедрения новой идеологии, имя принца связывается с важнейшей общественной ценностью – гармонией2, где предпочтение отдается консенсусу, а не конфликту. Реформатор обращает свою деятельность не на личные амбиции, а на общественное благо – построение новой страны на основе идеалов справедливости.
Таким образом, первая модель японского харизматического лидерства в лице национального героя – это интеллектуал-реформатор , сочетающий конфуцианские и буддийские добродетели, результаты деятельности которого заключаются в коренном преобразовании государства и общественной системы. Такой герой всегда действует в общественных интересах и имеет элитарное происхождение, легитимизирующее положение лидера.
ХАРИЗМАТИЗМ ГЕРОЯ-ВОИТЕЛЯ:
ПОЗИТИВНАЯ И НЕГАТИВНАЯ МОДЕЛИ
Вторым историческим типом харизматического лидерства в Японии представляется фигура героя-воителя , однако в общественных оценках в ней выделяются два модуса – позитивный ( герой ) и негативный ( властитель ). Японский социолог Мураками Мориюки отметил, что харизма-тизм военного правителя преобладал в Японии, в отличие от Китая с его мощной бюрократической гражданской культурой, на протяжении столетий [17]. Двумя типичными примерами выступают герой Минамото Ёсицунэ (1159–1189) и властитель Ода Нобунага (1534–1582). Оба исторических лица были выходцами из военной элиты страны, их положение являлось априори вассальным по отношению к царствующему императору и императорскому роду в рамках дуалистичной системы власти и сложившейся иерархической пирамиды, на вершине которой стоял императорский дом, затем располагались родовитые дома знати, ведущие свою генеалогию от японских божеств, ниже стояли военные родовитые дома.
Герой
Аристократический клан Минамото вел свою родословную от побочной ветви императорской фамилии из числа потомков императора Сэйва (850–881); выходцы этого семейства обладали военными талантами, поэтому нередко получали высокие военные чины [14: 3]. Одновременно с возвышением дома Минамо-то укреплял свое влияние другой клан – Тайра. Вследствие династического кризиса между экс- императором Сутоку и интронизированным императором Го-Сиракава и его братьями началась острая борьба за власть («Смута говод Хогэн», 1156 год), на стороне двух лагерей выступили выходцы семейств Тайра и Минамото. Победившая партия Тайра Киёмори и Минамото Ёситомо поддерживала Го-Сиракава, впоследствии произошел раскол в их лагере, что привело к узурпации власти в середине XII столетия главой дома – Тайра Киёмори (1118–1181). Война между потомками Ёситомо и Киёмори привела к падению дома Тайра и возникновению новой системы власти – «бакуфу» (сёгунат). Главными лицами борьбы кланов Тайра и Минамото со стороны последнего стали сводные братья, сыновья Ёси-томо – Ёритомо и Ёсицунэ.
Тайра Киёмори в литературных памятниках и национальной памяти представлен в образе хитрого авторитарного правителя, деятельность которого оценивается в Японии преимущественно негативно, поскольку она отмечена жаждой власти, нарушением буддийской морали, что резко порицалось обществом. Ёритомо оценен в качестве прагматичного политика, в литературном памятнике «Сказании о Ёсицунэ» он назван «камакурским правителем» по месту расположения ставки военачальника. Личность его брата Ёсицунэ связана с позитивным восприятием харизматика-героя , обладающего многими дарованиями и притягательной для окружающих индивидуальностью. Борьба Тайра и Минамото описана в нескольких литературных памятниках гунки (военные эпосы), в частности в «Повести о доме Тайра» и «Сказании о Ёсицунэ». В «Повести о доме Тайра» подчеркивается жесткость и властность Киёмори3. Объем власти Киё-мори над поддаными, вассалами и государственными чиновниками, его личное влияние на вкусы и политические интриги, высокомерное отношение к другим кланам сочетались с раболепным к нему отношением и стремлением многих домов породниться с кланом Тайра4. В сказании порицается свирепость Киёмори, его «самоуправство» и игнорирование власти императора, что в глазах японских буддистов свидетельствовало о конце света5. Важный параметр японской ТПК, отмеченный в повести, – принадлежность к элитному родовитому клану и почитание генеалогии. Род Тайра имел кровнородственные связи с монаршей фамилией, что давало право претендовать на власть по праву рождения, однако завоевал свое могущество политическими маневрами и военной мощью, оттеснив от кормила власти старые влиятельные кланы.
Властному Тайра Киёмори противопоставлен трагический герой Минамото Ёсицунэ, кото- рый был вынужден скрываться от преследований со стороны дома Тайра. В «Сказании о Ёсицунэ» подчеркивается, что японское военное сословие преклонялось перед талантом Ёсицунэ, который «явил миру свое боевое искусство» и не имел себе равных6. Пристальное внимание автор повести уделил становлению героя, раскрывавшего заложенные в нем таланты по ходу повествования. Юного Ёсицунэ отправили в храм Курама, чтобы удалить от столичных дел и дать возможность постичь науки, в которых он значительно преуспел, однако в возрасте шестнадцати лет он покинул священную обитель и отправился на поиски своего брата Ёритомо, ставшего главой клана. В пути он привлекал внимание людей, которые по аристократическим манерам и внешнему виду догадывались о его происхождении. Харизма будущего полководца проявилась во время встречи с будущим верным соратником монахом Бэнкэем, разбойничавшим в Киото. Бэнкэй обладал незаурядным ростом, строптивым характером, умом и талантом воина, однако был поражен видом Ёсицунэ, ходившего по столице в женском одеянии и игравшего на флейте. Ёсицу-нэ заручился верностью Бэнкэя, одержав над ним победу в уличной схватке и в чтении сутр во время молебна в храме Киёмидзу. Толпа молящихся отдавала предпочтение Ёсицунэ, восклицая: «Вот тоже человек необыкновенный!»7 После победы над Тайра между братьями Ёсицунэ и Ёри-томо произошел раскол, поскольку Ёсицунэ стремился получить власть не только над воинами, но и над землями, пользуясь при этом огромным авторитетом среди самураев именно благодаря таланту полководца. Сато Хироаки отметил, что в официальной хронике «Адзума кагами» Ёсицунэ упоминается очень скупо:
«Известно лишь, что за год с небольшим <….> он показал себя одним из самых блестящих полководцев за всю историю Японии, но потом подвергся преследованиям со стороны брата и умер» [15: 136].
Его подвиги сохранились в народной памяти в виде легенд и военного эпоса. За Ёсицунэ следовали не только воины, популярность сделала его завидным женихом и любовником, поэтому влюбленные в него женщины также шли за ним. Ёсицунэ попал в немилость своего брата Ёри-томо и в конечном итоге был вынужден убить свою жену, дочь и совершить самоубийство. Танцовщица Сидзука, возлюбленная Ёсицунэ, также пострадала, попав в руки Ёритомо8. Авторитет Ёсицунэ сохранился и после его гибели: когда его голову везли в ставку, «говорят, все, кто видел это, рыдали и вытирали слезы рукавами» [15: 180]. В конфуцианской этике категория жэнь (гуманность) выступает важной ценностью, наруша- ющие ее исторические лица и литературные герои оцениваются негативно. Буддийская мораль закрепляет эту ценность, поскольку гуманность по отношению ко всем живым существам сохраняет баланс в мире.
Согласно тексту «Сказания о Ёсицунэ», харизма героя в глазах людей, подвергающихся ее воздействию, основана 1) на высоком происхождении Ёсицунэ, которое не обличено статусной одеждой, но его манеры, белое лицо, речь, в ряде случаев властный тон обнаруживают происхождение героя; 2) для обладателя харизмы обязательна даровитость в избранном им деле (талант воина и полководца); 3) наличие конфликта и победа над врагами благодаря таланту. Однако в конце Ёсицунэ постигла трагическая судьба – он совершил ритуальное самоубийство.
Талант и успехи Ёсицунэ позволяют ему легитимизировать власть Ёритомо в глазах вассалов. В рамках японской культуры несгибаемость на избранном пути и успехи представляют значимый параметр харизмы. Данная модель функциональна в длительной исторической перспективе, что подтверждается неизменной популярностью модели Ёсицунэ с XII века до настоящего времени, когда он становится героем произведений исторической и художественной литературы, изобразительного и театрального искусства, кинематографа. В 2004 году вышла манга, посвященная Ёсицунэ; в 2004–2005 годах, в период премьерства Коидзуми Дзюнъитиро, национальный телеканал NHK выпустил на телеэкраны Японии многосерийный исторический сериал «Ёсицунэ», где дается новая трактовка исторического сюжета, известного всем япон-цам9. Интерпретация главного героя смещает акценты в пользу его взглядов об общем благе, распространяемом на всех японцев, хотя в оригинальном тексте подобные идеи отсутствуют, поскольку в средневековом тексте на первое место выходят путь Ёсицунэ и становление его как героя, верного соратника Ёритомо, достойного представителя дома Минамото. Если идеалами средневекового героя являлись преданность дому и борьба с врагом императорского дома, то в фильме 2005 года деятельность Ёсицунэ наделяется современным содержанием – забота о благополучии японского народа, что корреспондировало с лозунгами премьер-министра Коидзуми Дзюнъитиро, нацеленными на преодоление общих проблем всех японцев, а не отдельной социальной группы.
Властитель
Образцом властителя-управленца выступает жестокий харизматик – первый объединитель Японии в эпоху феодальной раздробленности
Ода Нобунага (1534–1582). Окружающие воспринимали его как харизматика, но жестокость, авторитарность и стремление установить свою волю сформировали негативный модус харизмы в японской традиции. Харизматическое лидерство Ода Нобунага находит определенное сходство с положением Тайра Киёмори, поскольку оба лидера путем военного могущества, интриг и кровавых расправ смогли сконцентрировать в своих руках абсолютную государственную власть. В отличие от Тайра Киёмори и представителей клана Минамото, Ода Нобунага происходил не из аристократии, а из местного служилого дворянства при владетельных князьях Сиба в провинции Овари, члены вассального клана Ода занимались административным управлением провинцией [6: 19–20]. В XV столетии в разгар эпохи воюющих княжеств, когда было широко распространено явление гэкокудзё (низы ниспровергают верхи), клан Ода захватил власть в Овари, впоследствии дом раскололся на две ветви. Ода Нобунага был вторым сыном князя Ода Нобухидэ, но стал его наследником. Нобу-нага объединил под своей властью сначала провинцию Овари, вступая в ожесточенную борьбу с противоборствующими кланам соседних княжеств, затем начал борьбу, направленную на укрепление личной власти в столице и постепенное оттеснение сёгуна Асикага от власти. Современники отмечали, что Нобунага отличался себялюбием и часто нарушал принятые этикетные правила во время публичных событий. Первый биограф Нобунага Ота Гюити в начале XVII века писал, что на церемонии похорон своего отца будущий первый объединитель Японии позволил себе неподобающее одеяние и поведение: явился без шаровар-хакама, с несоответствующей случаю прической и с оружием в руках: «Многие порицали господина Нобунага, говоря, что всему виной было его обычное глупое себялюбие» [6: 26–27]. За нарушение бытового поведения и церемониала современники прозвали Нобунага О-уцукэ , то есть «большой дурак» [6: 27] или Овари о-уцукэ , то есть «дурак, пустозвон из Овари».
Другой современник Ода Нобунага иезуит Л. Фройс в 1569 году описал харизматизм японского 37-летнего военачальника: «необычайно звучный голос, словно предназначенный для командования войсками», энергичный, бесцеремонный и честолюбивый, «не обращающий внимание на замечания и советы своих подчиненных», «его все очень боятся и уважают» и «беспрекословно повинуются все как единовластному повелителю», при этом Ода содержал свой дом в порядке и обладал изысканным вкусом [6:
8–9]. Ота Гюити отмечал его талант организатора строительных работ во время возведения замка Торагодзэяма [10: 38–39], что сочеталось с нечеловеческой жестокостью, когда князь беспощадно расправился с врагами из замков Одори и Синохасэ [11: 394]. Нобунага смог завоевать авторитет не только жестокостью, но и талантом военачальника и неутомимой энергией, принуждавшей к подчинению. Как харизматик князь Овари выступает в качестве нарушителя не только бытовых норм, но и социально-иерархических императивов. Он смог сокрушить власть сёгуната Асикага, однако сила его контроля над собственными вассалами не была абсолютной: во время эры Гэнки (1570–1573), положившей конец второму сёгунату Японии, предательства со стороны вассалов Нобунага привели к потере позиций Ода [6: 82].
Гегемония Ода Нобунага укреплялась не только благодаря инновационности лидерского поведения и военным успехам, но и за счет успешных экономических реформ: он проводил патримониальную политику перераспределения земель, отнятых у противников и переданных вассалам, начал систематическую чеканку золотых монет и способствовал развитию торговли. Власть князя распространилась на захваченные им земли и императорский дом. Интересен факт, что, происходя из военной элиты провинциального уровня, он стремился поразить своих гостей-аристократов, союзников и вассалов изысканностью вкуса, отдавая предпочтение статусным антикварным вещам и произведениям мастеров [13: 44]. Могущество Ода потерпело крах, а сам военачальник был вынужден совершить церемониальное самоубийство сэппуку в 1582 году. Непосредственной причиной его падения была измена вассала Акэти Мицухидэ, который испытывал публичные унижения со стороны Нобу-нага, в то время как принадлежал к семье более высокого происхождения [13: 52]. Поведение Ода не вызывало сочувствия у современников, и его фигура долгое время, как и личность авторитарного Тайра Киёмори, оценивалась отрицательно. Однако в ХХ – начале ХХI века успехи и достижения этого правителя были пересмотрены, о чем свидетельствуют кинематографические ленты, манга, компьютерные игры и анимэ, воспевающие Ода Нобунага в качестве национального героя, проявившего управленческий талант.
Новый взгляд на лидерские позиции Ода Нобунага, его талант военачальника и организатора хозяйственно-управленческой деятельности на объединенных территориях представлен в двухсерийном фильме «Ода Нобунага» (1992 год, реж. Садао Накадзима, в роли Ода
Нобунага – Ватанабэ Кэн)10. В конце ХХ столетия Япония как ведущая экономика глобального мира испытала необходимость в неординарных лидерах, обладающих сильными волевыми качествами в отличие от политиков послевоенных десятилетий (1950–1980-е годы), удовлетворявших общественную потребность в поддержании консенсуса и баланса между политическими силами, бизнесом и общественностью. Американский политолог Роберт Энджел в конце 1980-х годов, опираясь на японские работы и изучение политического поведения премьер-министра Накасонэ Ясухиро, обобщил модель японского послевоенного лидерства следующим образом:
«[Японская общественность] ожидала, что высокопоставленные японские политики, включая премьер-министров, станут “выразителями консенсуса”, а не волевыми лидерами, они будут обеспечивать то, что Мисуми Дзюдзи назвал лидерством, “ориентированным на сохранение”, но не “ориентированным на достижение цели”. От лидеров [премьер-министров] ждали, что они будут решительно действовать, игнорируя согласие внутри группы, только в том случае, если их вынудят события, которые они не могут контролировать, или в том случае, если они смогут это сделать так, будто бы их вынудили» [16: 584–585].
По мнению эксперта, яркий и волевой лидер Накасонэ Ясухиро (премьер-министр Японии в 1982–1987 годах) резко отличался от типичного премьер-министра своей авторитарной политической линией. В 1980-е годы Накасонэ действовал в непредсказуемых международно-политических условиях на фоне изменения биполярной системы международных отношений. Япония прочно занимала второе место по уровню экономического развития в капиталистическом мире, а к концу десятилетия стала второй экономикой мира. Этот период оценивается в качестве расцвета и благоденствия послевоенной Японии, Накасонэ стал выразителем мощи страны в экономическом и международном измерениях. Однако уже к концу десятилетия назрели экономические проблемы и после ухода Накасонэ с поста главы правительства наметился политический кризис, связанный с резким падением уровня доверия японских граждан к высокопоставленным политикам из правящей с середины 1950-х годов Либерально-демократической партии (ЛДП). Назрела необходимость реформировать послевоенную модель управления, чтобы преодолеть возникшие трудности «общества среднего класса». Кризисы начала 1990-х годов (крушение экономики мыльного пузыря, демографический кризис, международно-политический кризис, связанный с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, политический кризис из-за ухода доминантной партии ЛДП в оппозицию), на которые не был дан адекватный ответ, привели к феномену «потерянного десятилетия» [19: 267–268], [21: 204], растянувшегося на тридцать лет, когда вплоть до 2020-х годов окончательный выход из экономической рецессии и неактивного состояния общества не найден. В кризисных условиях японские образовательные учреждения, публицисты и политический истеблишмент начали заявлять о необходимости смены лидерской парадигмы. Наметились две тенденции – появление ярких, неординарных лидеров-харизматиков и политика воспитания лидеров.
Кинолента «Ода Нобунага» вышла на фоне охвативших японское общество поисков новой модели лидерства. Князь Овари изображен неординарной личностью: с юных лет его поведение было нетипичным и неэтичным для наследника княжеского дома. Его тренировки и досуг с молодыми самураями и крестьянами вызывали неодобрение со стороны элиты княжества из окружения отца. В фильме Нобунага отвергает принятые этикетные нормы: носит на голове пучок, обнажает грудь, не гнушается общаться с низшими сословиями. Отражен исторический сюжет, отмеченный выше: на похоронах отца он появился в неподобающем виде – с пучком волос, с мечом в ножнах, вызвав общественное порицание. Ода считали недалеким грубияном, однако сватовство к дочери влиятельного князя Мино Сайто Досана – Нохимэ показало, что Ода способен соблюдать этикетные нормы и умеет сохранить лицо в острой словесной перебранке. В кинофильме молодой князь Овари выступает одиозным военачальником, в талант которого не верили некоторые вассалы его отца, однако амбициозность будущего объединителя Японии отметил владетельный князь и успешный полководец Сайто Досан. Тендем Ода – Сайто открыл дорогу к обширным завоеваниям и новым административным решениям. На протяжении всей киноленты демонстрируются волевые качества Ода Нобунага, его способность к неординарным поступкам, великодушие и требование неукоснительной преданности. Поскольку Ода начал объединять Японию на фоне первых контактов с европейцами, отражен и этот аспект его деятельности. Помимо эффективного применения князем огнестрельного оружия, Нобунага получает в подарок глобус и видит сравнительно небольшую территорию Японии и ее удаленное положение от всех важных политических центров, тем не менее он заявляет о намерении расширить пределы своей страны. Зрителю начала 1990-х годов такой подход должен был показать не местечковость японских правителей, а их спо- собность формулировать обширную глобальную программу.
В фильме показаны атрибуты харизматического лидера-воина – его неординарный воинственный внешний вид (прическа и одежда); способность принимать смелые решения на профессиональном поприще; способность вести нетипичную брачную политику; умение быть отважным не только на поле битвы, но и в словесных баталиях; способность к инновационной организаторской и хозяйственной деятельности; принадлежность к правящей элите (княжеская семья); способность оценивать управляемых по заслугам, а не по происхождению. Однако негативными остаются личное стремление обрести власть и жестокость, идущая вразрез с буддийской и конфуцианской моралью. В истории Японии после неординарного Ода Нобунага в борьбу за власть вступили полководцы его лагеря, в том числе военачальники Тоётоми Хидэёси и Токугава Иэясу, их вассалы и влиятельные военные дома. В результате продолжительной борьбы властный, хитрый, но менее яркий Токугава военными успехами и путем политических интриг установил после победы в сражении при Сэкига-хара в 1600 году власть своего дома, правившего до 1867 года.
Поведенческий образ Ода Нобунага в немалой мере будет повторен эксцентричным премьер-министром Коидзуми Дзюнъитиро, который в 1990-е годах стал заметным политическим лидером, а в 2001 году его избрали на пост премьер-министра Японии благодаря смелым популистским лозунгами. Как и Ода Нобунага, Коидзуми считали странной личностью и называли хэндзин (ненормальный, странный). Повторяя модель Нобунага, японский политик носил (и продолжает носить) нестандартную прическу, прозванную «львиной гривой», резко отличаясь от стандартизированных коротко стриженных японских политиков; пиджак, рубашки и галстуки нестандартных цветов визуализировали его лидерский стиль; проводимые реформы и патетика борьбы с политическими конкурентами повторяли модель политической борьбы первого объединителя Японии [7: 367]. На публике Коидзуми «шел в народ», общался с японцами напрямую, обладал ораторским дарованием, вступал в жесткую полемику с оппонентами на парламентских сессиях. Однако в 2006 году Коидзуми подвергся критике как со стороны своих сторонников, так и противников, а затем был предан остракизму. Ода Нобунага в 1582 году был вынужден совершить ритуальное самоубийство, проиграв в политических интригах и борьбе, в 2009 году Коидзуми ушел с политической арены и до ка- тастрофы на АЭС Фукусима в 2011 году оставил публичное пространство. Чистый харизматизм и воля к власти, невзирая на действительные административные заслуги, в обоих случаях признаются в качестве негативной стороны.
Японский коуч для лидеров Накатакэ Рюдзи утверждает, что харизматик деструктивен: навязывая свою волю группе, он ведет ее за собой, но после его ухода необходимо перенестраивать управленческий процесс, в то же время такой лидер обладает инновационным характером, практическим знанием в инновационном решении управленческих задач [20].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотренные модели харизматичного лидерства в Японии выделяют архитипические черты харизматизма в его связи с традиционной властью. Мы выделили два модуса японского харизматизма – позитивный и негативный. К позитивному относится модель Сётоку Тайси – это харизматик-реформатор, образец реформаторской высокоинтеллектуальной и высокоморальной деятельности, положенной на благо государ- ства, в случае Минамото Ёсицунэ – это герой, профессиональный воин из самурайского сословия, заслуживший положение талантом и человеколюбием. Негативный харизматизм выражен в исторической фигуре властителя Ода Нобу-нага; энергетика и властность лидера-воителя, его реформы в области администрирования, налогообложения, финансов, торговли, комплектования армии, деятельность в области строительства отмечены современниками и потомками, но амбициозность и жажда власти в культуре воспринимаются как порочные, поэтому его харизматизм, невзирая на заслуги, видится негативным. В истории Японии наблюдается релевантность моделей реформаторов, героев и властителей, которые, несмотря на меняющиеся условия XIX–XXI веков, оцениваются представителями японской культуры в рамках сложившейся парадигмы благосклонного отношения к харизматикам – реформаторам и героям, отдающим приоритет общим целям, и негативной оценки властителей, испытывающих эгоцентричную жажду личной власти.