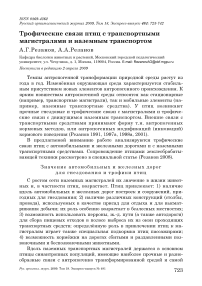Трофические связи птиц с транспортными магистралями и наземным транспортом
Автор: Резанов А.Г., Резанов А.А.
Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis
Статья в выпуске: 481 т.18, 2009 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/140151280
IDR: 140151280
Текст статьи Трофические связи птиц с транспортными магистралями и наземным транспортом
Темпы антропогенной трансформации природной среды растут из года в год. Изменённая окружающая среда характеризуется стабильным присутствием новых элементов антропогенного происхождения. К ярким новшествам антропогенной среды относятся как стационарные (например, транспортные магистрали), так и мобильные элементы (например, наземные транспортные средства). У птиц возникают прочные гнездовые и трофические связи с магистралями и трофические связи с движущимся наземным транспортом. Внешне связи с транспортными средствами принимают форму т.н. антропогенных кормовых методов, или антропогенных модификаций (инноваций) кормового поведения (Резанов 1991, 1997а, 1998а, 2001).
В предлагаемой вниманию работе анализируются трофические связи птиц с автомобильными и железными дорогами и с наземными транспортными средствами. Сопровождение птицами землеобрабатывающей техники рассмотрено в специальной статье (Резанов 2008).
Значение автомобильных и железных дорог для гнездования и трофики птиц
С ростом сети наземных магистралей их значение в жизни животных и, в частности птиц, возрастает. Птиц привлекает: 1) наличие вдоль автомобильных и железных дорог построек и сооружений, пригодных для гнездования; 2) наличие различных конструкций (столбы, провода), используемых в качестве присад для отдыха и для высматривания добычи; их роль особенно возрастает в безлесных местностях; 3) возможность использовать перроны, ж.-д. пути (а также автодороги) для сбора пищевых отходов в полосе выброса их из окон проходящих транспортных средств; определённую роль в привлечении птиц к магистралям играет также специальная подкормка птиц пассажирами; 4) возможность кормёжки на дорогах сбитыми и раздавленными позвоночными и беспозвоночными животными.
Вдоль наземных транспортных магистралей держатся в основном птицы синантропных популяций, имеющие наиболее прочные и разнообразные связи с антропогенно трансформированной средой и самой деятельностью человека. Формирование таких связей, несомненно, стимулировалось созданием условий, благоприятных для гнездования птиц и эффективного добывания ими корма.
Глобальное расширение сети автодорог позволило некоторым зоологам рассматривать их как самостоятельную экологическую систему (Нанкинов, Тодоров 1983), как своеобразный антропогенный ландшафт (Лысенков и др. 2000). Так, Е.В.Лысенков с соавторами (2000) следующим образом характеризует автодороги: своеобразный антропогенный «ландшафт», включающий твёрдое покрытие (асфальт, бетон, щебень), обочины, кюветы, боковые полосы, технические сооружения (мосты, автозаправочные станции и станции технического обслуживания, дорожные знаки, автобусные остановки, линии электро- и радиопередач и др.), защитные придорожные лесополосы, движущийся автотранспорт и т.д. Общая площадь такого ландшафта в Мордовии составляет 3% территории республики.
Точно так же и железные дороги с прилегающими к ним постройками и сооружениями также целесообразно рассматривать в качестве самостоятельных экосистем антропогенного происхождения. 2 августа 2004 мы провели учёт птиц (из окна вагона с восточной стороны) вдоль железнодорожного полотна на отрезке около 200 км от Медвежьей горы до ст. Токари, расположенной к югу от Петрозаводска. Всего на указанном отрезке пути учтено 177 птиц 11 видов. Высока доля участия видов, гнездящихся на постройках и сооружениях человека, а также использующих в пищу корма антропогенного происхождения. В таблице 1 показана связь зарегистрированных нами видов птиц с железной дорогой и окружающими её постройками и сооружениями. На контрольном участке железной дороги были зарегистрированы преимущественно синантропные птицы, имеющих с дорогой как гнездовые, так трофические связи. В частности, на перронах железнодорожных станций кормились не только сизые голуби Columba livia и домовые воробьи Passer domesticus , но и сизые чайки Larus canus и даже клуши Larus fuscus . У станции «493-й км» нами отмечено 2 небольшие колонии городских ласточек Delichon urbica (всего примерно 50 птиц) под карнизом высокой одноэтажной каменной постройки (видимо, склад) и на соседней с ним водонапорной башне.
Визуализация добычи движущимися автомашинами и поездами
Движущаяся техника (автомашины, поезда) используется определёнными видами (популяциями) птиц для визуализации добычи (Формозов 1972, 1981 (1937); Goodwin 1959; Boswall 1970; Голованова 1975; Welham 1987; Резанов 1998). В европейской части России деревенские ласточки Hirundo rustica нередко следуют за автомашиной, схватывая вылетающих из травы насекомых (Формозов 1972). Подобное поведение наблюдали у ласточек в Ливии в апреле-мае 1942 года, когда после песчаных бурь всех насекомых прибило к земле и мигрирующие ласточки лишились привычной пищи. Птицам приходилось вступать в кормовые ассоциации с человеком, коровами и машинами, которые во время движения вспугивали из травы бабочек и других насекомых (Goodwin 1959). Описаны случаи следования нубийских щурок Merops nubicus за автомашинами, идущими через саванну. Насекомых, вспугиваемых транспортом, щурки ловили в воздухе. В Замбии нубийские щурки редко следовали за автомобильным транспортом. Здесь в кормовые ассоциации с машинами обычно вступали зелёные щурки M. superciliosus percicus (Boswall 1970).
Таблица 1. Связь птиц с железной дорогой (Карелия, 2 августа 2004)
|
Виды птиц |
Доля участия в населении, % |
Связи птиц с железной дорогой* |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
Larus canus |
10.2 |
+ |
++ |
++ |
++ |
|
Larus fuscus |
0.6 |
+ |
++ |
++ |
+ |
|
Columba livia f. domestica |
9.0 |
++ |
++ |
++ |
— |
|
Delichon urbica |
31.6 |
++ |
++ |
— |
— |
|
Motacilla alba |
1.1 |
++ |
++ |
++ |
— |
|
Motacilla flava |
1.1 |
— |
++ |
++ |
— |
|
Lanius collurio |
1.1 |
— |
++ |
— |
— |
|
Pica pica |
4.5 |
+ |
++ |
+ |
++ |
|
Corvus cornix |
28.2 |
+ |
++ |
++ |
++ |
|
Corvus corax |
7.3 |
+ |
++ |
+ |
++ |
|
Passer domesticus |
5.1 |
++ |
++ |
++ |
— |
* - Связи птиц с ж.-д.: 1). Гнездование на постройках и сооружениях человека; 2). Использование искусственных присад; 3). Кормёжка на перронах и ж.д. путях; 4). Добывание сбитых животных; ++ - наличие прочных связей (отмечены во время нашего учёта или обычны для данного вида); + - возможность связей (известны для данного вида птиц).
Значительно сложнее регистрировать кормовые ассоциации птиц с движущимся железнодорожным транспортом. А.Н.Формозов (1972) в 1924 году в Дагестане близ Дербента * наблюдал чеглока Falco sub-buteo , который летел за поездом, порой описывая над ним большие круги. Заметив птичку, вспугнутую поездом, чеглок стремительно пикировал и схватывал её. Передав добычу самке, самец возвращался к поезду и продолжал его сопровождать, используя транспорт в качестве загонщика, выгоняющего птиц из кустов. Возможно, это одно из самых ранних свидетельств данной антропогенной модификации.
В последующие годы А.Н.Формозов регистрировал подобные случаи в Казахстане, Западной Сибири и Приуралье. По-видимому, различные географические популяции чеглоков независимо одна от другой освоили способ охоты на мелких птиц из-под поезда-загонщика. Но оказывается, чеглоки к этому уже были готовы, поскольку раньше, с этими же целями, они использовали конные повозки. Как пишет Н.А.Зарудный (1888, с. 199), чеглоки «…часто, особенно в предвечернюю пору, следуют около едущего экипажа и ловят птичек, которых лошади сгоняют с дороги. Молодые экземпляры, которым охота удаётся только после более или менее значительных трудов, преследуют таким образом экипаж иногда на целую версту». Более того, как загонщиков чеглоки используют и других охотящихся хищных птиц, например, луговых луней Circus pygargus (Формозов 1972) и полевых луней Circus cyaneus (Щербаков, Берёзовиков 2005), которые во время низкого поискового полёта вспугивают жаворонков, трясогузок и других мелких птиц.
Описано воздушное сопровождение поездов чайками – сизыми, клушами и серебристыми Larus argentatus на карельском участке Октябрьской железной дороги между станциями Сегежа и Кондопога (Корякин 2001). Автор сообщает, что обычно за поездом следовала группа из 5-10 чаек. Некоторые из них непрерывно сопровождали поезд на протяжении 10-20 км. Иногда к чайкам присоединялись вóроны Corvus corax , но через 1-2 км преследование прекращали. А.С.Корякин считает, что основной причиной сопровождения птицами поезда было использование ими аэродинамического эффекта. В то же время он отмечает, что чайки иногда схватывали какие-то объекты, оказавшиеся в воздухе после прохождения поезда.
Есть основания считать, что чайки могли добывать насекомых, увлечённым искусственным ветровым потоком. Сопровождение чайками поезда и кормёжка насекомыми, увлекаемыми воздушным потоком, напоминает кормёжку насекомыми, увлекаемых восходящими термальными потоками воздуха в естественных условиях. Таким образом, можно предположить, что сопровождение чайками поездов и добывание насекомых в воздушном потоке могло сформироваться на основе природного кормового поведения и проявиться в новой ситуации.
Информация об кормовых ассоциациях птиц с самолётами во время взлёта и посадки, к сожалению, крайне скудна. На аэродромах, по сведениям В.Э.Якоби (1977), ласточки (вид не указан) схватывают насекомых, которых выпугивает идущий по рулёжной дорожке реактивный самолёт. По данным Е.В.Лысенкова (1988), при взлёте и посадке самолётов в аэропорту города Саранска из травы, окружающей взлётно-посадочные полосы, воздушная струя увлекает различных насекомых, что привлекает сюда врановых птиц.
Движущийся автотранспорт как отвлекающий фактор
В 1977 году в Минусинской котловине (Хакассия) Ю.И.Кустов (1979) описал оригинальное охотничье поведение чёрного коршуна Milvus migrans , использующего движущийся автотранспорт в качестве отвлекающего фактора во время охоты на длиннохвостых сусликов Spermophilus undulatus . Сущность такого поведения заключается в следующем. Рокот мотора движущегося автотранспорта настораживает сусликов, они поднимаются «столбиком», внимательно следя за движением, и лишь затем убегают и прячутся в нору. Момент, когда внимание суслика приковано к автотранспорту, как более сильному раздражителю, и использовали коршуны при охоте на этих зверьков. Заметив движущийся транспорт, хищник летел к дороге, и сопровождал автомашину на протяжении 200 м и более (особенно, если она ехала медленно), выжидая момент для броска на «зазевавшегося» грызуна.
В 1911-1917 годах в этих местах была построена дорога, использовавшаяся сначала как гужевой тракт (Шейнис 1970), а с 1932 года Усинский тракт (Абакан–Кизил) функционирует как автомобильная дорога (Усинский тракт 1977). Сибирский чёрный коршун зимует в Индии, Бирме, Южном Китае, где вряд ли дорожная сеть была развита лучше или возникла раньше. Можно предположить, что становление этой необычной кормовой модификации произошло именно на Усинском тракте сначала как сопровождение гужевого, а затем уже и автомобильного транспорта.
Патрулирование дорог птицами с целью поиска сбитых животных и пищевых отходов
Несмотря на высокую гибель птиц на железных дорогах (Bere-szynski 1980; Lorek, Stankowski 1991) и автомагистралях (Bergman 1974; Даниленко, Даниленко 1981; Нанкинов, Тодоров 1983; Телегин, Ивлева 1983; Клауснитцер 1990; Рахилин 1996; Лысенков и др. 2000), их привлекательность для птиц очевидна (Даниленко, Даниленко 1981; Baldauf 1988; Lorek, Stankowski 1991; Миронов 1992; Шукуров 1992; и др.). В то же время считается, что выработка у птиц достаточно эффективного инстинкта избегания быстро движущегося автотранспорта маловероятна (Bereszynski 1980). Очевидно, что на дорожном полотне оживленных магистралей птицам кормиться невозможно, и по этой причине они предпочитают разыскивать корм (сбитых животных, включая насекомых, пищевые отбросы) на обочине.
Факт патрулирования железных и автомобильных дорог хищными птицами, врановыми, чайками с целью добывания сбитых животных и пищевых отходов широко освещён в орнитологической литературе (Hawkins 1946; Bruce 1968; Kinnear 1978; Vernon 1978; Cramp, Sim- mons 1983; Митропольский и др. 1987; Hastädt, Sömmer 1987; Косоуров, Кареев 1989; Галушин, 1991; Lorеk, 1992; Cramp et al. 1994; Резанов 1998а; Берёзовиков и др. 1999; Фетисов 1999; Лысенков и др., 2000; Васильченко 2004; Фадеева 2007; и др.). В естественной обстановке все эти птицы нередко кормятся на падали (Дементьев 1951; Cramp, Simmons 1982; Зубакин 1988; Галушин 1991; Cramp et al. 1994; и др.). Поедают сбитых животных и некоторые другие птицы, для которых подобное поведение не является обычным (табл. 2).
Таблица 2. Добывание некоторыми птицами животных, сбитых наземным автотранспортом
|
Виды птиц |
Место наблюдения |
Дата |
Конкретные сведения |
Источник информации |
|
Hydroprogne |
США |
1960-е |
Ела сбитого щитомордника |
Cunningham |
|
caspia |
Agkistron piscivorus |
1966* |
||
|
Gallinula |
Луизиана |
1970-е |
Поедание сбитых |
Guillory, |
|
chloropus |
(США) |
рептилий, птиц, млекопитающих |
Le Blanc 1975 |
|
|
Lanius |
Польша |
1984-1990, |
Поедание сбитых |
Lorek 1992 |
|
excubitor |
в осн. зима |
животных |
||
|
Cassidix |
Луизиана |
1970-е |
Поедание сбитых |
Guillory, |
|
major, |
(США) |
насекомых, рептилий, |
Le Blanc 1975 |
|
|
Agelaius phoeniceus |
птиц, млекопитающих |
|||
|
Turdus |
Норфолк |
8.11.1976 |
Поедание сбитого |
Bruce 1968 |
|
merula |
(Англия) |
животного |
||
|
Passer |
Англия |
19.07.1965 |
Самка расклёвывала |
Hodson 1966 |
|
domesticus |
сбитого на дороге самца |
|||
|
* – по: Ferguson-Lees 1971. |
||||
Добывание на дорогах сбитых животных для серой вороны Corvus cornix очень характерно. Даже в Москве на магистралях с интенсивным движением эти птицы умудряются расклёвывать сбитых голубей, успевая при этом отскакивать при приближении машин. Специально проведённые нами исследования показали, что из всех наших городских птиц, нередко разыскивающих корм на дорогах, серые вороны наиболее адекватно реагируют на автотранспорт – как наибольшую и реальную опасность они воспринимают не величину, не шум, а скорость приближающейся машины ( r = 0.504; n = 113; P < 0.001). В то же время сизые голуби чётко реагировали увеличением дистанции вспугивания на размеры транспортных средств, особенно сильно реагируя на автобусы ( r = 0.329; n = 129; P < 0.001). У домового воробья отмечена незначительная и статистически незначимая тенденция к увеличению дистанции вспугивания при увеличении размеров приближающегося автотранспорта.
Важность транспортных магистралей (и их пропускной способности) для птиц очевидна. Например, уменьшение потока поездов (а, следовательно, и выброса пищевых отходов) в начале 1990-х годов привело к сокращению численности сорок Pica pica , гнездящихся вдоль железных и автомобильных дорог на юге Украины. Численность этих птиц служит своеобразным индикатором интенсивность пассажирского потока вдоль побережий Азовского и Чёрного морей (Гавриленко 2001). В Кемеровской области для врановых ( Corvus frugilegus , C. monedula , C. corone ), особенно в послегнездовой период, характерны концентрации вдоль автотрасс и железных дорог, где птицы разыскивают пищевые отбросы (Васильченко 2004).
На Кольском полуострове в 1984-1986 годах один из авторов неоднократно наблюдал воздушное патрулирование железной дороги сизыми чайками и вóронами. Нередко птицы высматривали добычу, находясь на какой-нибудь присаде. В Средней России железные дороги в основном патрулируются серыми воронами, а около станций – также галками, сизыми голубями и домовыми воробьями (Резанов 1998).
По-видимому, в основе отмеченных антропогенных модификаций лежит естественная повадка врановых и хищных птиц сопровождать стада мигрирующих копытных животных в ожидании отхода молодняка, гибели при переправах, от хищников и пр. В средние века вра-новые сопровождали войска, идущие на битву, о чём наглядно свидетельствует «Слово о полку Игореве» (1986), возвращая нас к событиям XII века. В тексте прямо сообщается, что когда Игорь ведёт рать на Дон, её сопровождают птицы: «Уже бо беды его пасетъ птиц по ду-бию…», (с. 17). А после битвы: «…врани (видимо C. corax – A.P .) грая-хуть, трупиа себе деляче, а галици (видимо C. monedula – A.P .) свою речь говоряхуть: хотять полетети на уедие» (с. 18).
В средние века вóроны сопровождали викингов, так же как они сопровождают волков, следующих за мигрирующими оленями. По свидетельству Гальдера, немецкую армию, разбитую под Сталинградом (1943 г.), сопровождали большие стаи серых ворóн и вóронов. В Лондоне после великого пожара 1666 года вóроны питались трупами, которые не успевали хоронить (Константинов 1993). В Средней Азии за войсками раньше следовали также чёрные коршуны (Корелов 1962).
Реже рассматривается вопрос питания птиц сбитыми на дорогах беспозвоночными животными, в частности, насекомыми (Климов, Са-зонтов 1989; Клауснитцер 1990; Бельский 1998). Так, например, для белой трясогузки Motacilla alba дороги создают обширные площади с предсказуемым пищевым ресурсом, где они собирают сбитых и раздавленных автомобилями насекомых (Резанов 1981, 2003). По данным В.A.Блинникова, в Орловской области на 1 км маршрута дороги Мо-сква–Орёл 14 июня 1999 собрано 27 экз. только крупных насекомых:
Lepidoptera – 7 экз., Odonata – 4, Coleoptera – 4, Orthoptera – 4, He-miptera – 3, Hymenoptera – 3, Diptera – 2. На дорогах районного значения собирали по 12-15 экз. крупных насекомых. Общее число сбитых (раздавленных) насекомых, используемых кормящимися на земле птицами-энтомофагами, несравненно выше – по Липецкой области до 860 бабочек на 1 км с одной стороны шоссе (Климов, Сазонтов 1989). В аэропорту Саранска (Мордовия) врановые птицы кормились на бетонном покрытии взлётно-посадочных полос насекомыми, сбитыми самолётами (Лысенков 1988).
Много насекомых гибнет во время дождя. После высыхания луж погибших и обездвиженных насекомых собирают на обочине дорог различные птицы: грачи, белые трясогузки, зяблики Fringilla coelebs , воробьи ( Passer montanus , P. domesticus ), обыкновенные овсянки Em-beriza citrinella , большие синицы Parus major и др. Известно, что, например, грачи собирают беспозвоночных на выбитых скотом пастбищах (Федосов 2007). Можно предположить, что эта естественная кормовая повадка послужила основой для использования автодорог с аналогичными целями.
В европейской части России грачи в большом количестве кормятся около автодорог и железнодорожных магистралей. Ниже приведены некоторые конкретные наблюдения авторов, позволяющие хотя бы приблизительно оценить картину и географию этого распространённого явления.
В конце марта 1996 г. на протаявших местах у шоссе и на самом дорожном полотне в 40 км от Белгорода на ограниченном участке в поле видимости кормилось до 100-150 грачей. В сентябре 2007 г. из окон поезда «Москва–Сочи», начиная с Воронежской области и ближе к Ростову-на-Дону мы постоянно наблюдали небольшие группы грачей, разыскивающих корм вдоль железной дороги. В октябре 2007 г. в Молдове на автомобильных маршрутах «Кишинев–Старый Орхей» и «Кишинёв–Сорока», когда дорога шла через поля, по обочине шоссе можно было постоянно видеть кормящихся грачей. Птицы держались небольшими группами. Вероятно, грачи здесь кормятся не только пищевыми отходами, выбрасываемыми из окон пассажирами, но и сбитыми машинами животными, включая насекомых.
В Тульской области на автомагистралях с интенсивным движением грачи, серые вороны, сороки и галки расклёвывают сбитых автотранспортом животных, а также собирают выбрасываемые человеком из машин пищевые отходы. Аналогичная картина наблюдается и на железной дороге. Пищевые отходы выбрасываются на всём протяжении пути, но чаще всего около пригородных станций. При транспортировке урожая часть зерна теряется, что привлекает на дороги тысячные стаи грачей в любое время года (Фадеева 2007).
Зимой в Гиссарской долине (Таджикистан) грачи бродили по проезжей дороге, пытаясь выклевать между булыжниками мёрзлые остатки навоза (Иванов 1969).
Использование искусственных присад
Вдоль дорог на проводах и столбах телеграфных линий и линий электропередач постоянно сидят птицы, для которых эти сооружения служат не только для отдыха, но и для высматривания добычи, т.е. охотничьими присадами. Использование хищными птицами и совами при высматривании добычи телеграфных столбов, проводов и аналогичных сооружений общеизвестно (Формозов 1981; Дементьев 1951; Гибет 1959; Rateliffe 1977; Галушин 1980, 1991; Cramp, Simmons 1982; Lebrun 1991; и др.) и полностью соответствует стереотипам их природных кормовых методов. Не менее обычно использование искусственных присад (проводов) ракшеобразными: золотистыми щурками Merops apiaster (Шнитников 1957; Мередов 1986; Горай и др. 1994; Малович-ко, Константинов 2000), сизоворонками Coracias garrulus (Шнитников 1957; Маловичко 1999; Маловичко, Константинов 2000), C. benghalen-sis и тропическими зимородками Alcedo meninting (Резанов, Резанов 2006), Halcyon smyrnensis (Тильба 1998; Резанов, Резанов 2006), а также шпорцевыми кукушками Centropus sinensis (Резанов, Резанов 2006), некоторыми воробьиными: сорокопутами Lanius spp., скворцами Sturnus spp., майнами Acridotheres tristis , мухоловками (Muscicapidae: Muscicapinae, Monarchinae), бюльбюлями Pycnonotidae, личинкоедами Campephagidae и др. Так, на юге Шри-Ланки на 8-10 км пути на телеграфных проводах вдоль автодороги мы отметили 7 одиночных синеухих зимородков (Резанов, Резанов 2006).
В Великобритании сипухи Tyto alba стали охотиться, используя в качестве присад столбики разделительной линии и шоссейного ограждения (Rateliffe 1977).
Телеграфная связь появилась в 1830-х, развитие получила с 1850-х годов. Например, в России в 1860 году уже эксплуатировалось около 27000 км телеграфных линий связи (Копничев 1976). Создание телеграфной связи ликвидировало дефицит присад в степных и полупустынных районах, предоставив тем самым птицам (щуркам и др.) прекрасную возможность использовать их для выслеживания насекомых с присады, что менее энергозатратно по сравнению с поисковым полётом. Таким образом, в течение нескольких десятилетий у птиц сформировалась прочная связь с присадами антропогенного происхождения. По-видимому, охота с присады в большей степени была распространена в лесостепной зоне, где чередуются лес и открытые пространства. В открытой степи охота птиц с присады стала возможной только с появлением здесь телеграфных линий и других сооружений.
Выкладывание птицами твёрдых плодов на дорожное полотно
Выкладывание на проезжую часть дорог плодов с прочной оболочкой описано для американских воронов Corvus brachyrhynchos . Повадка этих птиц выкладывать твёрдые орехи Junglus spp. и плоды пальм-вашингтоний Washingtonia sp. на автострады впервые описана в 1970-х годах в Калифорнии (Maple 1974; Grobecker, Pietsch 1978) и, по-видимому, достаточно молода, учитывая сравнительно недавнее появление первых серийных автомобилей (1903 г.).
Cristol et al . (1997), проведя соответствующие наблюдения в тех же местах, где проводил их T.Maple (1974), пришли к заключению, что американские вóроны бросают на дорогу орехи как в присутствии, так и при отсутствии автомобилей. Действия птиц расцениваются как эпизодические, ненаправленные. Однако такому представлению противоречат наблюдения, проведённые в Японии. Здесь в пригороде Сендая чёрные ворóны стали бросать манчжурские орехи Juglans mandshurica с высоты 6-8 м на проезжую часть дороги. Особенно активно ворóны использовали перекрёсток около автошколы. Птицы старались бросить орех так, чтобы он попал под колёса автомобиля, а затем при красном свете светофора садились на дорогу и подбирали содержимое плода. Просто при падении с высоты орех не разбивался. (Nihei, Higuchi 2001; фильм «Большая охота», ВВС 2005).
По-видимому, рассматриваемая антропогенная модификация кормового поведения ворон в своей эволюции прошла следующий путь. Первоначально птицы применяли бросание орехов с высоты на твёрдый грунт. Подобный кормовой метод используется серыми воронами при разбивании грецких орехов. Например, по наблюдениям одного из авторов в ноябре 1978 г. в окрестностях села Касумкент (Дагестан) серые вороны, добыв орех в роще, летели к горной речке Цмур. Орехи (по одному) птицы переносили в клюве и, вероятно, с высоты бросали на камни. Здесь на галечниковом берегу валялось множество обломков скорлупы грецких орехов. По данным А.С.Мальчевского и Ю.Б. Пу-кинского (1983), в Ленинградской области серые вороны бросают раковины двустворчатых моллюсков на каменистый грунт, причём такое поведение характерно только для популяции ворон северного побережья Финского залива. Европейские чёрные вороны также бросают с высоты на твёрдый грунт раковины моллюсков (Terne 1978; Whiteley et al . 1990; Berrow et al . 1991 –цит. по: Cramp et al . 1994) и орехи Juglans spp. (Creutz 1953). Для серебристых чаек, кормящихся на галечниковых пляжах, такое поведение довольно обычно (Bent 1921; Oldham 1930; Goethe 1958 – цит. по: Cramp, Simmons 1983; Tinbergen 1953; Ingolfsson, Estrella 1978; Kent 1981).
Затем птицы стали бросать орехи и раковины на искусственные покрытия автомобильных дорог. Выгода от такого перехода очевидна – такие покрытия занимают ныне огромную площадь и имеют широкое географическое распространение. Например, в Молдавии грачи бросают грецкие орехи с высоты на асфальтовые покрытия (О.Г.Ман-торов, устн. сообщ.). Самостоятельно разбить клювом грецкий орех грачам не удаётся. Так, в октябре 2007 г. в Кишинёве в парке Института зоологии мы наблюдали неудачные попытки молодого грача разбить клювом грецкий орех; после неудачных попыток птица улетела, оставив орех на дорожке. В Эстонии наблюдали, как серые вороны бросают беззубок с высоты 10-15 м на бетонные покрытия аэродромов (Шергалин 1989).
Следующий этап – наблюдение птицами случаев раскалывания колёсами автомашин орехов и других плодов, не разбившихся при бросании на асфальт с высоты и последующее расклёвывание мякоти раздавленных орехов. Наконец – возникновение повадки целенаправленно выкладывать твёрдых орехи на проезжую часть и затем ждать результатов.
Поэтапность развития столь сложного поведения не отрицает параллельного существования каждого из этих этапов в отдельности. В этом определённо есть большой биологический смысл – формируется новая, высоко адаптивная антропогенная модификация кормового поведения и одновременно сохраняется и активно используется весь фонд «промежуточных» кормовых методов. Таким образом в популяции повышается разнообразие используемых кормовых методов.
В августе 1990 года в Южной Виктории (Австралия) розеллы Platycercus eximius совместно с китайскими горлицами Streptopelia chinensis и скворцами Sturnus vulgaris кормились желудями. Горлицы также расклёвывали жёлуди, упавшие с деревьев на проезжую часть и раздавленные автомашинами (Kloot, McCulloch 1993); но здесь, конечно, нет направленного бросания плодов на проезжую часть.
Осматривание птицами транспортных средств
В 1940-х годах в Лондоне зарегистрирована антропогенная инновация кормового поведения – обследование городскими воробьями радиаторов автомобилей в поисках застрявших там насекомых (Fitter 1949 цит. по: Cramp et al. 1994). В Москве подобное поведение наблюдали в середине 1970-х (Резанов 1986). Есть и современные наблюдения такого поведения. 13 января 2003 в Порт-Фэри (Австралия) домовый воробей, из группы птиц, кормящихся пищевыми отбросами у ресторана, влетел в переднюю моторную часть припаркованного автомобиля, а затем вылетел оттуда с пойманным насекомым. В течение 15-20 мин подобное поведение несколько раз демонстрировали как эта особь, так и другие воробьи (Shelley 2005). 5 февраля 2008 в Москве, при температуре воздуха 0-1°С, домовые воробьи, кормящиеся под припаркованными машинами, подлетали к только что подъехавшему автомобилю, цеплялись за решётку нагретого радиатора и что-то там склёвывали. При осмотре на решётке обнаружены остатки мух (сообщение студента МГПУ Д.Лисева).
Экспонирование добычи строительной, снегоуборочной и другой специальной техникой
Зимой на аэродроме города Саранска (Мордовия) стаи по 20-40 серых ворон короткими перелётами сопровождали снегоуборочные машины и ловили выпугнутых или подбирали обездвиженных техникой мышевидных грызунов (Лысенков 1992). Судя по всему, подобная повадка ворон возникла сравнительно недавно, поскольку снегоуборочная техника, по сообщению Е.В.Лысенкова, используется на аэродроме Саранска только с 1983 года. Чайки и врановые птицы, обычные на европейских свалках, проявляют повышенную кормовую активность при разгребании бульдозерами мусора, содержащего пищевые отходы (Исаева 2001; Bellebaum 2005). Очевидно, что действия специальной техники экспонируют скрытые пищевые объекты.
В Саранске галки и грачи сопровождают мусоровозы до свалки на протяжении 20 км и на остановках присаживаются на машину. Часть птиц просто прилетают на свалку ко времени прибытия мусоровозов и кормятся на свежесваленных кучах мусора. За бульдозерами, разгребающими мусор, обычно следует по 10-15 птиц. Врановые также следуют за бомжами (по 3-4 птицы), раскапывающими крюками мусор (Исаева 2001). В марте-июле 1979 г. в Австралии (Квинсленд) за Бульдозерами и грейдерами, разгребающими и разравнивающими мусор, на расстоянии нескольких метров следовали до 40 египетских цапель Bubulcus ibis (Cooper 1979).
Особый интерес представляют собой ассоциации птиц с сельскохозяйственной техникой, используемой для орошения полей. Э.Н.Голо-ванова (1975) отмечала, что грачи, галки, белохвостые пигалицы Vanellochettusia leucura (в Каракалпакии), майны, сороки, сизоворонки, удоды Upupa epops (в Туркмении) следуют вдоль края наступающей воды и ловят насекомых, выползающих на поверхность.
В Москве нередко наблюдаются случаи, когда белые трясогузки кормятся во время полива улиц, двигаясь по краю образовавшегося водного потока, схватывая выпугиваемых и обездвиженных насекомых (Резанов 1981а). Скворцы и зяблики также собирают с поверхности мокрого асфальта насекомых, обездвиженных или погибших во время полива улиц.
Птицы и машинное кошение трав
Сопровождение различными видами птиц уборочной техники достаточно полно освещено в литературе (Лавров 1963; Полозов 1984; Резанов 1997б, 1998а; Маловичко, Константинов 2000; Резанов, Резанов 2007; и др.). В Коломенском на берегу реки Москвы во время кошения травы движущуюся технику иногда сопровождают ласточки ( Riparia riparia , Hirundo rustica ), схватывая в воздухе взлетающих насекомых (Резанов 1998а). В Белоруссии в августе 1996 г. отмечена кормовая ассоциация белых аистов Сiconia ciconia с работающими косилками (Резанов 1997б). Домовые воробьи иногда следуют за газонокосилками (Москва), а также могут сопровождать человека при кошении травы вручную (июнь 1996 г., Стамбул).
Над работающим трактором с прицепленной к нему косилкой, как сообщает Н.П.Лавров (1963), кормятся не только ласточки, но и стрижи, добывая в воздухе насекомых, вспугиваемых машиной. По наблюдениям С.А.Полозова (1984), полевые луни иногда охотятся, следуя в 5-10 м за комбайном, а врановые подбирают раздавленных и раненых животных в нескольких десятках метров от работающей техники.
В основе подавляющего большинства (если не всех) антропогенных модификаций кормового поведения, смысл которых состоит в использовании птицами движущейся техники для облегчения обнаружения и добывания корма, лежат нативные кормовые ассоциации птиц с пасущимися травоядными млекопитающими (Резанов 1998б). В частности, кормовые ассоциации ласточек с пасущимися копытными хорошо известны. Чаще всего они отмечаются у деревенской ласточки на пространстве гнездовой части ареала, а также на зимовках в Южной Африке (Зарудный 1888; Формозов 1981; Кокшайский, Мустафаев 1963; Колоярцев 1989; Резанов 1986а, 1998в; Cramp 1988; и др.). В меньшей степени это характерно для береговых ласточек (Кокшайский, Мустафаев 1963; Резанов 1998б). На Украине в июне 1989 г. одни из авторов отметил ассоциацию городских ласточек с пасущимся скотом, а в Армении в сентябре 1981 – скалистых ласточек Ptyonoprogne rupestris с коровами на убранном кукурузном поле (Резанов 1998в). А.Н.Фор-мозов (1981) наблюдал кормовую ассоциацию чёрных стрижей Apus apus с пасущимися коровами и лошадьми. Обычны кормовые ассоциации скворцов с пасущимися домашними животными (Кокшай-ский, Мустафаев 1963; Плешак 1999; Резанов 2009).
Об антропогенных модификациях кормового поведения птиц
Антропогенные инновации кормового поведения птиц, в частности ассоциации птиц с движущимся наземным транспортом, определённо являются модифицированным стереотипным (видоспецифическим)
поведением. Суть модификации состоит в том, что птица не изменяет кормовой манёвр (рисунок поведения), а лишь «переключается» на новый объект сопровождения.
Очевидно, что многие из рассмотренных антропогенных модификаций кормового поведения стали характерными для целого ряда видов на всём пространстве их ареалов. В то же время некоторые модификации кормового поведения отличаются определённой географической локализацией (Maple 1974; Кустов 1979; Grobecker, Pietsh 1978; Nihei, Higuchi 2001; и др.) и, возможно, некоторые из них даже являются индивидуальными кормовыми методами.
Антропогенная эволюция окружающей среды вызывает некоторые изменения в кормовом поведении птиц, происходящие в формате их стереотипного поведения. Причём эти изменения совершаются в исторически короткие сроки. Если для рептилий (Arnold 1981) временнáя шкала возникновения географических дифференциаций (на уровне тенденций) в кормовом поведении оценивается в сотни и десятки тысяч лет, то для птиц, вероятно, на один-два порядка меньше. Как показал И.И.Шмальгаузен (1968), темп адаптации может быть велик, и если изменения не выходят за пределы нормы реакции особей данной популяции, то приспособление к новым условиям происходит даже за одно поколение. По-видимому, хорошей иллюстрацией этому могут служить примеры быстрого перехода птиц на некоторые антропогенные модификации кормового поведения. Возможность идентифицировать конкретные антропогенные факторы как селективные прессы, отвечающие за поведенческую микроэволюцию, представляет особый интерес для исследований эволюционной направленности. Изменения кормовых методов происходят на уровне модификаций, не выходя за рамки видоспецифического поведения.
Современные трансформации окружающей среды повышают её разнообразие, делают её более гетерогенной. В таких условиях антропогенные модификации кормового поведения получают всё большее распространение. Если исходить из положения, согласно которому при постоянных флуктуациях среды не формируются специализации (May, MacArthur 1972), трудно ожидать возникновения массовых специализированных антропогенных модификаций. В то же время нельзя не признать что многие мобильные элементы среды антропогенного происхождения (такие как автомобильный, железнодорожный и водный транспорт, уборочная техника и пр.), практически не изменяясь в своей основе, существуют уже более сотни лет.
Антропогенные модификации, по-видимому, можно рассматривать как свидетельства прогресса на микроэволюционном уровне. Предположительно, этот процесс будет происходить и в дальнейшем и, возможно, усиливаться. В перспективе, некоторые антропогенные моди- фикации при определённых изменениях антропогенной обстановки будут «угасать» (для природных кормовых методов такие процессы известны – см.: Meier 1993; Thompson et al. 1996) или трансформироваться в более адекватные. Вероятно, популяции характеризуются не только перманентными (стабильными) кормовыми методами, существующими неограниченно долго в пределах пространственно-временного континуума, но и «нестабильными» методами, периодически появляющимися и исчезающими.
Обычно складываются ситуации, когда наряду с антропогенными инновациями продолжают сохраняться и активно функционировать «старые» нативные кормовые методы. Можно говорить не просто о расширении и сохранении фонда кормовых методов, но и о возможности их активного использования видами (популяциями) птиц на конкретных исторических отрезках времени. В ответ на повышение разнообразия среды птицы отвечают увеличением разнообразия поведения. Антропогенные факторы выступают в качестве своеобразного пускового механизма и акселератора модификаций стереотипов кормового поведения птиц.