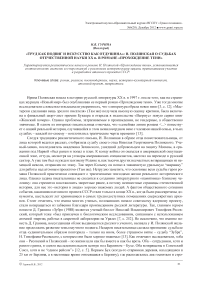«Труд как подвиг и искусство как отдушина»: И. Полянская о судьбах отечественной науки ХХ в. в романе «Прохождение тени»
Автор: Гурина Наталья Евгеньевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 6 (20), 2012 года.
Бесплатный доступ
Характеризуется реалистическое начало в романе И. Полянской «Прохождение тени», устанавливается соотнесенность системы его персонажей с реальными историческими лицами, принимавшими участие в разработке атомного проекта СССР.
Роман, реализм, постмодернизм, наука, историко-культурный контекст, атомный проект, патриотизм
Короткий адрес: https://sciup.org/14821846
IDR: 14821846
Текст научной статьи «Труд как подвиг и искусство как отдушина»: И. Полянская о судьбах отечественной науки ХХ в. в романе «Прохождение тени»
Ирина Полянская вошла в историю русской литературы ХХ в. в 1997 г. после того, как на страницах журнала «Новый мир» был опубликован ее первый роман «Прохождение тени». Уже тогда многие исследователи словесности высказали уверенность, что «литература обрела новое имя» [3, с. 12]. «Мастерски сделанная вещь зрелого писателя» (Там же) получила высокую оценку критики, была включена в финальный шорт-лист премии Буккера и открыла в издательстве «Вагриус» новую серию книг «Женский почерк». Однако проблемы, затрагиваемые в произведении, не гендерные, а общественно значимые. В одном из интервью пиcательница отмечала, что «семейная линия романа <...> повествует о нашей реальной истории, случившейся в этом немилосердном веке с членами нашей семьи, в чьих судьбах – каждой по-своему – воплотились трагические черты времени» [13].
Следуя традициям реалистического письма, И. Полянская в образе отца повествовательницы, от лица которой ведется рассказ, отобразила судьбу своего отца Николая Георгиевича Полянского. Ученый-химик, последователь академика Зелинского, ушедший добровольцем на защиту Москвы, в сражении под Нарвой «был ранен и попал в плен. К концу войны он оказался в американской оккупационной зоне, оттуда, несмотря на уговоры американских специалистов, настоял на переводе в русский сектор. А уже там был осужден за измену Родине и, как тысячи других несчастных возвращенцев из немецкой неволи, отправлен по этапу. Так через Колыму он попал в знаменитую уральскую “шарашку” для работы над атомным проектом» (Там же). Нетрудно заметить, что основные вехи судьбы героя романа Полянской практически совпадают с трагическими эпизодами жизни реального исторического лица. Однако задача писательницы не сводится к созданию литературного «памятника» близкому человеку: она стремится восстановить запретные ранее, а потому неизвестные страницы отечественной истории, для нее это «история в лицах» хорошо знакомых людей. А фактом общественного сознания события, касавшиеся атомного проекта СССР стали только в конце XX в., когда были рассекречены документы, шестьдесят лет хранившиеся в самых труднодоступных помещениях сверхсекретных архивов. Стоит отметить, что имена многих ученых, положивших начало советскому ядерному проекту, стали возвращаться из забвения благодаря произведениям русской литературы. Так, главным героем повести Д. Гранина «Зубр» (1988) является ученый-биолог Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский, который тоже «был привлечен к биологическим исследованиям, связанным с использованием атомной энергии, работал в секретной лаборатории на Урале» [7, с. 252]. Не исключено, что именно повесть Д. Гранина, воссоздавшая облик выдающегося русского ученого, вызвала у И. Полянской желание продолжить развитие темы научного подвига. Недаром писательница сделала признание: судьба ее отца «удивительным образом повторила – только на ином, более страшном витке – судьбу “Зубра”, Н. Тимофеева-Ресовского, с которым они были хорошо знакомы» [13]. Как отмечают исследователи, «оба они – Ресовский и Полянский – по жизни шли как бы вместе и как бы врозь. Оба – сотрудники, хотя и разного ранга, в одном исследовательском центре под Берлином – Бухе. Оба возвращены в Советский Союз, хотя и не “одним рейсом”» [12, с. 5]. Первым Бух (когда-то старинная деревня, находящаяся в 25 км от Берлина, а в настоящее время относящаяся к Берлину), где располагались два госпиталя и стро- ился исследовательский институт, принял в 1928 г. Н.В. Тимофеева-Ресовского. Туда он переехал со своей лабораторией из столицы Германии, где работал в Kaiser Wilhelm Institut по направлению нар-комздрава СССР Семашко. «А Николая Георгиевича Полянского доставили в Бух спустя двенадцать лет при совсем других обстоятельствах» [12, c. 5].Какие именно события привели к такому повороту в судьбе отца и героя романа Полянской, помогает понять рассказ повествовательницы. Она поведает о том, как «допрашивающему после плена смершевцу отец рассказал все без утайки: как он при выходе из окружения из Наро-Фоминском раненым попал в плен, отличное знание немецкого языка спасло его от гибели, как некий майор Негель, узнав о том, что он химик, переправил его в Берлин для работы» [6, с. 171]. По-видимому, это и была дорога в Бух, где встретились два русских ученых. Правда, после падения Берлина их дороги разминулись: Ресовский передал свою лабораторию нашим войскам и поначалу как-то затерялся в суете последних дней войны. А Полянский оказался в западной зоне. «Американцы предлагали ему работу, но он заявил, что без Родины не мыслит своего существования» [7, с. 171]. Напомним: без Родины не мыслит своего существования и герой «Зубра»: в 1944 г «через тайные связи к Зубру поступило сообщение о том, что его ждут в Штатах <…> Он никак не отозвался на это предложение» [2, с. 128]. Г. Попов в своих воспоминаниях отмечает неподдельный патриотизм Тимофеева-Ресовского: «И еще одна сила двигала Зубром – любовь к Родине. Предки, Россия, долг перед ними были составной частью личности Тимофеева» [7, с. 253]. Этот непростой период в судьбах Зубра и героя романа И. Полянской был близок и понятен советским гражданам, оказавшимся в годы войны на немецкой территории, западные части которой весной 1945 г. попали под власть Англии и США. Вопрос о возвращении в СССР был тяжелым и мучительным: 4 октября 1944 г. Совнарком СССР принял решение о возвращении на Родину советских граждан, но жесткая проверка ожидала узников концентрационных лагерей [5, с. 56]. Такая «жесткость» постигла и отца героини романа «Прохождение тени»: «Он был жертвой <…> гложущей мороженную конину в немецком концлагере, едущей по этапу в тесном соседстве с мертвецами в раскаленном от солнца Столыпине, валившей лес и толкающей тачку в колымском забое» [6, с. 69]. На Родине лагерь ждал и героя Гранина: «Сослали его в лагерь <…> лишь в начале 1947 года доставили в Москву, а оттуда направили на Урал» [2, с. 139]. Новая встреча двух ученых, переживших ужас лагерной жизни, и произошла там, на Урале. Примечательно, что и в романе И. Полянской, и в повести Д. Гранина показано, как зоны за колючей проволокой превращались в подлинные островки свободы. В таких «шарашках» собиралась вся большая наука: физики, генетики, биологи, медики, словом, люди, чьи научные цели так удачно совпали с целями государства» [13], которому в этот период «атомная бомба была нужна позарез» (А.И. Солженицын). Д. Гранин отмечает особый подъем в работе ученых-биологов, обеспечивающих разработку средств защиты от воздействия атома: «Несмотря на трудности нового дела, на оторванность от “большой жизни”, работа шла с подъемом <…> Требовалось исследовать <…> способы защиты живого. Гуманная эта миссия воодушевляла самых разных людей, собранных на объекте» [2, с. 142]. Героиня романа «Прохождение тени» также описывает необычную атмосферу жизни на «объекте»: «Там, за его пределами, царила послевоенная разруха, холод, голод, страх, здесь – фантастическое благоденствие и уверенность, что волос не упадет с твоей головы, пока идет работа, к которой все относились с двойным энтузиазмом» [6, с. 174]. В случае успеха разработки осужденным обещали свободу и благоустроенную жизнь в одном из городов огромной страны. Об этих обстоятельствах сказано в опубликованном в России в 1990 г. романе А.И. Солженицына «В круге первом»: «На шарашках, куда, казалось, не проникал зубовный скрежет лагерной борьбы за существование, издавна было достойно утверждено начальством: в случае успеха разработки ближайшие к ней зеки получали все – свободу, чистый паспорт, квартиру в Москве» [11, с. 78]. Мечтой о свободе живут и герои И. Полянской. В романе «Прохождение тени» повествовательница, которая родилась в «шарашке» и провела там первые шесть лет жизни, делится своими детскими воспоминаниями: «В лаборатории пытаются что-то такое расщепить. Когда это произойдет, мы все получим свободу, так обещал телефон» [6, с. 59]. Однако героиня романа отмечает и тот факт, что ее отец ощущал себя вполне свободным человеком на «объекте» именно потому, что здесь мог заниматься любимым делом: «Он не видит ни автоматчиков на вышках, ни колючки <…> потому что здесь, в зоне, он наконец-то обрел свободу, о которой мечтал много лет» [6, с. 177]. В условиях лагерной жизни именно суверенная область науки позволяет личности сохранить свою духовную свободу. Может, поэтому отец так настойчиво пытался втолковать своей подрастающей дочери, «что труд, перефразируя его любимого Горького, – Бог свободного человека» [6, с. 183], имея в виду не рабский труд, а труд общественно полезный, то дело, «которое больше тебя самого» (Ю.Трифонов) и которому служишь не за страх, не за деньги, а по совести. Автор романа неслучайно замечает: отец говорил, «перефразируя его любимого Горького», имея в виду монолог Сатина из пьесы «На дне» (1902), где звучат слова: «Правда – бог свободного человека» [1, с. 136]. Но если Горький, по мнению исследователей, «выбор между правдой и человеком делает в пользу человека» («Человек – вот правда!») [8, с. 3], то герой романа И. Полянской меняет слово правда на слово труд. Правда так и осталась «закупоренной» в этом «человеке кристальной честности», убедившемся на примере собственной судьбы и судеб товарищей по уральской шарашке, что в условиях тоталитарного режима правда «не ко двору». В приведенной цитате повествовательница обращает внимание на то, что творчество Горького было особенно близко ее отцу. Разумеется, это связано не столько с тем, что творчество «советского классика» (в усеченном виде, без вернувшихся к читателям только в конце ХХ в. «Несвоевременных мыслей») было официально признано, но со свойственным именно Горькому страстным противостоянием «свинцовым мерзостям жизни», начиная с юношеской поэмы «Песнь старого дуба», где звучит: «Я в мир пришел, чтобы не соглашаться…». Можно предположить, что именно это «несогласие» наиболее близко характеру героя Полянской, вся жизнь которого – это борьба человека с несправедливостью, со смертью, с унижающими достоинство преследованиями властей, борьба за высокое звание человека и ученого. Сама Полянская, говоря о судьбе прототипа героя своего романа, отмечала, что ее отец – «абсолютно бесстрашный человек. Его судьба явилась <…> примером гордой неуступчивости и мужества» [13]. В то же время, зная правду о судьбе пленных, о лагерях и репрессиях, отец героини всячески старался оградить от нее дочь: «И как не просила я его научить меня этому предмету, истории, он не желал ничем делиться и совал мне под нос учебник… Он требовал, чтобы я вызубрила учебник» [6, с. 69], т.е. ограничила свои знания официально принятой и в те годы единственно возможной версией истории.
Сам герой романа так и остался непокоренным страхом и ложью времени: «не боялся развязывать войну по всем фронтам – от местного партийного начальства до бездарного, с его точки зрения, научного руководства того или иного института» [13]. Повествовательница в «Прохождении тени» также сообщает о преследовании властями героя романа: «Отцу с его прошлым трудно было устроится на работу, а еще труднее – удержаться на ней… Тайная папка, содержащая отжимки из его прошлого, повсюду, как тень, следовала за ним… Переезжая с места на место, он снова и снова пытался убежать из немецкого плена, выбраться из Берлина» [6, с. 272]. В юности героиня не все понимала в метаниях и наставлениях отца, ей казалось, что от результатов его труда веет «некой формулой, в которую живая жизнь укладывалась, как в свинцовый гроб» (Там же, с. 183). Несомненно, такой характеристикой автор романа обращает внимание читателя не только на непреклонность и неуступчивость отца, но и на то, какая опасность может грозить всему живому в случае неразумного использования атомной энергии. К заветной цели – завладеть атомными высотами – талантливые люди нашей страны приближались ценой невероятных душевных и физических трат. «Создавали атомную бомбу… Защита среды… защита человека – все это вставало перед наукой впервые. Даже ученые-физики не представляли себе толком нужных мер защиты при пользовании радиоактивными веществами» [2, с. 147]. Оттого и появляется этот зловещий образ – «свинцовый гроб», незнаемый прежде человечеством: «в такой гроб в пятьдесят третьем году был положен один из лаборантов после неудачной серии опытов, превратившийся за неделю агонии в мумию» [6, с. 183], – вспоминает повествовательница Полянской. Свою врожденную болезнь крови она тоже объясняет неосторожным обращением отца с радиоактивными материалами: «…когда отец обеспечивал химическую оркестровку А-бомбы, во время одного из испы- таний он получил изрядное количество бэр… вот почему вследствие этого события в моей крови не достает лейкоцитов» [6, с. 33]. Только со временем приходит к героине Полянской понимание того, что, не жалея себя, наши ученые работали для будущего. Как прозвучало в «Зубре» Гранина: «Трудно было остаться чистеньким в работе с этой плохо изученной штукой. Но, схватывая свои дозы <…>, они вырабатывали средства защиты для следующих поколений»[2, с. 146].
Именно для следующих поколений, для будущего Родины по двенадцать часов в сутки работали ученые секретных лабораторий. Талантливым обитателям шарашек не были свойственны иллюзии по поводу существующего строя и его «заботы» о людях. Однако каждый из них оставался патриотом, каждый понимал: режимы и общественные формации изменчивы, а Родина неизменна. Какой она будет, зависело и от них. «Поэтому оставалось одно – труд как подвиг и искусство как отдушина» [13]. Герой романа И. Полянской уходит в мир науки, который становится спасительным для него: «Он ушел в труд , как уходил лопатками в стену уже приговоренный к расстрелу… Он выбросился из собственной памяти, словно Кроткая из окна, прижимая к груди, как икону, труд » [6, с. 69]. Эта параллель с героиней Достоевского в романе писательницы не случайна. Поскольку современная проза И. Полянской характеризуется сочетанием традиций реалистического письма с элементами постмодернистской поэтики, в качестве «референта» литературного произведения у нее нередко «выступает весь культурный интертекст, с которым сознание пишущего образует ризому во всеохватной интертекстуальной игре» [9, с. 56]. Эта игра ставит целью не развлечение читателей, а стремление автора актуализировать в них этический потенциал русской классики с ее патриотизмом, высокими духовными ориентирами, любовью к «маленькому», но достойному внимания человеку. Она из тех современных художников, кто пытается не только «восстановить прерванную и разрушенную революцией и советской властью органику русской литературы» [10, с. 38], но и подтолкнуть читателя к угадыванию и узнаванию «чужого» в тексте, к достраиванию смыслов .
Так, упоминание имени героини «фантастического рассказа» Ф.М. Достоевского в романе Полянской расширяет смысловое поле рассматриваемого произведения. Трагичность судьбы Кроткой, ее цельный, сильный характер, поступки, не всегда понятые другим, словно «подсвечивает» образ героя Полянской. За внешней покорностью, смиренностью героини Достоевского скрывалась натура гордая, неукрощенная, которая предпочла молчаливое самоубийство тягостному существованию с жаждущим власти мужем. Герой «Прохождения тени» не стремится отомстить тоталитарной власти за свои обиды и страдания, он одержим другой мыслью – идеей служения отечественной науке, вот почему он тоже «убивает» свои воспоминания, связанные с самыми страшными моментами его прошлого. Многотерпеливый (именно так трактуется понятие «кроткий» в словаре В.И. Даля), но непокоренный, несломленный, он остается свободным, независимым в своих научных изысканиях. Кроткая идет на смерть с прижатым к груди образом Богородицы, веря в ее заступничество и прощение. Исследователи творчества Достоевского отмечают внутреннюю контрастность этого события – «необычное сочетание отчаяния и веры, гибели и надежды» (Л. Гроссман). Герой романа И. Полянской, пройдя через плен, Колыму, шарашку, через унижения, связанные с реабилитацией, сохранил веру в жизнь, надежду на лучшие времена для своей страны: «Все в нем покоряло людей: его твердая вера, что жизнь, несмотря ни на что, прекрасна, независимость суждений, сила и самостоятельность» [6, с. 244]. Описывая жизнь на объекте, повествовательница также говорит о вере и надежде героя: «Нет-нет, говорил отец в амбулатории шарашки маме <…>, оковы тяжкие падут, и родина – эта тяжелая, грозная страна, немилостивая к слабым, оступившимся или попавшим в плен к врагу, – встретит нас у трапа самолета, и с каждого из нас будет снято клеймо врага народа» (Там же, с. 171). Пушкинские слова оковы тяжкие падут, представленные в тексте романа без кавычек, являются не столько приемом интертекстуального письма, сколько способом создания характера отца, впитавшего в себя «заветы» и «советы» русских классиков. Они подтверждают мысль о том, что не натура отца была причиной его злоключений: «общество <…> еще не сумело дорасти до отца, поэтому оно всегда оказывалось страдающей стороной» [6, с. 245]. Он как «человек слова» и «кристальной честности» и дочь свою учил противостоять несовершенству мира: «к любому явлению надо подходить смиренно и, главное, терпеливо, не строить о нем поспешных умозаключений, приводящих к одной из самых разрушительных идей: если мир таков – значит, и я буду таким же <…> да, мир таков <…>, но я буду таким, словно он исполнен радости и благородства» (Там же, с. 263). Эту радость жизни герой И. Полянской находил не только в науке, но и в музыке, литературе, театре, спорте. И. Полянская в образе отца повествова-тельницы изобразила многих представителей советской науки, «каждый час времени которых лопался зрелым плодом». Неслучайно рассказчица вспоминает, как проводили свободное время ее родители: «Они ходили в оперетту, сидели вдвоем в библиотеке <…>, обменивались мнениями о прочитанных ими романах <…> Время от времени они с друзьями ставили на дому любительские спектакли». К тому же отец «свободно говорил на трех европейских языках <…> он был остроумен, необычайно работоспособен <…> вокруг него спонтанно завязывались праздники» (Там же, с. 128, 245). Эти маленькие праздники организовывались даже в шарашке в виде спевок в коттеджах объекта: «…в одной мелодии сливались голоса народа и врагов народа, русских и немцев, физиков, химиков, биологов» (Там же, с. 77). И. Полянская утверждает мысль о том, что «научные открытия не знают границ и служат всему человечеству, входя в контекст мировой культуры» [4, с. 22].
Следуя правде истории, Полянская с грустью замечает, что до недавнего времени отец ее героини, как и многие другие ученые того времени, оставался всего лишь «тенью» в судьбе своего отечества, «неотчетливым очертанием, силуэтом». Его достижения, научные открытия не прославили его имени: «… в приблизительных исторических учебниках, как ни приближай к глазам отдельные страницы, ни умножай зрение лупой, я не могу разглядеть имени моего отца» [6, с. 68]. Действительно, прототип героя романа Полянской долгие годы был среди тех, о ком говорят: «один из», хотя он стоял у истоков не только самого грозного оружия современности, но и у истоков науки Обнинска: «Н.Г. Полянский появился в Обнинске, когда город еще не занесли на карту страны и все люди в нем были наперечет» [12, с. 4]. В этом городе есть имена в прямом смысле «собственные»: имя Лейпунского носит самый первый в городе институт, площадь перед ним названа в честь его ученика Бондаренко. Есть улицы Курчатова, Блохинцева, Ляшенко. Однако история Обнинска обошла молчанием Н.Г. Полянского. Недаром его ученик П. Тулупов с сожалением заметил: «Мой учитель Николай Георгиевич Полянский – талантливый ученый. И хотя начинал свою советскую трудовую биографию в Обнинске, имя его здесь потеряно» (Там же, с. 5). Своим романом И. Полянская опровергает это суждение, «выводя» из тени незаслуженного забвения не только своего отца, но и других ученых того непростого времени, достойных благодарной памяти потомков.
Список литературы «Труд как подвиг и искусство как отдушина»: И. Полянская о судьбах отечественной науки ХХ в. в романе «Прохождение тени»
- Горький М. На дне//Полное собрание сочинений: в 25 т. / Под ред. Л.М. Леонова, А.И. Овчаренко и др. М., 1970. Т. 7.
- Гранин Д.А. Зубр. М., 1988.
- Латынина А. Личная мелодия//Независ. газ. 2005. 21 июля.
- Перевалова С.В., Перевалов А.В. «Лирическое отступление» об экологических проблемах атомной физики//Физика в школе. 2012. №6. С. 21-27.
- Полян П. «ОST»ы -жертвы двух диктатур//Родина. 1994. №2.
- Полянская И. Прохождение тени. М., 1999.
- Попов Г. Система и Зубры//Д.А. Гранин. Зубр. М., 1988.
- Примочкина Н.Н. Горький сегодня//Литература в школе. 2008. №7.
- Прохорова Т. Постмодернизм в русской прозе. Казань, 2005.
- Русская постмодернистская литература: новая философия, новый язык. Минск: Ин-т современных знаний, 2002.
- Солженицын А. И. В круге первом//Малое собрание сочинений: в 7 т. М., 1991. Т 1.
- Черных Н. Служебный роман: считать бывшее небывшим//Новая среда. 2009. №8.
- Черняева Е. Литература -это послание. Интервью с Ириной Полянской//Вопр. литературы. 2002. №1. URL: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/redkol/poliansk/vop.html.