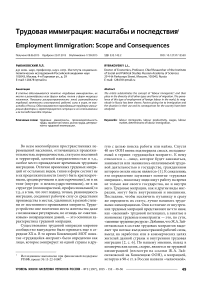Трудовая иммиграция: масштабы и последствия
Автор: Рыбаковский Л.Л.
Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal
Рубрика: Демография и миграция
Статья в выпуске: 3 (197), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье обосновывается понятие «трудовые иммигранты», их место в разнообразии всех других видов, типов и форм миграции населения, показана распространенность этой разновидности трудовой занятости иностранной рабочей силы в мире, её масштабы в России, обосновываются порождающие трудовую иммиграцию факторы и характеризуется ситуация в их использовании и её последствия для страны.
Трудовые иммигранты, производительность труда, заработная плата, рынок труда, детерминанты трудовой иммиграции
Короткий адрес: https://sciup.org/143182102
IDR: 143182102
Текст научной статьи Трудовая иммиграция: масштабы и последствия
Во всем многообразии пространственных перемещений населения, отличающихся продолжительностью, периодичностью, статусом поселений и территорий, целевой направленностью и т.д., особое место принадлежит временным трудовым миграциям. Отличие временных трудовых миграций от остальных видов, типов и форм состоит не в их продолжительности (могут быть краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными), не в их типе (внутри- и межгосударственными), не в их структуре (половозрастной, профессиональной) и т.д., а в том, что этот подвид, точнее, разновидность миграции, соединяет рабочую силу со средствами производства в местах, удаленных в разной степени от постоянного проживания мигранта. Трудоустройство вне поселения места жительства даже с возможным регулярным, но отнюдь не «маятниковым» возвращением домой, — это основная характеристика трудовой миграции.
Существование трудовой миграции мировое сообщество вынуждено было признать еще в середине ХХ в. В то время Конвенцией МОТ понятие «трудящийся-мигрант» было определено как лицо, которое эмигрирует из одной страны в дру-
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-22-01007.
гую с целью поиска работы или найма. Спустя 40 лет ООН вновь подтвердила смысл, вкладываемый в термин «трудящийся-мигрант». К нему относится «…лицо, которое будет заниматься, занимается или занималось оплачиваемой трудовой деятельностью в государстве, гражданином которого он или она не является» [1]. К сожалению, это определение зауживает понятие «трудовая миграция», поскольку люди ищут работу на время не только вне своего государства, но и внутри него. Трудовые миграции, как и другие виды миграции, могут быть внутренними и внешними. Последние, чтобы исключить путаницу и сразу же определить их статус, лучше называть трудовыми иммиграциями. Они в отличие от внутренних трудовых миграций представляют не что иное, как «заемный» трудовой потенциал, а занятые в экономике трудовые иммигранты — это, по сути, «заемные трудовые ресурсы». Добавим, что Ж.А. Зай-ончковская в составе трудовых мигрантов выделяет три потока: въезд иностранной рабочей силы, выезд на заработки или в коммерческих целях жителей данной страны и внутренняя трудовая миграция [2, с. 6]. По нашему мнению, выезд в коммерческих целях, скорее, является не трудовой иммиграцией (несмотря на ссылки Ж.А. Зай-ончковской на Конвенцию ООН), а миграцией, которую в 90-е гг. в России назвали «челночной».
И трудовая иммиграция, и челночная — это всего лишь две разновидности временных миграций.
Масштабы трудовых иммиграций за последние полсотни лет увеличились в разы. Естественно, что стала значимой и их доля в населении стран-реципиентов и во всей совокупности иммиграционных процессов. В начале нового столетия доля трудовых иммигрантов в составе населения Швеции и Франции превышала 2,2–2,5%, Бельгии — 3,8%, а Швейцарии — даже 9,5%. Среди всех иностранцев во Франции в тот период удельный вес трудовых иммигрантов составлял 27%, а в Швейцарии даже превышал 50%. В это же время в Канаде он составлял 57%, в США — свыше 60% [3]. По данным МОМ, в 2010 г. число мигрантов в мире составляло 214 млн, из которых значительная доля принадлежала трудовым иммигрантам [4]. Если принять среднюю долю трудовых иммигрантов в общем числе мигрантов, полученную для Франции, Швейцарии и Бельгии, получится, что в 2010 г. В мире насчитывалось примерно 70 млн трудовых иммигрантов. Скорее всего, эта цифра намного больше, тем более, если ее откорректировать с учетом нелегальных трудовых иммигрантов в России.
В ХХI в. трудовым иммигрантам в развитых странах стало принадлежать значимое место в составе населения, занятого в экономике. Уже накануне нового столетия, т.е. в 2000 г., их удельный вес составлял в США 12,4%, Канаде — 19,1% и Австралии — 24,5%. В европейских странах доля трудовых иммигрантов, занятых в экономике, была несколько ниже: во Франции — 6,1%, Швеции — 5,0% и Бельгии — 9,8%. Лишь в Швейцарии эта доля составляла 18,3% [3]. Согласно данным для 2009 г., доли трудовых иммигрантов в составе занятого населения развитых стран заметно различались. В том году трудовых иммигрантов в численности населения, занятого в экономике Японии, было 0,3%, Финляндии — 2,4%, Нидерландах — 3,6%, Дании — 4,4%, Чехии — 4,6%, Франции — 5,4%, Италии — 6,6%, Великобритании — 7,2% и Норвегии — 8,6%. В других европейских странах доля трудовых иммигрантов среди занятых в экономике была еще выше: в Испании — 9,0%, Германии — 9,4%, Бельгии — 9,5%, Австрии — 13,1% и Швейцарии — 21,3% [4]. Если верить этим данным, то за истекшее десятилетие доля трудовых иммигрантов в составе занятого населения во Франции и Бельгии сократилась соответственно на 0,7 и 0,3 процентных пунктов, тогда как в Швейцарии увеличилась на 3 пункта, что, кстати, вызывает больше доверия, чем в случае с Францией и Бельгией. Тем не менее приведенные цифры — это своего рода ориенти- ры, позволяющие оценивать ситуацию с трудовыми иммигрантами в России.
Трудовая миграция для России — не новое явление. Временные трудовые миграции достаточно масштабно осуществлялись в советские годы. Сплавные работы в лесозаготовительной отрасли, обработка рыбы в период путины в условиях прибрежного рыболовства, посевные и уборочные работы в сельскохозяйственном производстве и т.д. — все это требовало привлечения сезонных трудовых мигрантов. Особенно много, и притом регулярно, из центральных районов России привлекались в основном работницы в период путины на Камчатку, Курилы и другие прибрежные местности Дальнего Востока. Происходил обмен трудовыми мигрантами и между другими регионами страны, в частности, между трудонедостаточными и трудоизбыточными союзными республиками. Так, на московском автозаводе (ЗИЛ) постоянно работали сотни трудовых мигрантов, прибывавших из Узбекистана (условия их труда и оплаты контролировали приезжавшие представители этой республики). Была еще одна наиболее массовая сфера трудовой миграции. По всей стране ежегодные, к тому же обычно не оплачиваемые поездки горожан, отвыкших от физического труда, на уборочные работы в колхозы и совхозы было одним из постоянных явлений забываемой ныне советской действительности.
Но советское время было знакомо и с трудовыми иммиграциями. Например, трудовая иммиграция в 1920-е гг. была массовым явлением на Дальнем Востоке. Там, согласно разным источникам, численность иммигрантов из Кореи колебалась от 110 до 150 тыс. человек. Корейские иммигранты обычно принимали советское гражданство и селились на Дальнем Востоке. В 1937г. они стали первой жертвой депортации в Центральную Азию [5, с. 77, 78]. Иммиграция из Маньчжурии была меньше и связана в основном с сезонными работами. Численность китайских трудовых иммигрантов колебалась в пределах 50–70 тыс. человек. Иное положение занимала японская иммиграция. Постоянно живущих на Дальнем Востоке японцев было немного, до 1,1 тыс. человек. Но численность трудовых иммигрантов, приезжавших на рыбную путину, было по несколько десятков тысяч в год, в частности, к началу 1930 г. их насчитывалось 38,6 тыс. человек [5, с. 78]. В период индустриализации во многих регионах работали приглашенные тысячи специалистов из развитых зарубежных стран. Они трудились на сооружении новых промышленных объектов, наладке оборудования и пр. Так, только на строительстве Магнитогорского металлургического комбината было занято свыше 800 иностранных специалистов, прибывших из США, Англии, Германии, Италии и т.д. Позже (1937–1938 гг.) часть иностранных специалистов «познакомилась» с ГУЛАГом.
С развалом Советского Союза трудовая миграция как таковая не исчезла. Просто существенно уменьшилась ее значимость, а главное — ее проявление на общественной сцене, поскольку ликвидация паспортного режима (института прописки) и, главное, правовое оформление свободы передвижений как внутри страны, так и за ее пределы превратило такие миграции в обыденное, мало заметное дело. При отсутствии статистической информации об этой разновидности временной миграции, оценки ее примерных масштабов дают лишь данные социологических опросов. Согласно одному обследованию среди жителей административных центров субъектов РФ работу за переделами своего населенного пункта (без маятниковой миграции) имели 4,9% опрошенных. По данным, которые используют и приводят в своей работе Ю.Ф. Флоринская и ее соавторы, ныне в России 15–20 млн семей живут за счет отходничества [6, с. 29]. Это то, что касается трудовых мигрантов.
Другое дело — трудовые иммиграции, масштабы которых с нарастанием процессов обособления государств, возникших из бывших частей единой страны, стали расти как снежный ком. В ХХI в. Россия так же, как и развитые страны мира, стала крупным реципиентом, принимающим трудовых иммигрантов практически из всех государств нового зарубежья, а также из ряда стран старого зарубежья. Достоверных сведений о численности трудовых иммигрантов, находящихся в России, нет. По легальной составляющей цифры, хотя и не точны, все же близки к реальным и позволяют проследить динамику численности трудовых иммигрантов за последние 10–15 лет. Так, в течение 1994–2006 гг. в Россию было привлечено на законной основе почти 5 млн трудовых иммигрантов, из которых более половины пришлось на выходцев из СНГ. В 1994 г. легальных трудовых иммигрантов в России было 129 тыс., в 2001 г. — 283,7 тыс., а в 2005 г. их насчитывалось 702,5 тыс. человек, что составляло 96% всех легальных трудовых иммигрантов в странах постсоветского пространства [7, с. 109]. В 2006 г. их стало 1014 тыс., в 2007 г. — 1717 тыс. и в 2008 г. — 2426 тыс. С 1994 по 2007 г. число легальных трудовых иммигрантов возросло в 7,8 раза [9, с. 109]. В 2008 г. оно увеличилось еще на 700 тыс., причем 627 тыс. пришлось на страны нового зарубежья и чуть больше 80 тыс. — на старое зарубежье.
До 2010 г. к легальным трудовым иммигрантам относили иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность в России. Их численность в 2008 г. составляла 2426 тыс. человек и была наибольшей за все истекшее время. Начавшийся кризис привел к сокращению количества трудовых иммигрантов в 2009 г. до 2 224 тыс. и в 2010 г. — до 1641 тыс. За два года число легальных трудовых иммигрантов уменьшилось почти на 0,8 млн человек. С 2011 г. легальные трудовые иммигранты именуются как иностранные граждане, имеющие действующее разрешение на работу. Их насчитывалось в России к концу 2011 г. чуть больше одного миллиона человек (1 028 тыс.). Лишь к началу 2013 г. численность трудовых иммигрантов возросла до 1 149 тыс. [10, с. 122].
Наиболее сложная для государства и наиболее болезненная проблема для людей — нелегальная трудовая иммиграция, масштабы которой как были не известны раньше, так не известны и в настоящее время. Оценки численности нелегальных иммигрантов, одновременно находящихся в России, различаются на порядок. Еще в начале нового столетия оценки численности нелегальных иммигрантов колебались от 1,5 до 15 млн человек. В частности, в правительственном распоряжении от 6 мая 2004 г. о концепции действий на рынке труда в 2003–2005 гг. число нелегальных иммигрантов определено в 1,5 млн человек. Затем цифры возросли до 5, 10 и даже 15 млн, причем их озвучивали даже официальные лица, что отнюдь не гарантировало достоверности этих оценок. Согласно данным А.В. Топилина, в начале ХХI в. на территории России находилось примерно 7,5–8 млн нелегальных мигрантов [9, с. 132, 133]. На это же время МВД России определяло число нелегальных иммигрантов в 10 млн, Федеральная пограничная служба давала цифру на 2001 г. в 3 млн, Федеральная миграционная служба считала, что в зависимости от сезона в России находилось от 3-х до 10 млн нелегальных трудовых иммигрантов. В последние годы соотношение между легальными и нелегальными трудовыми иммигрантами заметно изменилось. По мнению Е.В. Тюрюкановой, в начале нынешнего десятилетия доля трудовых иммигрантов, находящихся на законных основаниях в России, составляла 10%, а к концу десятилетия возросла до 25–30% [11, с. 150]. Близкую оценку приводят также А.В. Топилин и О.А. Парфенцева. В 2007 г. по России в целом разрешений на право работы было выдано 6 млн, а к работе приступили 2 млн, т.е. только одна треть. Это же просматривается и по Москве. Разрешений на работу — 500 тыс., а работало 150 тыс. [12, с. 17]. Остальные, видимо, ушли в «тень».
В связи с отсутствием достоверных данных не о количестве полученных разрешений, а о численности работающих в России трудовых иммигрантов, невозможно сколько-нибудь точно определить их долю в занятом населении. Эта доля, включая и нелегальную численность, по нашим расчетам, в составе занятого населения России в первом десятилетии ХХI в. составляла от 14 до 16%, т.е. находилась на общеевропейском уровне, если же учесть только их легальную часть, то эта доля будет меньше 2,5–2,6%. Она была примерно такой же, как в Финляндии или Нидерландах. В начале второго десятилетия доля легальных трудовых иммигрантов, т.е. имевших разрешение на работу, была 2,2% в 2010 г. и 1,5% в конце 2012 г. С учетом сокращения численности нелегальных трудовых иммигрантов их общая доля в составе занятого населения, скорее всего, близка к 1/10 части.
В настоящее время трудовые иммигранты вносят весомый вклад в создание внутреннего валового продукта России. Если допустить, что производительность труда у легальных трудовых иммигрантов такая же, как и у остальных работников, тогда надо отнести, например в 2012 г., на их долю не менее чем один триллион рублей стоимости валового внутреннего продукта, создаваемого в России. Если же принять в расчет нелегальную составляющую, которая в 4–5 раз больше легальной, то на долю трудовых иммигрантов придется не менее 5–7 трлн руб., а это близко к 10% стоимости ВВП. Таков примерный порядок цифр о вкладе трудовых иммигрантов в российскую экономику.
В 90-е гг. ХХ в. и первое десятилетие нового столетия происходило постепенное изменение значимости доноров, откуда прибывали трудовые иммигранты в Россию. Если до 2000 г. в составе иностранных трудовых мигрантов преобладали выходцы из старого зарубежья, то затем стали лидировать выходцы из государств нового зарубежья. Уже в 2008 г. наибольшее число трудовых иммигрантов было из Узбекистана и Таджикистана, соответственно 643 и 391 тыс. За ними следовали Китай (282 тыс.) и Украина (245 тыс.). На долю Кыргызстана приходилось 185 тыс., Турции — 131 тыс., Молдовы — 122 тыс. и Армении — 100 тыс. человек. У всех остальных (Вьетнам, Азербайджан, КНДР и др.) основных поставщиков трудовых мигрантов их численность не превышала 100 тыс. человек. В 2012 г. в России среди трудовых иммигрантов, которым были выданы разрешения на работу, было выходцев из Узбекистана 42%, Таджикистана — 16%, Киргизии — 6%, Армении — 3%, Азербайджана — 2%, Молдовы —
4%, Украины — 11%, Китая — 7%, КНДР — 2%, Турции — 3% и прочих — 4% [10, с. 122]. Среди трудовых иммигрантов, по сути, 2/3 всех это выходцы из Средней Азии (5 лет назад их было половина). Из Старого зарубежья их 12% (в 2008 г. — 27%) и еще 15%, как и в 2008 г., с Украины и Молдовы. Согласно тому же источнику, в конце 2012 г. трудовые иммигранты были примерно из 25 стран, правда, тех, откуда прибыло более одного процента трудовых иммигрантов, насчитывалось всего 11. Это Вьетнам (1,1%), КНДР (2,0%) Азербайджан (2,1%), Турция (2,4%), Армения (3,4%), Молдова (4,4%), Кыргызстан (6,7%), Китай (6,7%), Украина (11,1%), Таджикистан (15,8%) и Узбекистан (40,7%).
Прибытие трудовых иммигрантов в Россию из этих стран, ставших ее долголетними донорами, обусловлено рядом факторов. Прежде всего, это вызвано существенными различиями в уровне жизни населения основных стран-доноров и России, выступающей в данном случае реципиентом. Судить об уровне жизни населения этих стран по номинальным показателям по многим причинам было бы неверно. Поэтому воспользуемся индикаторами, наиболее пригодными для подобных измерений. Одним из них может быть исчисляемый в долларах США ВВП в расчете на душу населения. К сожалению, этот показатель для Узбекистана и Таджикистана отсутствует в статистических изданиях Росстата, в них имеются данные только для Кыргызстана. В 2008 г. душевой ВВП в России составлял 20 350 руб., в Казахстане — 15 172 и Кыргызстане — 2683 долл. [10, с. 678]. Эти цифры объясняют, с одной стороны, мизерное присутствие трудовых иммигрантов в России из Казахстана, с другой стороны, их наплыв из Кыргызстана. В 2010 г. трудовых иммигрантов из Казахстана было 8,3 тыс., а из Кыргызстана — 117,7 тыс. человек, что в расчете на численность населения указанных стран-доноров составляло 0,15% и 2,1% соответственно.
Для сопоставлений можно воспользоваться также таким показателем, как число построенных квартир в расчете на 10 тыс. населения. В 2012 г. этот показатель для России составил 59 квартир, Беларуси — 60, Казахстана — 35, Кыргызстана — 16, Молдовы — 14, Таджикистана — 16, Узбекистана — 27 и Украины — 20 квартир [10, с. 694]. Еще более наглядное представление о благосостоянии стран, из которых в Россию прибывают трудовые иммигранты, дает сравнение обеспеченности населения предметами длительного пользования (табл. 1). Данные таблицы 1 настолько наглядны, что не нуждаются в каких-либо комментариях.
Таблица 1
Наличие у населения предметов потребления длительного пользования (на 100 домашних хозяйств, штук)
|
Страна |
Год |
Телевизор |
Холодильник и морозильник |
Стиральная машина |
Легковой автомобиль |
|
Россия |
2012 |
174 |
125 |
101 |
54 |
|
Казахстан |
2012 |
218 |
155 |
120 |
74 |
|
Киргизия |
2012 |
113 |
69 |
60 |
18 |
|
Молдова |
2012 |
101 |
90 |
69 |
19 |
|
Таджикистан |
2012 |
106 |
23 |
8 |
|
|
Узбекистан |
1999 |
34 |
39 |
34 |
|
|
Украина |
2012 |
115 |
112 |
87 |
22 |
Источник: Российский статистический ежегодник. Статистический сборник. Оф. изд. М., 2013. С. 675.
Другой фактор, влияющий на «привязку» стран-доноров к стране-реципиенту, — различия в их демографическом развитии и связанном с ним состоянием баланса труда. Как известно, все последние 20 лет в России была естественная убыль населения, численность которого уменьшалась вплоть до 2009 г. В частности, в течение 2003–2012 гг. население России сократилось на 1,7 млн человек (более чем на один процент), причем с того же 2009 г. началось снижение количества лиц трудоспособных возрастов. В эти же годы численность населения Казахстана выросла на 1 млн человек, или на 6,5%, Кыргызстана — на 0,4 млн, или на 7,9%, Узбекистана — на 2,8 млн, или 10,7% и Таджикистана — на 2 млн, или 32,3%. В 2012 г. в трех последних странах общие коэффициенты рождаемости составляли соответственно 27,6, 21,2 и 27,8 при показателе в России, равном 13,3 рождения на тысячу населения.
Наконец, еще одним специфическим фактором, объясняющим сложившую «привязку» среднеазиатских стран-доноров к России, это история их совместного проживания. В Советском Союзе отношение этих и многих других республик к России было как к «старшему брату», в них русским языком владела значительная часть населения. Между Россией и другими союзными республиками в советское время существовал равный, в том числе и по масштабам, миграционный обмен населением. Люди могли устроиться и жить в любой части страны. Так сложилось, что в первое время после распада общей страны значительная часть населения государств Центральной Азии, несмотря на их независимость, не воспринимала Россию как заграницу. Все это и подобные обстоятельства и предопределили, что Россия стала основным реципиентом для среднеазиатских государств – доноров трудовых иммигрантов.
Трудовые иммигранты занимали в России преимущественно те ниши экономики, в которых оплата труда находилась на нижнем уровне, они были не престижны для граждан страны и не требовали сколько-нибудь заметной квалификации используемой рабочей силы. Это были, прежде всего, торговля, строительство, сельское и коммунальное хозяйство. С тех пор, как в современной России к трудовой деятельности стали привлекаться иммигранты, их участие в разных сферах занятости заметно изменилось. Это изменение, происшедшее в 1994–2006 гг., можно проследить по данным, приводимым А.В. Топилиным и О.А. Парфенцевой. За это время занятость в промышленности сократилась с 22,4% до 7,1%, в сельском хозяйстве — с 16,0 до 7,2%, в строительстве — с 45,3% до 40,8%, но существенно увеличилась в торговле — с 2,6% до 26,7% [12, с. 38]. Ныне в строительстве и торговле занято свыше 2/3 всех трудовых иммигрантов, причем строительство в наибольшей мере (более половины всех работающих там иммигрантов) освоено выходцами из Украины, Армении и Грузии, а в торговле заняты преимущественно выходцы из Закавказья и Средней Азии. Следует добавить, что ныне обслуживание дачных участков и загородных домов, их строительство и ремонт просто невозможны без трудовых иммигрантов, как правило нелегальных.
Независимо, из каких стран трудовые иммигранты, все они прибывают в Россию на заработки. И совершенно непонятно, почему им инкриминируется, что они вывозят из России деньги, переводят их на родину. Переводы денег — не оспариваемый факт. Правда, имеются разные оценки объемов вывоза денег. В частности, Д. Полетаев считает, что ежегодно из России вывозится от 2,3 до 6,5 млрд долл. [6, с. 77]. Денежные переводы трудовых мигрантов существенно увеличивают внутренние валовые продукты стран, откуда они приехали. В 2004 г. по доле денежных переводов в ВВП среди стран нового зарубежья на первом месте была Молдова (свыше ¼), Таджикистан (до 15%) и Армения (10%). Высока также доля Кыргызстана и Грузии. В этих странах достаточно высока доля доходов домохозяйств от заработков трудовых мигрантов, составляющая в Молдове свыше 30%, в Армении — 15%, Кыргызстане и Таджикистане — 10%, Грузии и Азербайджане — 5% [13, с. 75, 81]. Вывоз денежных средств – это естественный результат, наивно считать, что трудовые иммигранты приезжают в Россию, чтобы здесь истратить все заработанное. У них семьи, и они их кормят. Кстати, российские туристы тоже вывозят денежные средства, и немалые, в места отдыха, но это не вызывает возмущения.
Другое дело, что значительная часть переводимых денег, подчеркнем, нелегальными трудовыми иммигрантами, черпается из средств, с которых не взимаются налоги. Считается, что лишь четверть мигрантов получает зарплату по ведомости, а остальные — на руки. Как это выглядит у легальных и нелегальных иммигрантов показано ниже. Российский бюджет из-за неконтролируемого теневого использования нелегальной части этой категории рабочей силы на неуплате подоходного налога теряет огромные доходы. В 2007 г. среднемесячная заработная плата в целом по России составляла 13,6 тыс. руб., или в расчете на год — 163,2 тыс. Примем, что нелегальным трудовым мигрантам платили вдвое меньше, чем российским гражданам, тогда их годовая оплата равняется примерно 80 тыс. руб. в год. Допустим, что нелегальных иммигрантов не в 4–5 раз, а только втрое больше, чем легальных, т.е. их примерно 5 млн человек (эта цифра для 2007 г. существенно занижена). Величина подоходного налога нерезидента 30%. Если бы его уплачивали все нелегальные мигранты, то общая сумма платежей составила бы не менее 120 млрд руб. Кроме того, еще свыше 100 млрд руб. не поступали в качестве социального налога в соответствующие фонды. Ныне эти суммы существенно больше. В 2012 г. годовая заработная плата составляла примерно 320 тыс. руб. Ее половина — 160 тыс. Тогда величина подоходного налога должна составлять около 50 тыс. руб. Если принять те же 5 млн нелегальных трудовых иммигрантов, окажется, что бюджет теряет не менее 250 млрд руб. Хотя этот расчет примерный (он не учитывает неуплату налогов теми легальными иммигрантами, которые получают оплату на руки, а также тех нелегалов, которые работают по договорам), тем не менее он свидетельствует о сотнях млрд. руб., минующих российский бюджет.
Очевидно, что потери бюджета несопоставимы с теми лишениями и трудностями, с которыми сталкиваются трудовые иммигранты, прибывая в Россию. Среди них — безудержная эксплуатация иммигрантов, особенно нелегалов (повышенная продолжительность рабочего дня, сверхурочные работы, вредные и трудные условия труда, отсутствие охраны труда и т.д.), низкий уровень оплаты труда (задолженности по оплате, недоплаты, невыплата заработка вообще и др.), отсутствие договоров о найме. Например, по данным В.И. Му-комеля, соотношение между теми трудовыми иммигрантами, которые работают на основе письменного договора и на основе устных договоренностей среди осуществляющих свою деятельность легально, первых — 53,2% и вторых — 46,8%, тогда как среди нелегально работающих соответственно 19,2% и 80,8% [14, с. 31]. Добавим бесправное положение (изоляция от внешнего мира, изъятие паспортов, угрозы арестом, принуждение к сексуальным услугам, побои и т.д.), проживание с риском для жизни (опасность со стороны бандитов, рэкетиров), и тогда станет понятно, в какие условия попадают временные трудовые иммигранты, прибывая в Россию. Проводимые социологические обследования в среде трудовых иммигрантов фиксируют их неудовлетворенность проживанием и работой в России. Так, обследование, проведенное МОМ в начале десятилетия, показало, что 38% мигрантов не удовлетворены большой продолжительностью рабочего дня, 36,2% — тяжелым физическим трудом, 16,2% — плохими условиями труда, 16,6% — опасностью со стороны бандитов и рэкитеров, 17,5% — вредными для здоровья условиями труда и т.д. [6, с.118]. Исследования, проведенные МОМ в 2006 г., подтвердили вывод о том, что трудовые мигранты в значительной своей части работают и живут в нечеловеческих условиях [11, с.163].
К настоящему времени многое в положении трудовых иммигрантов изменилось к лучшему. Тем не менее пока до создания нормальных условий их проживания и занятости еще далеко. К тому же бесправное положение трудовых иммигрантов, особенно нелегальной части, очень удобно для обвинения их в нарушении общественного порядка, совершении преступлений, полицейской коррупции и т.д. Миф о том, что рост преступлений связан с трудовыми иммигрантами, не доказан, так как количество преступлений, совершаемых местным населением, надо считать к его численности так же, как и преступлений, совершенных иммигрантами, — к их количеству, которое никому не известно. К тому же преступления совершают не столько трудовые иммигранты, сколько преступники-гастролеры из других стран, специально приезжающие в Россию, или российские граждане, организующие из трудовых иммигран- тов преступные сообщества (всякого рода подпольные производства, контрабанду и пр.).
С существующими условиями жизни и труда, его оплатой, т.е. с тем положением, в которое попадают трудовые иммигранты, связаны два негативных последствия для России. Прежде всего, условия, в которых находятся трудовые иммигранты, оплата труда, порой отношение к ним населения не только озлобляют их, но и разносят по всему постсоветскому пространству дурную славу, формируют неприязнь и ухудшают в глазах населения стран нового зарубежья имидж России. На фоне распространения личных впечатлений, причем среди родных и друзей, любая официальная пропаганда, какими бы мощными не были СМИ, выглядит как «детский лепет». Указанное — это внешняя для России проблема, формирующая будущий для страны геополитический статус на постсоветском пространстве.
Есть и другая, более значимая для будущего страны проблема — это научно-техническое и, стало быть, экономическое развитие страны. Широкое использование трудовых иммигрантов на неквалифицированных работах и мизерная оплата их труда отдается бумерангом на заработках российских работников. Более того, последним становится некомфортно и по условиям труда, и по их оплате работать в тех сферах, которые освоены трудовыми иммигрантами. В свою очередь, предпринимателям, не говоря уже об их криминальной составляющей (например, производителях «паленого» алкоголя, лекарств и т.д.), более выгодно использовать дешевую рабочую силу, лишенную каких-либо прав, чем вкладывать средства в инновационные проекты. Высокая степень износа основного капитала — лучшее тому доказательство. Так, в 2010–2012 гг. степень износа основных фондов составляла 46% по сравнению с 43–44% в конце ХХ в. Особенно высока степень износа фондов была в торговле и на ремонтных работах (почти 60%) в ряде регионов страны. В Оренбургской, Свердловской и Тамбовской областях, Республике Мордовия и Ямало-Ненецком АО степень износа основных фондов превышала 55%, а в Республике Марий Эл, Удмуртской Республике, Курганской области Ханты-Мансийском АО и Пермском крае была даже выше 60%. Поразительно, но ЯНАО и ХМАО — основные нефтегазодобывающие регионы России. Следует отметить, что реально существующая до настоящего времени в России стратегия экономического развития далека от той, которая сделала более 100 лет назад из США передовую в научно-техническом отношении страну.
Использование в экономике России многомиллионных масс трудовых иммигрантов – это данность не только настоящего времени, но и ближайшего (по крайней мере, на 10–15 лет) будущего. Связано это, прежде всего, с дефицитом баланса труда. До самого последнего времени, несмотря на сокращение общей численности населения, доля в нем и численность трудоспособных контингентов не снижалась. В 2008 г. численность лиц в трудоспособном возрасте увеличилась по сравнению с 1998 г. на 5 млн человек, а их доля во всем населении повысилась с 57,8% до 63,2%. Даже число трудоспособных мужчин за это время возросло почти на 2 млн человек. Но, начиная с 2009 г., численность этой категории населения стала неуклонно сокращаться и уже в 2010 г. составила 87,6 млн человек (в 2007г. — 90,1 млн). К 2015 г. она уменьшится до 83,3 млн, к 2021 г. — до 78,0 млн и к 2026 г. — до 76,6 млн. Согласно прогнозу Росстата (2009 г.), численность населения в 2025 г. по сравнению с 2010 г. сократится всего на один млн человек, тогда как количество трудоспособного населения уменьшится на 11 млн.
Такая динамика численности трудоспособного населения уже создает, а вскоре будет создавать еще большие трудности на российском рынке труда. Преодолеть эти трудности, сократив при этом численность трудовых иммигрантов в стране, можно лишь на основе повышения производительности труда, но отнюдь не такими темпами, которые были в ХХI в. В статистическом ежегоднике (2013 г.) приводятся данные Росстата о темпах роста ВВП и темпах увеличения численности занятых в экономике в 2001–2012 гг. Если им верить, то за этот период ВВП возрос на 73,3%, а численность занятых в экономике увеличилась всего на 5,4% [10, с. 35]. Это означает, что производительность труда за это время повысилась на 64,6%, что в среднем за год составляет 1,5%. Такие темпы во многом объясняют наличие многомиллионной армии нелегальных трудовых иммигрантов, кстати способствующих росту ВВП, но не официальной цифре числа занятого в экономике населения. Для более существенного повышения производительности труда необходимы не только всесторонняя модернизация экономики, но и соответствующая подготовка профессиональных кадров. Ни то ни другое невозможно без радикального повышения уровня оплаты труда, перераспределения, говоря словами марксистской экономической теории, соотношений между прибавочным и необходимым продуктами в пользу последнего. Тем не менее независимо от темпов роста производительности труда в Россию будут все равно стремиться попасть трудовые иммиг- ранты, тем более если существенно возрастет оплата труда занятого населения. Поэтому нужно радикально изменить процедуры их въезда, условий пребывания и занятости, а также всей системы денежно-трудовых отношений с государственными службами и предпринимательским сообществом. Пора повнимательнее относиться к тому, что происходит в мире.
Список литературы Трудовая иммиграция: масштабы и последствия
- Права человека: Изложение фактов.№24: Права трудящихся мигрантов/ Всемирная кампания за права человека. ООН. Женева.1997. Август. с.33.
- Миграция населения. Выпуск второй. Трудовая миграция в России. Под ред. О.Д.Воробьевой. М. 2001).
- http://studopedia.ru/1_117919_tema-mezhdunarodnaya-trudovaya-migratsiya.html).
- http://pandiaweb.ru/text/77/340/35360.php).
- Рыбаковский Л.Л. Население Дальнего Востока за 150 лет. М. «Наука». 1990.