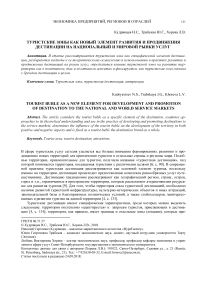Туристские зоны как новый элемент развития и продвижения дестинации на национальный и мировой рынки услуг
Автор: Кудрявцев Николай Сергеевич, Трабская Юлия Георгиевна, Хорева Любовь Викторовна
Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu
Рубрика: Экономика предприятий, регионов и отраслей
Статья в выпуске: 5 (113), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается туристская зона как специфический элемент дестина-ции, разбираются подходы к ее теоретическому осмыслению и использованию в практике развития и продвижения дестинаций на рынки услуг, определяется влияние туристской зоны на развитие территории как в позитивном, так и негативном аспектах и фиксируется, как туристская зона связана с брендом дестинации в целом.
Туристская зона, туристская дестинация, аттракции
Короткий адрес: https://sciup.org/148320030
IDR: 148320030
Текст научной статьи Туристские зоны как новый элемент развития и продвижения дестинации на национальный и мировой рынки услуг
В сфере туристских услуг сегодня уделяется все больше внимания формированию, развитию и продвижению новых территорий для привлечения туристов в отдельные страны и регионы мира. Подобные территории, привлекательные для туристов, получили название «туристская дестинация», под которой понимается территория, посещаемая туристами с различными целями [6, c. 90]. В современной практике туристская дестинация рассматривается как основной элемент туризма, поскольку именно на территории дестинации происходит предоставление комплекса разнообразных услуг путешественнику. Дестинацию традиционно рассматривают как географический регион, страну, остров, город и т.п., ограниченные в пространстве территории, которые располагают аттрактивными ресурсами для развития туризма [9]. Для того, чтобы территория стала туристской дестинацией, необходимо наличие развитой туристской инфраструктуры, культурно-исторических объектов и иных аттракций, законодательной базы и благоприятных политических условий, а также стейкхолдеров, заинтересованных в развитии туризма на данной территории [4, c. 133].
Туристские дестинации имеют специфические характеристики, среди которых можно выделить следующие: территория постепенно «адаптируется» к запросам туристов, приезжающих в дестина-цию [4, c. 134]; территория, как правило, имеет границы и отдельные зоны (локации), которые при-
ГРНТИ 06.71.57
Николай Сергеевич Кудрявцев – аналитик маркетингового агентства «HypeFactory».
Юлия Георгиевна Трабская – кандидат экономических наук, доцент, научный сотрудник университета Тарту (Эстония).
Любовь Викторовна Хорева – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики и управления в сфере услуг Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
Статья поступила в редакцию 24.09.2018.
влекательны для туристов и в которых они концентрируются, получая туристские и сопутствующие услуги; культурно-рекреационные ресурсы и иные аттракции дестинации сосредоточены в определённой зоне («диспропорциональность» локаций территории) и, в очень редких случаях (при условии небольшого размера дестинации), распределены равномерно. В результате подобной диспропорции осознано или непроизвольно складывается так называемая «туристская зона» – некая часть дестина-ции, которая является наиболее востребованной среди туристов, в ней расположены основные аттракции, продвигаемые на национальный и мировой рынки туристских услуг (традиционные объекты показа), в них концентрируется основной поток туристов, прибывающих в дестинацию, сосредоточены предприятия и организации, предоставляющие многообразные услуги, рассчитанные на туристов.
Как правило, в городах к подобным туристским зонам относятся исторические центры, в которых сосредоточены архитектурные объекты прошлых эпох, музеи, памятники и др. подобные объекты. Продвигая дестинацию на рынок, в первую очередь продвигают именно сложившиеся «туристские зоны» как главный аттрактивный ресурс. При этом дестинация может иметь не одну, а несколько туристских зон притяжения, рассредоточенных территориально в связи с протяжённостью дестинации или разнообразием локаций (например, пригороды Санкт-Петербурга могут быть отнесены к отдельным туристским зонам дестинации Санкт-Петербург, наряду с Дворцовой площадью и прилегающими к ней улицами и площадями).
Туристские зоны как специфический элемент системы продвижения услуг дестинации пока остаётся не до конца оформившимся. С другой стороны, теоретическое осмысление роли подобных туристских зон в формировании и продвижении дестинации в целом на рынки услуг все чаще попадает в поле научного интереса учёных. Так, в зарубежной исследовательской практике термин «туристская зона» уже прочно вошел в контекст описания туристской дестинации как важная ее составляющая, хотя и используются различные подходы к дефиниции «туристская зона». В российских исследованиях пока не выработано единого подхода к рассмотрению туристских зон дестинации, что связано, прежде всего, с тем, что научный интерес к данному феномену, который уже осознан и используется в практике деятельности туристских организаций, в нашей стране только формируется.
В настоящей статье мы будем использовать термин «туристская зона» в качестве синонима термина «tourist bubble», который широко встречается в зарубежных источниках. То есть отойдём от того определения, которое было сформулировано в Постановлении Правительства Москвы от 21.10.2008 г. № 978-ПП, описывающем «туристскую зону» как локацию с развитой туристской инфраструктурой, привлекающей туристов [1]. И именно данное значение туристской зоны сегодня неявным образом присутствует в отечественных исследованиях и в практике туристской деятельности, когда авторы ставят фактически знак равенства между туристской зоной, дестинацией и туристской территорией, во главу угла помещая туристский продукт, а не локацию, на корой он реализуется [7].
Так, авторы указывают, что целью создания подобной зоны является развитие туризма, обеспечение благоприятного инвестиционного климата, создание зоны будет способствовать появлению конкурентоспособного туристского продукта [8, с. 92]. Безусловно, развитие туризма в целом и отдельных туристских зон дестинации направлено на рост востребованности территории, создание новых туристских продуктов и, в конечном счёте, рост ВВП страны в целом. В то же время, развитие территории само по себе формирует новое качество среды не только для туристов, но и для резидентов.
Гармонизация их интересов сегодня становится все актуальнее для многих дестинаций, где «центральные» туристские зоны переполнены туристами, в то время как «периферийные» туристские зоны являются недовостребованными и моги бы дать толчок к перераспределению потоков и снижению негативного воздействия туризма на основные объекты притяжения путешественников. Такие места, в наибольшей степени «заточенные» под туристов, помимо собственно туристского интереса, воспринимаются туристами как наиболее «дружественные» территории, наиболее безопасные, стандартизованные в части мест проживания, питания, информирования и т.п. услуг, которые турист ожидает получить с максимальным комфортом для себя, используют стандартные и известные потребительские практики.
Возвращаясь к рассмотрению теоретических подходов к понятию «туристская зона» в зарубежной литературе, укажем, что первоначально термин «туристская зона» был идентичен термину «environ-mental bubble» («пузырь среды»). Его предложил Эрик Коэн в работе «Toward a Sociology of International Tourism», где он сформулировал следующий тезис: «Массовые туристы» хотят почув- ствовать новизну макросреды дестинации, при этом ощущая безопасность комфортной для них микросреды, которая состоит из отелей и знакомой еды – то есть образуют вокруг себя своеобразную «зону», которую они редко покидают» [13, с. 166-167]. В дальнейшем, с целью подчеркнуть важность туристского компонента в интерпретации данного термина, было предложено определение «tourist bubble» или «туристская зона», которое указывает именно на туристский контекст термина и широко используется в современной исследовательской литературе [17, c. 45].
В настоящее время термин имеет два основных значения: первое описывает стремление туристов не покидать зону комфорта, идентичную своей социокультурной группе, то есть находиться «внутри» новой страны, при этом оставаясь, в определённом смысле, изолированным от национальной культуры [24, с. 60]. Второе значение термина подразумевает разделение дестинации на «туристские зоны» и «зоны проживания» местных жителей (резидентов), что способствует созданию безопасных условий для кратковременного пребывания туристов, которые «пересекаются» с резидентами поскольку, поскольку последние включены в сферу предоставления туристских и сопутствующих услуг. Впервые данный подход предложил Деннис Джадд, и он касался периода, когда перестройка центральных районов американских городов была направлена на создание «туристских зон», которые бы давали путешественнику чувство «безопасности, защищенности и комфортности» [18, с. 36], то есть создавали «островки спокойствия», зачастую кардинально отличающиеся от окружающего городского социально-культурного «ландшафта» [18, с. 53].
На сегодняшний день общепринятой классификации «туристских зон» в литературе не представлено, но поскольку это важно с точки зрения развития механизмов управления услугами сферы туризма в дестинации, в данной работе авторы предлагают собственный подход к типологизации туристских зон по ряду критериев (см. таблицу).
Таблица
Типологизация видов туристских зон
|
Вид зоны |
Взаимодействие с территорией |
Тип границы |
Пример |
|
Физически созданная (чёткая жесткая граница) |
Имеет определенные границы, которые ограждают туристов от остальной территории |
Осязаемая, физическая, элемент замкнутости и закрытости, сложно быстро покинуть |
Круизный лайнер [19] |
|
Физически созданная (чёткая слабая граница) |
Имеет определенные, созданные границы, которые ограждают ее от остальной территории |
Граница осязаемая, с элементами замкнутости, но человек имеет возможность быстро её покинуть при желании |
Парки развлечений [27], отели типа «Всё включено» [28], заказники и заповедники |
|
Психологически созданная |
Границы нефизические, возникают спонтанно, но активно закрепляются в сознании туристов |
Не осязаемые, при этом ощутимы – активно разделяют город на зоны. Граница может изменяться со временем, и четкий «контур» постоянно изменяется |
Исторические центры европейских городов, припортовые зоны [26] |
В самом общем случае можно говорить, что «туристские зоны» делятся на два типа: физические и психологические, которые Райнер Джааксон называет «eigenwelt» («свой мир») [17, с. 45]. Под «физической зоной» обычно понимают место, которое имеет осязаемые границы, то есть является своего рода анклавом внутри дестинации: круизные лайнеры [19, с. 197], парки развлечений [27, с. 4], отели формата «Всё включено» [28, с. 100], места проведения конференций, выставок, квестов и т.п. [17, с. 45], а также в какой-то мере целые города, такие как Лас-Вегас, Монте-Карло. Такой тип «туристской зоны» является рукотворным и искусственно созданным, его границы создавались с помощью планирования территорий. Однако, нужно понимать, что границы таких зон условны и нацелены на предоставление конкретной услуги в рамках отдельного вида туризма. Но поскольку пребывая в дестинации турист «выходит за рамки» одного вида туризма, то и реализация многообразных потребностей будет проходить в различных туристских зонах (например, через сочетание делового и культурного туризма).
К типу «физических зон» могут быть отнесены заказники и заповедники, имеющие очерченную физическую границу, которая, с одной стороны, необходима для контроля за обитателями (звери, птицы и др.), а, с другой стороны, нужно привлекать туристов, которые бы эту границу не нарушали – иначе говоря, создавать в их сознании дополнительные психологические ограничения, предусмотренные правилами конкретного заказника или общими требованиями охраны окружающей среды.
Второй тип туристских зон формируется посредством учета психологического фактора, который в своём экстремальном варианте может подразумевать полное отсутствие желания у путешественника погружаться в незнакомую культуру. В качестве примера можно привести посещение японским туристом Гавайских островов: турист летит японскими авиалиниями в группе японских туристов, по приезду его встречает японский гид и провожает в автобус японской турфирмы, который доставляет туристов в отель с японскими владельцами или в ресторан японской кухни [20, с. 8-9].
В данном случае не происходит никакого значительного контакта японского путешественника с культурой Гавайских островов, за исключением того, что было предусмотрено заранее в программе. Такой тип туриста относится к туристам, приобретающим стандартный турпакет, именно такие туристы менее склонны адаптироваться к местной культуре и ожидают условий, приближенных к их стране проживания [2, с. 159]. В российской практике сегодня подобный феномен наблюдается в среде китайских туристов, которые ориентированы на «своих» гидов, свои рестораны, гостиницы, экономические модели предоставления услуг которыми не всегда бывают прозрачными для местных властей.
В качестве одного из важных свойств туристской зоны можно назвать «постановочную аутентичность». Термин «постановочная аутентичность» («staged authenticity») впервые был введен Дином Макеннеллом в 1973 г. и означает игровой (сконструированный, выдуманный) элемент в повседневной картине мира, который может не соответствовать реальной действительности, но полностью отвечает представлению туристов о той или иной дестинации и ее жителях [21, c. 595], идя вразрез с тем, что можно назвать реальным положением дел. Зачастую такие ожидания туристов связаны с мифами об особенностях представителей тех или иных национальных культур. Так, примером подобной «постановочной аутентичности» можно назвать медведя на улицах Москвы в дни прошедшего в 2018 г. в России Чемпионата мира по футболу.
Вопрос аутентичности в туризме вызывает множество дискуссий, но можно сделать вывод, что не существует единого стандарта: культура той или иной страны развивается, и невозможно утверждать, какой элемент будет «настоящим», а какой – нет в перспективе, и как изменится восприятие этих элементов в будущем [25, с. 319]. Любые особенности местной культуры в контексте туризма являются гипертрофированными, ирреальными, то есть создается некий симулякр ожиданий туриста – представление о том, что никогда не существовало, но является подобием того, что могло быть [10, с. 87]. Ярким примером такого рода симулякров было создание Диснейленда, который сегодня, однако, является вполне осязаемой, реальной и притягательной аттракцией для многих туристов со всего мира.
Существует две точки зрения на целесообразность развития «туристской зоны» в рамках дестина-ции: позитивная и негативная. Рассматривая позитивное влияние туристских зон на развитие и продвижение дестинации в целом, исследователи отмечают то, что данные зоны позволяют туристу избежать «культурного шока», который испытывает путешественник, попадая в абсолютно новую среду. «Культурный шок» обычно связывают с чувством «потерянности», волнением и сложностью во взаимодействии с внешней средой [3, с. 33]. Примером избегания «культурного шока» для туристов является создание инфраструктуры для прибывающих в Санкт-Петербург китайских туристов [23, c. 146]. Китайским туристам стараются создать условия, которые максимально бы напоминали «домашние» и исключали прямые столкновения с российской культурной, гастрономической и поведенческой действительностью [4].
С другой стороны, так как «туристские зоны» могут вызывать дисбаланс в городском развитии (чрезмерная концентрация туристов, негативное влияние на памятники архитекторы, вытеснение резидентов из традиционных культурно-рекреационных зон, рост мошенничества, воровства в местах скопления туристов и т.д.) важно проводить анализ особенностей функционирования таких локаций в дестинации с целью нивелирования негативных последствий [11, с. 213]. С этой проблемой, в том числе, столкнулся и Санкт-Петербург, формируя максимально комфортную среду для китайских туристов. Как указывают эксперты, неконтролируемый поток туристов, в том числе и из КНР, может создать дополнительные экономические риски для Санкт-Петербурга, связанные как с недополучением налогов в городской бюджет, так и с ростом цен на услуги в индустрии гостеприимства. Как указывают сегодня многие авторы, необходимо нивелировать конфликты между резидентами и туристами, поскольку это имеет большое значение для гармоничного развития туристской дестинации в целом [5].
Есть и достаточно удачные примеры внедрения «туристской зоны» и «искусственной аутентичности». Так, индейцы Потаксо в регионе Бана, Бразилия, которые на самом деле состоят из пяти разных этнических групп, стимулируемые туристическими агентами, стали «изображать» единую «примитивную» этническую группу [8, с. 1018]. Несмотря на потерю единичной уникальности каждой этнической группы, случилось «культурное возрождение Потаксо», и индейцы получили дополнительный социальный статус в регионе [8, с. 1019].
Изобретенные культурные традиции также послужили толчком для развития деревни Алтер де Чало в Бразильской Амазонии, где на основе комбинации местных легенд была создана одна общая, которая послужила основой для фестиваля «Sairé». Данный фестиваль привлекает более 6 тыс. чел. каждый год (при численности населения деревни около 4 тыс. чел.) и вносит значительный вклад в экономику региона. Необходимо отметить, что, несмотря на положительный компонент, данный фестиваль также провоцирует разделение местных жителей и туристов, так как в центре деревни появляются все больше объектов туристкой инфраструктуры, которые «смещают» местных жителей за границы центра [24, с. 76-77]. На настоящий момент создание «туристской зоны» в Амазонии имеет скорее положительный результат, но, если верить другим примерам, в долгосрочной перспективе она может усиливать диспропорцию региона и привести к дальнейшим негативным последствиям [24, с. 79].
Этот пример показывает, что развитие туристской зоны, также как и развитие в целом дестинации, проходит несколько этапов. Первый – это эйфория от притока туристов; второй – апатия, когда приезд новых туристов воспринимается как само собой разумеющееся; третий – этап раздражения, когда приходит осознание того, что туризм приносит не только выгоды, но и негативные последствия; четвёртый – этап антагонизма, на котором формируется враждебное отношение резидентов к туристам, сопровождающееся попытками не только сократить ущерб от наплыва туристов, но и сократить сами туристские потоки; пятый – этап смирения, когда резиденты вынуждены приспосабливаться к изменениям, вызванным развитием туризма [14; 2, с. 61].
Рассмотрим туристские зоны с позиции негативного влияния на развитие территории. Так, с точки зрения психологического компонента, данные зоны подразумевают нежелание туриста выходить за рамки своего представления о местности и культуре незнакомой страны. Это относится не только к «массовому», но и к «нишевому» туризму: Кариер и Маклеод, рассматривая экологический туризм на Ямайке и в Доминиканской республике, пришли к выводу, что, несмотря на активное изучение природы данных территорий, путешественник остается совершенно изолированным от социума и культуры стран [12, с. 329].
Туристские зоны также зачастую рассматриваются как что-то разделяющее, не дающее туристу получить необходимый культурный опыт или увидеть реальный город. Например, в своих исследованиях Балтимора ученые пришли к выводу, что развитие туристской зоны исключительно в центре города не позволяет другим районам развиваться [16, с. 217]; исследования в Атланте показали, что наличие «зоны» в центральном районе, несмотря на активную Интернет-рекламу дестинации как туристского центра, не решает проблемы бедности и преступности в городе, а лишь все сильнее разделяет туристов и местных жителей [15]. К похожим выводам пришли и исследователи круизного туризма в портовых городах: туристы, покидая «физическую» туристскую зону, которой является лайнер, попадают либо в порт [19, с. 197], либо в портовый город [17, с. 45], которые ввиду трансформации под запросы туристов становятся «психологическими» «туристскими зонами», где все самые важные локации для посещения находятся в шаговой доступности от порта, либо зависит от оператора, формирующего туристский продукт для круизных туристов [19, с. 198].
Исходя из концепции «tourist gaze», которая предполагает, что для туриста наиболее важными являются те места, на которые можно «бросить взгляд», а также сфотографировать и увезти в качестве впечатления [22, с. 25], можно предположить, что в той или иной степени все крупные города имеют свои особенные туристские зоны, где сосредоточены наиболее узнаваемые и притягательные объекты показа (сегодня с развитием цифровых технологий их узнаваемость многократно повышается благодаря Instagram, EyeEm, Frontback и другим подобным сервисам и социальным сетям). Множество европейских городов имеют узнаваемые исторические центры, в которых обычно сосредоточены все наиболее широко известные достопримечательности. Недавнее исследование городского туризма в Дании показало, что, хотя туристы и стали всё чаще посещать новые районы города, Бюро по маркетингу дестинаций Копенгагена по-прежнему рекламирует исключительно исторический центр [26, с. 129-130], что может стать ошибкой в долгосрочной перспективе.
Завершая рассмотрение места туристских зон в развитии современной дестинации укажем, что перспективы дальнейшего исследования данного феномена весьма широки: на территории Российской Федерации подобные исследования не проводились, поэтому нельзя точно обозначить границы и определить временные рамки, однако начать изучение вопроса целесообразно с малых исторических городов, таких как Суздаль, Мышкин и Плёс, где основной акцент сделан на туризм. Потенциально в перечисленных малых городах границы «зоны» должны чётко прослеживаться.
Кроме того, возможны исследования и более крупных городов, например, Санкт-Петербурга: они могут быть проведены с помощью современных методов по треккингу данных, что позволит выявить границу между историческим центром и периферией. Исследование и последующее использование потенциала отдельных туристских зон в рамках дестинации как нового элемента ее развития и продвижения позволяет сформировать подход к брендированию туристских территорий, более четко позиционируя последние в восприятии потенциальных туристов.
P. 87-116.
Список литературы Туристские зоны как новый элемент развития и продвижения дестинации на национальный и мировой рынки услуг
- Постановление Правительства Москвы № 978-ПП от 21.10.2008 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://mosopen.ru/document/978_pp_2008-10-21 (дата обращения 23.06.2018).
- Гончарова Н.А. Местное сообщество как ключевой актор туристской дестинации // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. № 2-7 (62). С. 158-163.
- Гордин В.Э., Трабская Ю.Г. Гастрономические бренды дестинаций: подходы и применение. Коллективная монография. СПб.: Издательство «Левша. Санкт-Петербург», 2014. 208 с.
- Кирьянова Л.Г. «Туристская дестинация» как комплексный концепт и ключевой элемент туристской системы // Вестник КемГУ. 2012. № 1.
- Королева Д.А. Переориентация на азиатский рынок: проблемы российской туриндустрии // Сборник лучших докладов VI Международной межвузовской научно-практической конференция Института магистратуры «Инновационные направления устойчивого развития экономики и общества». Часть 1. СПб.: Изд-во СПбГ- ЭУ, 2017. С. 203-206.