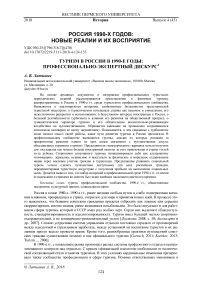Туризм в России в 1990-е годы: профессионально-экспертный дискурс
Автор: Латышев А.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Россия 1990-х годов: новые реалии и их восприятие
Статья в выпуске: 4 (43), 2018 года.
Бесплатный доступ
На основе архивных документов и материалов профессиональных туристских периодических изданий рассматриваются представления о феномене туризма, распространенные в России в 1990-е гг. среди туристского профессионального сообщества. Выявляются и анализируются воззрения, свойственные большинству представителей туристской индустрии: о туристическом потенциале страны как высоком и уникальном, его недостаточном раскрытии и использовании, о безусловном интересе иностранцев к России, о большой рентабельности турбизнеса и влиянии его развития на общественный прогресс, о гуманистическом характере туризма и его обязательном воспитательно-развивающем воздействии на путешественников. Обращается внимание на проявления сохранявшихся комплексов недоверия ко всему заграничному. Показывается, в чем связанные с турбизнесом люди видели смысл своей работы, какие пути развития туризма в России предлагали. В профессиональном сообществе выявляются группы, каждая из которых ратовала за приоритетное развитие одного из трех видов связанного с путешествиями досуга, объединенных термином «туризм». Представители «коммерческого» варианта хотели получить для государства как можно больше иностранной валюты за счет привлечения в страну гостей из-за рубежа. Сторонники спортивного туризма позиционировали себя как альтернативу «коммерции», держались независимо и выступали за физическое и моральное оздоровление нации через массовое участие граждан в турпоходах. Предлагавшие развивать социальный туризм хотели сделать путешествия доступными для всех российских граждан, переориентировав туристскую индустрию с получения прибыли на выполнение социальных задач. Делается вывод о том, что набор воззрений в профессиональной среде 1990-х гг. со всеми ее надеждами и страхами во многом был задан идейным наследием советского времени.
Туризм, профессиональное сообщество, 1990-е гг., общественные настроения, культурный транзит, социальная история
Короткий адрес: https://sciup.org/147245195
IDR: 147245195 | УДК: 930.25:[[796:316.7]](470) | DOI: 10.17072/2219-3111-2018-4-124-133
Текст научной статьи Туризм в России в 1990-е годы: профессионально-экспертный дискурс
Россия в конце 1980-х–1990-х гг., ранее шедшая особым путем и слабо подверженная внешним влияниям, превращалась в страну, открытую для мира и принятия новых идей. В процессе этого выяснялось, что бывшим советским гражданам придется отбросить как ложные или серьезно скорректировать многие знания, ранее казавшиеся незыблемыми. Это было актуально и для работников сферы туризма, который в СССР имел ряд особых черт. Серди них выделяют общедоступность, стандартизированность и идеологизированность. Туризм имел большей частью спортивнооздоровительный, а не коммерческо-развлекательный уклон [ Лысикова , 2008. с. 58; Багдасарян и др., 2007]. Сложно устроенная система управления отдыхом постоянно страдала от противоречий между идеологией и стремлением заработать, между установкой на воспитание туристов и их желанием просто весело провести время. Кроме того, разнообразные практики путешествий советских граждан существовали помимо и вне официального туризма [ Gorsuch, 2011; Koenker, 2013; Turizm…, 2006].
В 1990-е гг. с появлением рынка произошел распад системы профсоюзного отдыха и централизованного контроля над отраслью. С крахом официальной идеологии свободными от политической составляющей стали и занятия туризмом. В этих условиях кардинальные изменения претерпевало также сообщество профессионалов в сфере туризма. Помимо ответственных чиновников в
центре и на местах, экскурсоводов и переводчиков, проводников и инструкторов в него вошли и быстро стали играть важную роль представители турфирм, преподаватели готовящих специалистов в этой области университетов, члены различных общественных объединений, журналисты профильных изданий. От этих людей не в последнюю очередь зависело, по какому пути будет развиваться туризм в России: сможет ли он стать высокоприбыльной отраслью хозяйства, как страна примет иностранных туристов и захотят ли они ее посетить, насколько отдых будет доступен российским гражданам, сохранятся ли специфически советские формы путешествий.
Это сообщество, как и в целом тема туризма в 1990-е гг., пока не стали объектом внимания историков. В профессиональной литературе, в основном имеющей справочный характер, при описании этого периода делается упор на влияние материальных факторов, общей экономической и политической обстановки [ Биржаков, 2008; Квартальное , 1998]. Исследователями был зафиксирован переход туризма после 1991 г. от специфически советской к рыночной модели [Долженко , 2011; История Туризма..., 2014, с. 233]. Но не ясно, как утверждалась новая концепция и сколько времени это заняло.
В связи с этим в данной статье исследуются групповые представления профессионального сообщества туристской отрасли в 1990-е гг. Обстановка требовала от него пересмотра накопленных за предшествующие десятилетия концепций и подходов, но не предлагала готовых решений. Поэтому необходимо рассмотреть, как феномен туризма, неоднозначный сам по себе, понимался в этих условиях, как оценивались его перспективы, по каким путям предлагалось развитие и какой эффект от него ожидался для экономики и общества в целом. Помимо общих воззрений необходимо выявить идеи, разделявшие профессиональное сообщество на группы. При этом предполагается зафиксировать случаи преемственности со старыми, свойственными советскому времени, установками.
Сделать это позволяют архивные документы. В фонде Правительства Российской Федерации (ГАРФ. Ф. 10200) отложились письма, прошения и справки. Документы Съезда народных депутатов и Верховного совета (ГАРФ. Ф. 10026), Федерального собрания РФ (ГАРФ. Ф. 10100) отражают процесс обсуждения законодательных актов. Ряд материалов удалось обнаружить в фондах архива Москвы (ЦГАМ. Ф. 3611. Комитет по туризму правительства города Москвы; Ф. Р-28. Концерн «Мостуризм»). Еще одним источником выступил выходивший в 1990-е гг. альманах для профессионалов «Туристские фирмы». Много информации содержат сборники научных трудов и материалы конференций.
Туризм как источник валюты
Одной из главных идей в рассматриваемой профессиональной среде в 1990-е гг. была основанная на данных Всемирной туристской организации оптимистичная оценка будущего индустрии. Предполагалось, что в мировом масштабе туризм быстро развивается и вскоре станет самой прибыльной отраслью экономики. Главным источником доходов от туризма в конце перестройки видели приезжавших в страну иностранцев, что нашло отражение в проекте постановления совета министров «Об организационно-экономической перестройке международных туристских связей СССР» (ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 163. Д. 1104. Л. 26-35). Но в начале 1990-х гг. въездной туризм пошел на спад, а в Министерстве культуры и туризма призвали взять курс «на возвращение человеческого достоинства бывшим советским людям»: ликвидировать ситуацию, когда иностранцы получали заведомо лучшее обслуживание [История Туризма..., 2014, с. 208].
Однако эта идея осталась невостребованной, а чиновники и теоретики продолжали надеяться на интуристов. Причиной было то, что основная масса российских граждан не имела средств для путешествий, а богатые предпочитали заграничный отдых. Чиновников беспокоил объем вывозимых туристами из страны денег, превращение России в «страну-донора» в системе международного туризма. Идея ограничения выезда россиян за границу ими не рассматривалась, и единственный способ изменить ситуацию виделся в увеличении числа иностранных туристов. Они продолжали отдыхать в лучших условиях, но даже за идентичные услуги платили больше российских граждан. Разные ценники чиновники объясняли тем, что «мы не повышаем цены для иностранных туристов, а лишь делаем скидку для отечественных и это наше право» (Туристские фирмы, 1996, Вып. 11, с. 77).
Показывая отношение к въездным туристам как источнику иностранной валюты, в туристской среде явно не рассчитывали отпугнуть текущих и будущих клиентов. Широкое распростране- ние получил тезис о том, что Россия имеет, как выразился на парламентских слушаниях 1999 г. заместитель председателя профильного комитета Госдумы, «колоссальные туристские возможности, которые даны ей Богом, историей и природой» (ГАРФ. Ф. 10100. Оп. 14. Д. 5432. Л. 17об.). Помимо отражающего количественную сторону дела эпитета «колоссальный» в речах и текстах не реже использовалось и говорившее о качестве слово «уникальный». В одних высказываниях иностранцам приписывался интерес России как к новому направлению, как «привлекательному, но недостаточно освоенному потенциальному экономическому пространству с огромными природными, уникальными в своем роде ресурсами» (ГАРФ. Ф. 10026. Оп. 4. Д. 474. Л. 58–59). В других случаях, напротив, с использованием цитат из «классиков» вроде Бернарда Шоу признавалось, что «Россия всегда была объектом повышенного интереса иностранных туристов» (Туристские фирмы, 1998, вып. 16, с. 122). Таким образом, желание иностранцев посетить страну не подвергалось сомнению.
Чаще всего слова «колоссальный» и «уникальный» применяли к понятию «туристический потенциал», который «не раскрыт» или «не используется». С точки зрения теоретиков туризма, в него входили не только природное и культурное наследие, но и уровень преступности в стране, состояние инфраструктуры, качество сервиса и другие явно проблемные для России 1990-х гг. составляющие. В числе причин небольшого объема въездного турпотока называли также отсутствие должной рекламы, государственной политики по созданию имиджа страны и его продвижению за рубежом. Некоторые были убеждены в том, что ряд западных СМИ ведут враждебную пропаганду, называя Россию «страной, неблагоприятной для туризма» (Туристские фирмы, 1988, вып. 16, с. 120–122).
Что касается материальных трудностей, то считалось, что они могут быть преодолены. В ходе парламентских слушаний 1996 г. ветеран индустрии, 25 лет занимавшийся строительством туробъектов, поделился впечатлениями от знакомства с инфраструктурой горнолыжного туризма во Франции: «Мы начали удивляться, неужели настолько мы хуже французов? Однако же элементарное изучения самого вопроса позволяет утверждать, что нисколько мы не хуже. Дай нашим предпринимателям льготные кредиты и создайте льготное налогообложение, значительно больше мы построим в том же Дамбае, Архызе или любом подобном ущелье» (ГАРФ. Ф. 10100. Оп. 14. Д. 5416. Л. 47–48).
В отдельных случаях возможность догнать и перегнать заграничные курорты считали сомнительной, поскольку неиспользуемый потенциал находили в «дикости» и «первозданности». В 1993 г. директор небольшой турфирмы в отзывах на законопроект указывал, что «в таких районах как Алтай, Тува, Таймыр, Забайкалье по подавляющей части маршрутов совершается всего 1–2 похода в год. Именно эта уникальная возможность и привлекает к нам интуристов. Зачастую именно потому, что на них не видно следов цивилизации» (ГАРФ. Ф. 10026. Оп. 4. Д. 477. Л. 102). Или, как отмечал член Академии туризма, «солнце, песок, море и горы» России конкуренцию составить не могут, но «это может оказаться и преимуществом, так как указанное классическое направление с избытком предлагается во всем мире и находится под жестким прессом конкуренции» (Актуальные вопросы..., 1995, вып. 1, с. 31).
Общему настроению отвечала идея о том, что «приходящиеся на долю России 1–1,5% мирового туристского потока, вероятно, адекватны туристским ресурсам страны». Высказавший ее член Академии туризма отмечал, что России уже не принадлежат центры советского туризма вроде Риги и Крыма, но «имперское мышление по-прежнему заставляет считать Россию обладательницей “колоссального туристского потенциала”» (Актуальные вопросы..., 1997, вып. 2, с. 40).
Подобные оценки не были широко распространены. Более того, считалось, что туристы приедут при любых условиях. Так, председатель Фонда спасения национального ландшафта на парламентских слушаниях 1996 г. упрекнула других выступающих в излишнем внимании к обсуждению «гостиниц и мерседесов»: «туристы приезжают сюда и всегда приезжали в Россию для того, чтобы насладиться ее (культурным) ландшафтом. И никаких других мотивов не было» (ГАРФ. Ф. 10100. Оп. 14. Д. 5416. Л. 72).
Сочетание представлений о высокой доходности туротрасли и уникальном туристическом потенциале России вело к появлению амбициозных экономических проектов. В обоснование советской концепции по развития иностранного туризма в РСФСР приводились расчеты, по которым уже с 1993 г. прибыль от него составит почти 6,5 млрд. долларов, а затем вырастет до 13,2 млрд. (ГАРФ. Ф. 10026. Оп. 4. Д. 474. Л. 4–41). В апреле 1993 г. Российский международный институт сообщал властям: «Наш национальный туризм может быстро ожить и приносить ежегодно до 3-4-х триллионов рублей» (ГАРФ. Ф. 10026. Оп. 4. Д. 477. Л. 88–90). Схожие прогнозы делал на слушаниях 1996 г. президент гостиничной ассоциации: «…Экономика России, экономика субъектов Федерации в значительной степени будет формироваться за счет туризма» (ГАРФ. Ф. 10100. Оп. 14. Д. 5416. Л. 58).
Считалось, что развитие туризма будет способствовать и общественному прогрессу. Для обоснования этой идеи в документах типичным было использование мотива «возрождения». В одних случаях подразумевалось преодоление последствий коммунистической диктатуры. Так, в начале 2000-х гг. в соглашении о сотрудничестве между Москвой и Петербургом рассматривалось «развитие туризма как один из путей восстановления духовности нации, посредством которого… воскрешаются церкви и музеи… расширяются их … контакты с мировой общественностью» (ЦГАМ. Ф. 3611. Оп. 2 доп. Д. 2. Л. 18). В других случаях, как в предложениях группы специалистов к ранее опубликованной Концепции развития туризма в России в 2000 г. скорее, имелся в виду крах государственности 1990-х: «с утратой духовности общества утрачена воспитательная и патриотическая функции туризма», в задачи которого входит «физическое и духовно-патриотическое оздоровление нации» (Туристские фирмы, 2000, вып. 22. с. 26, 32). Иногда, как в случае с обращением к властям в 1992 г. консорциума «Золотое кольцо России», мотивы «возрождения Российского государства», «становления собственной истории и открытия источников межнационального культурного общения» успешно дополняли друг друга (ГАРФ. Ф. 10200. Оп. 4. Д. 2407 Л. 25-28).
Туризм, по мысли современников, должен был влиять на мировоззрение людей, причем довольно непосредственно. Например, Туристско-спортивный союз России отмечал, что «сфера детско-юношеского, самодеятельного да и иных коммерческих видов туризма является сферой идеологического влияния на детей и молодежь», и предлагал ряд мер «в целях развития у них лучших качеств личности» (ГАРФ. Ф. 10100. Оп. 14. Д. 5411. Л. 44–45). Соответственно, туриста старались оградить от плохо влияющих на него «запретительных форм туризма». На слушаниях 1996 г. член Комитета по регламенту и организации работы Госдумы посвятил им часть своего выступления: «.. .Проходят собачьи бои или какие-то организовываются спортивные мероприятия, которые практически к спорту никакого отношения не имеют... Юго-запад земного шара знает о некоторых формах туризма, которые, с точки зрения морали, нравственности, не выдерживают никакой критики» (ГАРФ. Ф. 10100. Оп. 14. Д. 5416. Л. 30).
Желая получать прибыль от иностранных туристов, далеко не все в индустрии были готовы отбросить насаждаемые в советское время недоверие ко всему заграничному и откровенную шпиономанию [ Орлов, Попов, 2008. с. 409-423]. В 1996 г. представитель ассоциации «Безопасность предпринимательства и личности» заявил, что «канал туризма всегда использовался наркомафией, оргпреступностью, контрабандистами, спецслужбами, террористическими организациями и т.д. Поэтому кроме безопасности туристов есть еще безопасность (национальная, государственная, общественная) от лже-туристов» (ГАРФ. Ф. 10100. Оп. 14. Д. 5416. Л. 84-84об.). Подобные высказывания часто имели откровенно лоббистский характер, но выбранная риторика считалась адекватной и логичной. Так, ассоциация гидов-переводчиков и турменеджеров в 1993 г. пыталась убедить власти, что «гид-иностранец не будет заинтересован в объективном отражении российской действительности <...> Гид-иностранец - прекрасный канал для проникновения всего, чего угодно, - от оружия до наркотиков» (ГАРФ. Ф. 10026. Оп. 4. Д. 477. Л. 116).
Быстро и уверенно развивающийся в стране турбизнес видел в иностранных фирмах однозначную угрозу. Первый российский туристский конгресс, собравшийся в 1998 г. в Сочи и заявивший о вкладе турбизнеса в бюджет в 10%, просил государство ограничить деятельность иностранных турфирм в России [ Долматов , 2001. с. 219]. За счет критики последних утверждался собственный достойный статус: «…Ни один иностранный туроператор не пришел в Россию, чтобы привозить туристов сюда. Все работают только на вывоз наших туристов, т.е. на вывоз капитала. Мы, так сказать, сами, слава Богу, не лаптем щи хлебаем. Моей организации (Интуристу. - А.Л. ) 66 лет. Можем делать это и не хуже» (ГАРФ. Ф. 10100. Оп. 14. Д. 5416. Л. 65). Предложения сотрудничать, например, чтобы «использовать и этот канал для проведения необходимой рекламы», были редки (Туристские фирмы, 1998, вып. 16, с. 121).
Часто проявлялось нежелание следовать мировым трендам. Показательна реакция на общепринятое в индустрии понятие «туристский ваучер». В 1990-е гг. при обсуждении законопроектов предлагалось убрать «это безродное, со столькими значениями чужое слово. Все назвать своими, русскими (по крайней мере) словами». Мотивировалось это как необходимостью «очищения родной речи», так и намеками на критику приватизации: «Не хочу вспоминать бесноватого фюрера, который говорил, что когда он слышит одно слово, рука его тянется к пистолету<…> можно поискать (аналоги. – А.Л.), поразмышлять, но зачем дразнить гусей?» (ГАРФ. Ф. 10026. Оп. 4. Д. 477. Л. 6, 16, 44; Ф. 10100. Оп. 14. Д. 5416. Л. 16–21).
Туризм как духовная суть страны
При работе с источниками не сразу становится ясно, что во многих высказываниях имелся в виду не общепринятый сегодня «коммерческий», а особый, так называемый самодеятельный, вариант туризма. В СССР этим термином обозначали имевшие физкультурно-оздоровительный характер самостоятельные походы на природу. Отдельно выделялся спортивный туризм по специальным маршрутам с получением разрядов.
Объединение разных явлений одним термином «туризм» создавало определенные сложности для развития индустрии. Как отмечали современники, в 1990-е гг. «понятие “туризм»” чаще ассоциируется в России со спортом и укреплением здоровья, чем с отраслью экономики, приносящей значительные доходы» [ Сапрунова , 1998. с. 4]. Представители спортивного туризма могли пользоваться таким смешением понятий. В этом случае в полемике о юридическом регулировании отношений купли-продажи использовался такой аргумент: «Наверное не меньше вас разбираюсь в туризме. Я 36 лет ходил в походы, работал сам инструктором туризма и готовил инструкторов туризма». В других ситуациях они, напротив, говорили о спортивном туризме так, будто других видов путешествий (вроде осмотра достопримечательностей или курортов) просто не существует: «Это фактически фундаментальная наука туризма, которая создает снаряжение, маршруты, кадры, тактику, технику, стратегию и так далее» (ГАРФ. Ф. 10100. Оп. 14. Д. 5416. Л. 35; Д. 5428. Л. 44).
Выбравших пляжный отдых самодеятельные туристы всегда называли «лежаками», отдыхавших «у речки с котелком» горожан – «чайниками», а оставлявших после себя мусор – «варварами» и «лжетуристами». В 1990-е гг. спортивные и самодеятельные туристы продолжали утверждать свою инаковость и обосновывать преимущества перед другими видами отдыха. В статьях вроде «Культурные ценности самодеятельного туризма» рассказывалось, как каждый этап подготовки и проведения похода положительно влияет на туриста и приносит пользу обществу. Доказывалось, что «чем ближе занятия туризмом к спортивному стилю, тем меньше случаев варварского отношения к природе», тогда как остальная индустрия туризма работает на «создание комфортности отдыхающим за счет определенного воздействия на природу» [Проблемы и программы..., 1995, с. 78–79].
Акцентирование собственной особости сопровождалось утверждениями об уникально широком распространении самодеятельного туризма в советское время. Доказывалось, что спортивносамодеятельный туризм, как выразился на парламентских слушаниях 1998 г. президент Туристско-спортивного союза, «специфичен для России… специфичен для СССР. Специфичен, может быть, для дореволюционной России, потому что это, я думаю, есть продолжение землепроходцев, продолжение, так сказать, выражения своего "я", своей идеи, поиска новых маршрутов». На слушаниях 1996 г. это явление представлялось им важной частью уже современности: «это духовная суть нашей страны», «духовные и физические легкие страны» (ГАРФ. Ф. 10100. Оп. 14. Д. 5428. Л. 44; Д. 5416. Л. 59–63).
Развернуто роль самодеятельного туризма в развитии российского общества была описана в 1998 г. авторами законопроекта «О социальном туризме». В нем говорилось, что «самодеятельный туризм способствует формированию физически здорового, гармонично развитого человека, сознательного члена коллектива и общества, патриота и интернационалиста», а «молодежь в походах готовится к трудовой деятельности и военной службе, вырабатывает ценные прикладные навыки, включая навыки поведения при аварийных и стихийных бедствиях». Не имея претензий к сказанному. Туристско-спортивный союз раскритиковал остальной текст. В нем он увидел проталкивание частных интересов и угрозу поддержки за государственный счет «элитного международного туризма» (ГАРФ. Ф. 10100. Оп. 14. Д. 5411. Л. 12–13; Д. 5412. Л. 57).
Вместе с тем, как представляется, спортивные туристы не занимали жесткой антирыночной позиции. В 1990 г. редакция журнала «Турист» смотрела в будущее оптимистично и внушала читателям: «Пройдет еще год-два, и рыночные отношения окончательно ликвидируют все дотации на самодеятельный туризм. Так не пора ли нам учиться жить самостоятельно, смелее вкладывать деньги в походы, привлекать спонсоров, быть может, даже сделать любимое занятие своей профессией?» (Пора стать самостоятельными, 1990, № 12, с. 5). И в дальнейшем, признавая значение государственных дотаций, самодеятельные туристы особо на них не рассчитывали. Как утверждал Туристско-спортивный союз в 1998 г., «мы как получали в доперестроечные годы в 40 раз меньше, чем плановый профсоюзный туризм, средств на свое развитие, так и будем сидеть и ждать попутного ветра государственного соучастия в делах, на самом деле требующих поддержки» (ГАРФ. Ф. 10100. Оп. 14. Д. 5412. Л. 57).
Противопоставляя свой вариант путешествий коммерческим формам туризма, самодеятельные туристы не выступали за возврат к старым порядкам, но старались лишний раз подчеркнуть свою особость, независимость и самодостаточность. Это хорошо видно на примере требований отдельного законодательного регулирования на слушаниях 1996 г.: «Вообще законопроект очень, к сожалению, напоминает инструкцию для коммерческой крупной фирмы. Это нужно. Это очень важно. Впервые существует такое положение. Но вы знаете, ведь кроме этого существует еще огромное самодеятельное движение». С этим же стоит связать жалобы на «повальный процесс, когда туристам, особенно самодеятельным, при пересечении разных кордонов или, когда они приходят на территорию, навязываются различные услуги, которые они брать не хотят» (ГАРФ. Ф. 10100. Оп. 14. Д. 5416. Л. 59–63).
Туризм как конституционное право
Помимо самодеятельного и коммерческого в 1990-е гг. в центре дискуссий находился социальный туризм – путешествия социально незащищенных слоев населения, частично или полностью оплачиваемые государством. В конце 1980-х гг. в СССР на долю социального туризма приходилось более 80% всего национального туристского оборота (Туристские фирмы, 1996, вып. 11, с. 20). В 1990-е гг. его масштабы резко сократились. В сопроводительных документах к законопроекту 1998 г. «о социальном туризме» этот период описывали как стадию «разлома, разграбления, отторжения», когда социальный туризм стал «придатком к коммерциальным интересам отдельных корпораций и ассоциаций» (ГАРФ. Ф. 10100. Оп. 13. Д. 3412. Л. 39).
Сторонники приоритетного развития социального туризма в 1990-е гг. имели особый взгляд на будущее туриндустрии в стране. Свою правоту они доказывали со ссылкой на ряд международных актов и Конституцию, объявлявшую Россию социальным государством. В законах они, как авторы одного из проектов 1993 г., предлагали прописать, что «государство ответственно перед гражданами за обеспечение условий для общедоступности туризма и путешествий» (ГАРФ. Ф. 10026. Оп. 4. Д. 475. Л. 104). Их не устраивало, как выразился ректор одного из университетов в 1998 г., что обсуждавшиеся законы «имеют сильный крен в сторону от самого важного – от социальной направленности нынешней России, как государства трудящихся и для трудящихся, а не государства коммерции для коммерции, при том, что оно рыночное <...> Туризм мы относим к службе, как говорится, социальной» (ГАРФ. Ф. 10100. Оп. 14. Д. 5416. Л. 49).
Выбор этого вида туризма для приоритетного развития обосновывался его высоким гуманистическим значением и, как ни странно, доходностью. В одной из статей утверждалось, что «именно кризисное состояние общества требует развития социального туризма», так как «будет способствовать переориентации большинства населения на иные социальные и политические ценности, смягчению социальной напряженности. Экономический эффект от социального туризма несопоставимо выше финансовых затрат на его развитие и может быть достигнут уже в ближайшие два-три года» [Проблемы и программы..., 1995, с. 7]. Схожие аргументы звучали с трибуны и во время публичных слушаний в Государственной Думе Российской Федерации.
Продвижение этих идей сопровождалось проявлением оппозиционности крайне левого, ан-тирыночного и антиглобалистского толка. В ходе дискуссий можно было услышать обвинения в стремлении «лишить трудящихся массовости и доступности туризма» или утверждения, согласно которым профсоюзные лидеры «ведут переговоры как в Америке, так и в других странах Европы… по развалу единства рабочего движения России». Использовались выражения вроде «финансовотуристская олигархия». Большие опасения вызывал перевод старых объектов туризма на коммерческую основу: «если бизнес не позволяет заниматься туризмом, там будет игорный дом, рулетка или что угодно». Некоторые участники дискуссий пытались мягко намекнуть сторонникам социального туризма, что они находятся в заложниках советской концепции, когда понятия «социальный» ту- ризм и «внутренний» туризм были синонимами, поэтому теперь предвзято считают весь несоциальный туризм обязательно элитарным, связанным с поездками за границу или приемом богатых иностранных гостей (ГАРФ. Ф. 10100. Оп. 14. Д. 5428. Л. 16, 28–29, 45, 47, 73–74).
В противопоставлении себя коммерческому пути развития социальный туризм был схож со спортивным. Формально второй считался составной частью первого, и часто их интересы совпадали. В 1996 г. депутат Госдумы и спортивный турист писал, что «главное в деятельности туристических организаций – создание условий гражданам, и в первую очередь не богатым гражданам, путешествовать, познавать свою страну, заниматься спортивным туризмом, а потом уже как следствие этого предпринимательство<…> весь закон пропитан духом коммерции. В то время как он должен способствовать возрождению отечественного туризма в границах Российской Федерации, привлекая иностранцев, а не вывозя россиян в массовом порядке за границу» (ГАРФ. Ф. 10100. Оп. 14. Д. 5402. Л. 15, 44).
Однако сторонники социального туризма в своих антирыночных убеждениях заходили куда дальше «спортсменов». Это видно по выдвигаемым ими законопроектам. Знакомство с двумя рабочими вариантами закона о туризме 1993 г. оставляло «ощущение, что один больше направлен на социальный туризм, другой – на коммерческий» ( Клименок , 1993, № 3–4, с. 12). В 1998 г. была предпринята попытка принять отдельный закон о социальном туризме, который долго готовился и тяжело проходил стадии согласования. Несмотря на уверения авторов в его доходности, главный вопрос возникал именно об источниках финансирования. Ведь планировалось ввести в строй 10 тыс. заброшенных объектов и сделать туризм доступным для 90 млн. граждан. Единственным способом получить для этого необходимые средства авторы законопроекта в итоге посчитали обложение коммерческого туризма специальными налогами (ГАРФ. Ф. 10100. Оп. 13. Д. 3135. Л. 3, 9, 10).
Однако, несмотря на специфичную риторику и претензии получить финансирование за счет остальных участников рынка, идеи развития социального туризма почти всегда встречали сочувствие. Убеждение в том, что туризм должен быть доступен всем гражданам России, было широко распространено. Как отмечалось в 1998 г., «определенное отношение к туризму генетически закреплено до сих пор бытующим представлением о нем как о сфере социальной, принадлежащей то ли профсоюзам, то ли физкультурникам, то ли системе здравоохранения, то ли вообще неизвестно кому» (ГАРФ. Ф. 10100. Оп. 14. Д. 5428. Л. 137 об.). При изменении устава такой коммерческой структуры, как концерн «Мостуризм», в сентябре 1992 г. «все члены правления согласились с тем, что в Уставе надо более четко отразить вопросы социальной направленности», а некоторые подчеркнули, что «это была изначальная задача» организации (ЦГАМ. Ф. Р–28. Оп. 3. Д. 841. Л. 133). Другие участники рынка, например, Российская ассоциация социального туризма, в 1992 г. считали возможным апеллировать к социальной значимости своей работы для получения дотаций и льгот: «Проводимая туристско-экскурсионная работа… способствует оздоровлению той части населения, которая в настоящее время находится за чертой бедности» (ГАРФ. Ф. 10200. Оп. 4. Д. 2407. Л. 4–5).
Жесткая критика самой идеи необходимости льготного туризма была скорее исключением, чем правилом. Большинство вряд ли могло согласиться с высказанным на слушаниях 1996 г. мнением директора турфирмы о том, что «если мы его внесем [социальный туризм] в закон, это будет означать, что мы закрепляем на многие годы и десятилетия наличие “неимущих” граждан, иждивенцев и, таким образом, нищую страну» (ГАРФ. Ф. 10100. Оп. 14. Д. 5416. Л. 93об.). Критики законопроектов о приоритете социального туризма разделяли мнение о необходимости его развития, сомнению подвергались лишь пути достижения цели. «Туризму для нищих», т.е. такому, когда социальные туристы получают услуги заведомо плохого качества, предлагались альтернативы (ГАРФ. Ф. 10100. Оп. 14. Д. 5416. Л. 47; Туристские фирмы, 2001, вып. 23, с. 159). Давалось понять, что уделить больше внимания социальному туризму государство не может ввиду тяжелой экономической ситуации. В заключении слушаний 1996 г. председатель подытожил: «Что впереди: человек или сфера бизнеса? Вы знаете, я бы так не делил все-таки. Потому что, если не будет доходов, то куда человеку-то деваться?» (ГАРФ. Ф. 10100. Оп. 14. Д. 5416. Л. 72, 77).
***
В 1990-е гг. под термином «туризм» скрывались три вида путешествий. Связанные с каждым из них профессионалы тяготели к специфичному набору ценностей и приоритетов, к особым оценкам прошлого и видению будущего туризма в стране. Коммерческий вариант развития был определенным новаторством и имел курс на получение прибыли через интеграцию России в систему ми- рового туризма. В качестве альтернативы предлагалось развитие спортивно-самодеятельного туризма. Его сторонники подчеркивали отличие от «коммерческого» развития, а смысл своей работы видели в физическом и морально-нравственном развитии нации. Консервативным видом был туризм социальный, предполагавший реставрацию советской системы массового дешевого отдыха.
Сторонники каждого из направлений развития туризма претендовали не только на полное понимание «своего» туризма, но и на истинное знание об остальных его видах. Часто, представляя один вариант туризма, к нему сводили все многообразие форм организации отдыха. Различия игнорировались, а свои ценности и критерии представлялись универсальными. Обосновывая подчинение остальных интересам своего развития, сторонники каждого из видов туризма стремились сохранить свою обособленность и уникальность. Интеграции на основе рыночных отношений трех видов в 1990-е гг. не случилось, но не произошло и отмежевания какого-то из них от понятия «туризм». Семантическая неопределенность термина сохранялась, подпитывая представления разных сообществ о том, что именно их вид туризма является наиболее правильным.
Несмотря на различие подходов разных групп к проблемам развития индустрии, есть основания говорить о едином профессиональном сообществе. Идеи общедоступности и спортивности туризма были широко распространены и в «коммерческой» среде, в то же время никто не строил планов без расчета на доходность социальных или спортивных туробъектов. Большинство участников дискуссий разделяли представление об обязательно гуманистическом характере путешествий. Развитие личности туриста и созерцание культурно-исторических ценностей обсуждались куда чаще, чем приносящие львиную долю доходов в турбизнесе пляжные курорты. Другим общим местом была убежденность в уникальности и значительности туристического потенциала России. В большинстве случаев диспуты вызывал лишь вопрос о приоритете тех или иных ценностей.
Идейное поле внутри туристской индустрии во многом определялось недавним прошлым. Советское проявляло себя в опасениях «иностранцев-шпионов», в противопоставлении внутреннего и выездного туризма, в идее воспитательной функции путешествий. Представление о потенциальном лидерстве в новой для страны области мирового туризма за счет уникального потенциала психологически компенсировало утрату старых поводов для гордости. Оно позволяло продолжать считать Россию самой богатой в мире, пусть только в перспективе. Идеи вроде общедоступности туризма или оздоровления нации через турпоходы в документах советского времени воспринимаются как ритуальные фразы. Но в 1990-е гг. они не только не были отброшены, но и на их основе строились экономические расчеты и формировались профессиональные группы.
Таким образом, советские традиции, включая объединение термином «туризм» нескольких слабо связанных друг с другом явлений, продолжали оказывать значительное влияние на мировоззрение и деятельность профессионального сообщества и в 1990-е гг.
Список литературы Туризм в России в 1990-е годы: профессионально-экспертный дискурс
- Багдасарян В.Э., Мазин К.А., Орлов И.Б., Федулин А.А., Шнайдген Й.Й. Советское Зазеркалье. Иностранный туризм в СССР в 1930-1980-е гг.: Учеб. пособие. М.: Форум, 2007. 255 с.
- Биржаков М.Б. Введение в туризм. СПб.: Изд. дом Герда, 2008. 576 с.
- Долженко Г.П. Термины «туризм» и «турист» в русской лексике: хронологический аспект // Географический вестник. 2011. № 4. С. 74-77.
- Долматов Г.М. Международный туристский бизнес: история, реальность и перспективы. Ростов н/Д.: Феникс, 2001. 317 с.
- История Туризма: учебник для студентов вузов / отв. ред. и сост. Ю.С. Путрик. М.: Федерал. агентство по туризму, 2014. 254 с.
- Квартальнов В.А. Туризм: теория и практика // Избр. тр. в 5 т. М.: Финансы и статистика, 1998. Т. 1. 188 с., Т. 2. 252 с., Т.3. 378 с., Т. 4. 306 с., Т.5. 243 с.
- Лысикова О.В. Социокультурные практики туризма: социологический анализ. Саратов: Саратовский государственный технический университет, 2008. 134 с.
- Орлов И.Б., Попов А.Д. Сквозь «железный занавес». See USSR! Иностранные туристы и призрак потемкинских деревень. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. 485 с.
- Проблемы и программы туристско-рекреационного использования природного и историко-культурного потенциала в регионах России: Сб. науч. тр. / отв. ред. и сост. Ю. С. Путрик. М.: Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия, 1995. 168 с.
- Сапрунова В.Б. Туризм: Эволюция. Структура. Маркетинг. М.: Ось-89, 1998. 159 с.
- Gorsuch A. E. All This Is Your World: Soviet Tourism at Home and Abroad after Stalin. Oxford: Oxford University Press, 2011. 222 p.
- Koenker D. P. Club Red: Vacation Travel and the Soviet Dream. New York: Cornell University Press: 2013.328 p.
- Turizm: The russian and east european tourist under capitalism and socialism / Ed. by A.E. Gorsuch, D.P. Koenker. New York: Cornell University Press, 2006. 313 p.