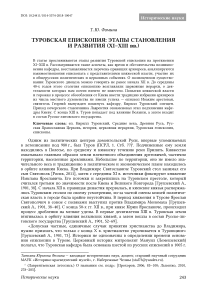Туровская епископия: этапы становления и развития (XI–XIII вв.)
Автор: Т. Ю. Фомина
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 2 (79), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье прослеживаются этапы развития Туровской епископии на протяжении XI–XIII в. Рассматриваются такие аспекты, как время и обстоятельства возникновения кафедры, восстанавливается перечень правящих архиереев, анализируются взаимоотношения епископата с представителями княжеской власти, участие их в общерусских политических и церковных событиях. О полноценном существовании Туровского диоцеза можно говорить не ранее начала XII в. До середины 40-х годов этого столетия епископию возглавляли церковные иерархи, о деятельности которых нам почти ничего не известно. Попытки княжеской власти и горожан в процессе обособления от Киева ввести традицию избрания архиереев из числа местного духовенства не имели успеха — епископ Иоаким арестован, святитель Георгий вынужден покинуть кафедру, Кирилл Туровский смещен. Приход печерского ставленника Лаврентия ознаменовал этап подчинения кафедры Киеву. С конца XIII в. Туров попадает под влияние Волыни, а затем входит в состав Русско-литовского государства.
Еп. Кирилл Туровский, Средние века, Древняя Русь, Русская Православная Церковь, история, церковная иерархия, Туровская епископия, епископы.
Короткий адрес: https://sciup.org/140223400
IDR: 140223400 | DOI: 10.24411/1814-5574-2018-10047
Текст научной статьи Туровская епископия: этапы становления и развития (XI–XIII вв.)
Одним из политических центров домонгольской Руси, впервые упоминаемых в летописании под 980 г., был Туров (ПСРЛ, 1. Стб. 77)1. Подчиненные ему земли находились в Полесье, по среднему и нижнему течению реки Припять. Княжество охватывало главным образом земли племенного объединения дреговичей, частично территории, населенные древлянами. Небольшое по территории, оно не имело значительного веса и традиционно в политическом и экономическом плане находилось в орбите влияния Киева. При Владимире Святославиче Туровский стол занимал его сын Святополк [Росик, 2011], затем с середины XI в. источники фиксируют княжение Изяслава Ярославича. Его потомки и закрепились на Туровском престоле, который считался третьим по значимости после Киева и Великого Новгорода [Грушевский А., 1901, 38]. С начала XII в. правящая династия прервалась, и киевские князья распоряжались Туровским столом по своему усмотрению, из-за частой смены князей политическая власть в городе была крайне неустойчива. В период княжения в Турове Ярослав Святополчич в союзе с поляками выступил против Владимира Мономаха [Грушевский А., 1901, 38–40]. С конца 50-х гг. XII в., при князе Юрии Ярославиче, происходил процесс дробления на мелкие уделы. В первые десятилетия XIII в. Туровская земля втягивалась в орбиту влияния волынских князей, а затем вошла в состав Русско-литовского государства [Грушевский А., 1901, 52–69].
«Допуская частные, единичные случаи принятия христианства до Владимира, нужно признать, что только с конца X в. христианство упрочивается в Туровщине» [Грушевский А., 1901, 73]. Историки не однозначны в определении времени основания епископии в Турове. Церковный историк митрополит Мануил (Лемешевский) полагал, что Туровская кафедра была основана шестой из русских епископий в 1005 г.
[Лемешевский, 2002, 3, 457]. В комментированных списках русских первоиерархов, подготовленных под руководством П. Н. Грюнберга, она помещена под № 7, время основания — 1005 (1072) г. [Грюнберг, 2006, 908]. В порядке возникновения архиерейских центров А. Поппе определяет Туров под № 9 и датирует это событие временем ок. 1088 г. [Поппе, 1996, 443–445].
Иная ситуация складывается при анализе исторических источников. В списке Церквей Константинопольского патриархата Туровская кафедра помещена под № 8 [Бибиков, 2010, 248] В перечне русских епископий в Новгородской первой летописи туровский диоцез вовсе отсутствует (НIЛ, 2001, 164). Однако прямые указания на время основания кафедры содержатся в уставной грамоте «Туровской епископии завет блаженного Владимира», помещенной в Киевском патерике редакции архимандрита Иосифа (Тризны). Данный источник, известный в единственном списке XVII в., несмотря на многочисленные упоминания, был введен в научный оборот и обстоятельно изучен Я. Н. Щаповым [Щапов, 1965]. Возникновение Туровской епископии, согласно тексту документа, датируется 6513 (1005) г. [Щапов, 1965, 254] и определяется как третье, вероятно, после Киевской и Новгородской2. Данный документ позволяет реконструировать территорию сформированного округа, включающего «Пинск, Новгород, Городен, Слоним, Берестеи, Волковыеск, Здитов, Небле, Степан, Дубровица, Высочко, Случеск, Копыл, Ляхов, Городок, Смедянь» (Щапов, 1965: О поставлении , 271–272). Однако указанные границы епископии вряд ли отражали реалии начала XI в., т. к. по времени создания текст Устава можно отнести самое раннее к концу XIII в. [Щапов, 1965, 254].
Первым епископом Турова грамота называла святителя Фому [Щапов, 1965, 258] и одновременно сообщала об установлениях по материальному содержанию кафедры: «и придах села, винограды, земли бортные, волости со всеми придатки, озера, реки, тако и в мыте, и на торгу, и на перевозах десятую неделю, десятыи пеняз и от жита десятая копа святому Спасу и святеи Богородицы по всем городом, по всеи епископии, занеже се урядих и уставих в первых» (Щапов, 1965: О поставлении , 272). Установление десятины в пользу соборной церкви Турова во имя Успения Пресвятой Богородицы и церкви Спаса Преображения, известной нам по туровскому Евангелию XI в. [Щапов, 1965, 257], следует рассматривать как необходимость «письменно зафиксировать источники материального обеспечения Туровской епископии и права на них на основе установлений Владимира» [Щапов, 1965, 256]. А сама уставная грамота была ничем иным, как записью «местного обычая, сложившегося во взаимоотношениях княжеской и церковной власти» на протяжении веков, фиксирующей «конкретные формы обеспечения епископии» [Щапов, 1965, 262].
Следует констатировать активную роль княжеской власти в формировании церковной инфраструктуры. Так, в период княжения в Турове князя Святополка Изяславича (1088–1093) им была построена церковь во имя своего ангела св. Михаила, которая стала родовой усыпальницей Изяславичей, вторая жена Святополка гречанка Варвара († ок. 1124), по преданию, основала женский монастырь во имя своей святой покровительницы [Грушевский А., 1901, 37].
К истории основания епископии в Турове также нередко относят и летописное известие в Лаврентьевском своде под 1114 г. «Том же лете поставиша Кирила епспмъ мсца нояб въ s днь» (ПСРЛ, 1. Стб. 290). Следует согласиться с мнением Е. Е. Голубинского о том, что данное сообщение никоим образом не указывает на принадлежность Кирилла к Туровской кафедре [Голубинский, 1901, 680].
В труде архим. Николая (Трусковского), изданном в 1864 г., первым Туровским архиереем называется святитель Симеон. Перечень Туровских епископов в данном исследовании выглядит следующим образом: Симеон, Игнатий, Иоаким 1-й, Георгий, Кирилл 1-й с 1114 по 1120 г., Иоаким 2-й с 1144 г., Иоанн с 1146 г., Кирилл 2-й (проповедник), Лаврентий [Трусковский, 1864, 51]. Предложенная автором реконструкция находит подтверждение в исторических источниках. Имена святителей первой половины XII в.: Симона, Игнатия, Иоакима и Георгия, также восстанавливаются на основании сообщений «Слова о Мартине монахе, что пребывал в Турове»3, к сожалению, без точного указания времени святительства. Все это позволяет сделать вывод об устойчивости функционирования Туровской кафедры, обеспечении преемственности архиерейской власти в диоцезе, тем более археологические данные свидетельствуют, что к этому времени христианская обрядовая практика утверждается на территории княжества, в том числе в погребениях [Прав. Энц., 4, 457–503].
М. Д. Приселковым относительно личности первого из названных в «Слове о монахе Мартине» епископов — Симеона, была высказана крайне любопытная точка зрения. Сличение списков русских архиереев 20-х гг. XII в. привело исследователя к предположению, что Симеон не был самостоятельным Туровским епископом: Туров в это время, по его мнению, перешел под управление Симеона Владимирского, поставленного «по смерти Амфилохия в 1123 г. на Владимирскую епископию» [Приселков, 1913, 349], т. к. произошел «передел епархий, стянувший все земли Мономаха (кроме Киева и Новгорода) в две епископии» — Владимирскую и Переяславскую. [Приселков, 1913, 334, 337]. Это привело к утрате Туровской кафедры на карте Киевской митрополии. Следовательно, Симеон был первым Владимирским епископом, в подчинении которого находился Туров. Согласно гипотезе М. Д. Приселкова, лишь после смерти в 1136 г. Симеона Владимирского кафедра вновь обрела самостоятельность и во главе ее митрополитом Михаилом был поставлен святитель Игнатий [Приселков, 1913, 348–350]. Данная точка зрения имеет под собой определенные основания, но признать ее безусловно верной источниковая база не позволяет.
На период служения епископа Игнатия, вероятно, приходится разорение Турова монгольскими войсками, судьба архиерея при этом неизвестна. К 1142 г. относится запись о посажении на Туровский стол князя Святослава Всеволодовича (ПСРЛ, 1. Стб. 311), затем на нем закрепляется Вячеслав Владимирович, благодаря усилиям которого два года спустя, в 1144 г., сообщается о поставлении городу епископа Иоакима (Акима/Якима) (ПСРЛ, 2. Стб. 315). Это первое упоминание архиереев Турова в летописании. Рукоположение Иоакима имело особое значение для Туровской кафедры, так как, насколько позволяет судить содержание исторических источников, это первая известная нам попытка политической элиты Турова ввести традицию избрания архиереев из числа местного духовенства. Однако служение еп. Иоакима было недолгим. В 1146 г. он вместе со знатью Турова и посадником был взят в плен киевским князем Изяславом Мстиславичем, который «исковавъ приведе» их в Киев (ПСРЛ, 1. Стб. 315). Как верно отметил П. И. Гайденко, «история ещё не знала подобного обращения с местным епископом со стороны светских лиц и Рюриковичей» [Гайденко, 2014б, 130– 131]. Сложившаяся ситуация связана с позицией, которую занял еп. Иоаким в споре за Киевский стол между Изяславом Мстиславичем и его дядей Вячеславом Владимировичем, княжившим в Турове [Гайденко, 2014б, 130]. Епископ был убежденным сторонником старейшинства Вячеслава Владимировича и его прав на великокняжеский престол, что и стоило ему кафедры. Сложившиеся обстоятельства свидетельствуют о все возрастающем значении епископской кафедры для политического статуса Туровского княжества [Тихомиров, 1956, 230].
Так, согласно археологическим данным, к XII в. относится строительство в Турове каменного храма, возможно — кафедрального, по своим размерам уступавшего в Древней Руси лишь Софии Киевской и Софии Новгородской [Прав. Энц., 4, 457– 503], что позволяет говорить о значительном материальном положении кафедры. Туровский епископ «обладал правом получать мыто, собираемое во время городской ярмарки на Петров день» и «иные доходы от купцов», в том числе пошлины от использования мер и весов, зафиксированные, в том числе, в Великом Новгороде, также письменно закреплено особое право архиерея на изготовление и продажу меда [Щапов, 1965, 260–262].
Возникает вопрос и о месте пребывания правящих Туровских архиереев. В упоминаемом выше источнике «Слово о Мартине мнисе, иже бѣ в Туровѣ…», говорится о том, что больной монах пребывает в «въ епискупли манастыри» (БЛДР, 12: Слово о Мартине монахе ). М. С. Грушевский полагал, что имеется в виду Борисоглебский монастырь, основанный, вероятно, «во времена Ярослава» [Грушевский М., 1905, 2, 305]. Данное указание может быть расценено по-разному — Туровский архиерей мог быть как основателем, одновременно игуменом данной обители, так и использовать ее в качестве резиденции4. Последней точки зрения придерживался Е. Е. Голубинский [Голубинский, 1901, 680–681].
После ареста в 1146 г. еп. Иоакима Туровская кафедра, вероятно, пустовала. Со второй половины 50-х гг. XII в. происходит обособление Турова под властью князя Юрия Ярославича, в Турове закрепляются и его потомки. К периоду их княжения относится святительство епископа Георгия. Имя этого архиерея известно нам благодаря сочинению монаха Мартина, которого он отправил на покой с должности епископского повара (БЛДР, 12: Слово о Мартине монахе ). Годы служения еп. Георгия Туровского в источниках не обозначены. Со ссылкой на авторитет Н. Н. Дурново, в историографии принято считать, что архиерей вступил на кафедру в 1167 г. и по непонятным причинам покинул ее в 1169 г. [Дурново, 1888, 29]. Анализ ситуации 30–60 гг. XII в. позволил П. И. Гайденко сделать вывод о том, что в этот период наблюдается тенденция к установлению «контроля над епископскими кафедрами со стороны городских общин». Таким образом, есть основания полагать, что уход еп. Георгия с кафедры был связан с существенными разногласиями с местной знатью «по каким-то церковным или церковно-политическим вопросам» [Гайденко, 2014б, 135].
Так или иначе, предполагается, что около 1169 г. еп. Георгий оставил кафедру, т. к. к этому времени относится принятие архиерейского сана одной из ключевых в истории Туровской епископии фигур — святителем Кириллом [Грушевский А., 1901, 75]. Избран он был из среды местного духовенства «молением» князя и горожан, происходил из богатого и уважаемого в Турове рода ( Житие Кирилла Туровского , 1907, 62–64).
Кирилл Туровский известен как проповедник, публицист, одним из ключевых его сочинений является «Притча ο человеческой душе и теле», более известная как «Повесть ο слепце и хромце». Посредством аллегорий еп. Кирилл рассуждает о взаимоотношениях церковной и светской власти, в своем повествовании подразумевая конкретных современных ему персонажей, а именно обличает ересь самозванного епископа Федорца и поддерживавшего его Андрея Боголюбского [Мильков, 2016, 38]. Образ князя Андрея Юрьевича крайне нелицеприятен: «„Хром я и не могу войти внутрь“, — и так перехитрим мы нашего господина и сами получим плату за свою работу». И сел хромец на слепца, и, войдя внутрь виноградника, обокрали все бывшее там добро господина своего» (БЛДР, 4: Притча Кирилла-монаха). Для архиерея подобные образы в отношении представителя княжеской династии были, несомненно, дерзостью, но это не сказалось на статусе и положении еп. Кирилла. Кроме того, сочинения архиерея были адресными, и то, что «Андрей Юрьевич проявлял интерес к посланиям туровского епископа, указывает не только на высокий духовный авторитет святителя, но и на существование неких общих интересов или взглядов между епископом и владимирским князем» [Гайденко, 2014б, 135; Гайденко, Филиппов, 2011, 106–116; Гайденко, 2014а, 93–114].
Глубокое осуждение в притче дается действиям Феодорца: «никто, страх Божий имея, плотским не прельстится, никто из искренне верующих незаконно не пытается получить сана — никто… Но так же вошел, как и этот церковник, недостойный священства и утаивший грех свой, пренебрег Божьим заветом, но ради высокого сана и славы земной взошел на епископский стол… высокомерная заносчивая хвастливость в захвате сана не по-Божьи» (БЛДР, 4: Притча Кирилла-монаха ). Однако, обличая Андрея Боголюбского и Феодорца в разграблении богатств Церкви, небрежении к церковным канонам и ненадлежащем по христианским меркам поведении, Кирилл Туровский в первую очередь заботился о сохранении целостности русской митрополии, которая, по его мнению, разрушалась адресатами притчи, стремился к защите «законных прав Киевского митрополита с позиций единства всей Православной Церкви» [Мильков, 2016, 39]. При этом, как верно отметил П. И. Гайденко, «Кирилл считал поступки Феодорца и Андрея подсудными лишь Богу» [Гайденко, 2014б, 142].
В современной историографии, посвященной Кириллу Туровскому, прослеживается целый ряд противоречий. В частности, создание им произведений, адресованных Андрею Боголюбскому, большинство исследователей относит к периоду 1167–1169 гг., характеризующемуся наибольшим противостоянием князя с Киевом и митрополичьей кафедрой, но традиционно считается, что в данный период Туровской еписко-пией управлял святитель Георгий. Тогда получается, что сочинения, отразившие всю остроту полемики, были написаны до вступления еп. Кирилла на кафедру, т. к. годом вступления его в архиерейский сан принято считать 1169 г. В этом же году, согласно летописным известиям, произошла расправа митрополита Константина с Феодор-цом (ПСРЛ, 1. Стб. 356–358). Если Кирилл к этому времени был только рукоположен, то полемика уже потеряла свою актуальность. Данная ситуация вряд ли может быть разрешена при имеющемся состоянии исторических источников. Причина подобной коллизии кроется в условности восстанавливаемой историками датировки времени служения Туровских архиереев.
С точки зрения идей церковного устройства, необходимо упомянуть еще одно сочинение еп. Кирилла Туровского — «Слово о бельцах и монашестве» (БЛДР, 4: Слово о бельцах ). Оно посвящено характеристике современного ему монашеского устройства. По мнению архипастыря, основная задача монастырской церкви — «это служба Богу со славословием, немолчная аллилуйя псаломскими стихами…». В основу монастырского уклада должен быть положен «устав, апостольские заветы келейной жизни, где никому нет своеволия, но всем все общее, ибо все под игуменом, как члены тела под одной головой, связаны духовными жилами». Весь чернеческий чин должен пребывать «в последней нищете» и «безмолвном отшельничестве», «а что в худое одет рубище — тут речь без иносказания, ибо здесь рядно и власяница, и суконные одежды, и облаченья из козьих шкур. Ибо всякие богатые ризы и плотские украшения чужды игуменам и всему монашескому укладу» (БЛДР, 4: Слово о бельцах ). Таким образом, в современной ему действительности еп. Кирилл осуждает отступления от канонических требований к монашескому бытию. В то же время образ монаха для него «выступает символом, через который раскрывается идеальная форма христианства» [Вдовина, 2016, 81], а идеалом игумена в русской традиции признается св. Феодосий Печерский, что «без лицемерия иночествовал, возлюбивши Бога и свою братию как самого себя» (БЛДР, 4: Слово о бельцах).
Труды еп. Кирилла Туровского сыграли значительную роль в формировании взглядов просвещенных представителей церковной и светской знати изучаемого периода, что позволяет говорить о высочайшем авторитете архипастыря, но это не может быть применимо к положению Туровской кафедры в рамках Киевской митрополии. Попытка Турова обрести самостоятельную кафедру во главе с представителями местного духовенства [Тихомиров, 1956, 231; Грушевский М., 1891, 163–224; Клеванов, 2001, 61–143; Цветков, 2009, 237–419], так же как желание еп. Кирилла оказать влияние на церковно-политическую ситуацию Руси, оказались тщетными. Святитель в период до 1182 г. был смещен с кафедры, а в Туров был рукоположен ставленник Киево-Печерского монастыря Лаврентий (КПП, 2012, 395).
В Печерском патерике еп. Лаврентий характеризуется как ревностный христианин, который, будучи монахом, принял обет затворничества (КПП, 2012, 220, 395), а под 1182 г., уже в сане Туровского епископа, он указан в числе участников избрания попа Василия игуменом Киево-Печерского монастыря (ПСРЛ, 2. Стб. 628). Безусловно, и Кирилл и Лаврентий были заложниками происходивших в южной Руси политических процессов. Но вступление Лаврентия на архиерейскую кафедру, в замещение легитимно находившегося там еп. Кирилла, прямо нарушало церковные каноны. Сам Лаврентий в сане епископа показал себя слабым и безвольным, фактически он стал «марионеткой в интригах греческих митрополитов по подчинению туровской кафедры» [Галимов, 2012, 109–110], которая переходит под управление киевских архиереев. После святительства Лаврентия «в наших источниках является пробел, и новые сведения о туровской епископской кафедре относятся лишь к XIV в.» [Грушевский А., 1901, 78].
Подводя итог изучению Туровской епископии, необходимо отметить сложность восстановления ее истории, что связано с тем, что «наши летописи мало интересуются жизнью этого удела» [Грушевский А., 1901, 73–74], в них «мы находим лишь случайные замечания о Турове, сделанные в связи с какими-либо политическими событиями» [Тихомиров, 1956, 306]. Привлечение иных исторических источников также не позволяет однозначно ответить на вопрос о времени основания кафедры. В качестве дискуссионных остаются проблемы восстановления последовательного перечня туровских архиереев и времени их пребывания на кафедре, нельзя исключать и длительных периодов вакантности святительского престола5.
Периоды в истории Туровской епископии выделить крайне сложно. Основание кафедры в 1005 г. под руководством епископа Фомы сомнительно, и если это так, то далее почти век святительский престол, вероятно, пустовал. О полноценном существовании Туровского диоцеза вряд ли можно говорить ранее начала XII в. До середины 40-х годов этого столетия епископию возглавляли церковные иерархи, о деятельности которых нам почти ничего не известно. Попытки княжеской власти и горожан в процессе обособления от Киева ввести традицию избрания архиереев из числа местного духовенства не имели успеха: епископ Иоаким арестован, свт. Георгий вынужден покинуть кафедру, свт. Кирилл Туровский смещен. Приход печерского ставленника Лаврентия ознаменовал этап подчинения кафедры Киеву. С конца XIII в. Туров попадает под влияние Волыни, а затем входит в состав Русско-литовского государства.