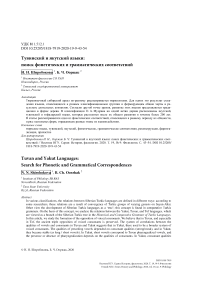Тувинский и якутский языки: поиск фонетических и грамматических соответствий
Автор: Широбокова Наталья Николаевна, Ооржак Байлак Чаш-Ооловна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 9 т.19, 2020 года.
Бесплатный доступ
Тюркоязычный сибирский ареал по-разному рассматривается тюркологами. Для одних это результат схождения языков, относящящхся к разным классификационным группам и формирующим общие черты в результате длительных контактов. Согласно другой точке зрения, развитие этих языков представляется традиционно в форме дерева. В классификации О. А. Мудрака на одной ветви дерева расположены якутский, тувинский и тофаларский языки, которые расходятся после их общего развития в течение более 200 лет. В статье рассматриваются одно из фонетических соответствий, относящееся к раннему периоду их общности, и ряд глагольных форм, отражающих разные этапы их взаимодействия.
Тюркские языки, тувинский, якутский, фонетические, грамматические соответствия, реконструкция, фарингализация, причастие
Короткий адрес: https://sciup.org/147220482
IDR: 147220482 | УДК: 811.512.1 | DOI: 10.25205/1818-7919-2020-19-9-43-54
Текст научной статьи Тувинский и якутский языки: поиск фонетических и грамматических соответствий
Shirobokova N. N., Oorzhak B. Ch. Tuvan and Yakut Languages: Search for Phonetic and Grammatical Correspondences. Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2020, vol. 19, no. 9: Philology, p. 43–54. (in Russ.) DOI 10.25205/1818-7919-2020-19-9-43-54
Некогда существовавшая близость якутского и тувинского языков, а также их поздние контакты разного характера между собой и с другими сибирскими как родственными тюркскими языками, так и неродственными монгольскими и тунгусо-маньчжурскими языками, в разной степени, отразились в устройстве их языковых систем, наследием чего являются обнаруживаемые в тувинском и якутском языках немногочисленные, но последовательно проявляющеся системные соответствия.
Сопоставление в области фонетики показывает, что на синхронном уровне между этими языками существует значительное различие явлений, используемых для построения классификаций тюркских языков.
-
1. Оппозиции шумных согласных в анлауте. В тувинском и тофаларскомв анлауте представлена оппозиция б- и п- , д- и т- . В якутском в анлауте употребляется звонкий б- , а п- используется в заимствованиях и в небольшом количестве звукоподражательных и образных слов. Слов со звонким д- в анлауте более 200, но это заимствования (за очень небольшим исключением) из монгольских и русского языков.
-
2. Краткие гласные якутского языка соответствуют тувинским фарингализованным.
-
3. Последовательное выпадение сверхслабых в инлауте и ауслауте в якутском, в тувинском этот процесс наблюдается преимущественно в инлауте в интервокальной позиции.
Но в некоторых классификациях якутский и тувинский с тофаларским оказываются на одной ветви сибирского классификационного дерева. Схемы распада тюркского праязыка [СИГТЯ, 2002. С. 733] возводят якутский и тувинский с тофским непосредственно к общетюркскому. Остальные тюркские языки Сибири возводятся к «центральной общности», которая, в свою очередь, возводится к общетюркской. Тюркские языки Сибири в разной степени могут сохранять древние черты, особенности более поздней общности и систему инноваций. Якутский сохранил некоторые древние особенности как в системе фонологии, так и в морфологии. При сопоставлении этих явлений с соответствующими формами в тувинском и то-фаларском, видно, что для якутской фонетической системы можно восстановить состояние, близкое к пратюркскому, с тройной оппозицией согласных [Широбокова, 2005. С. 104–106]. Звуковая система якутского языка значительно перестроилась, сближаясь по ряду признаков с древнетюркской и кыпчакской, а в тувинском и в тофаларском языках сохраняется оппозиция сильных и слабых согласных. В тувинском оппозиция сильных и слабых согласных сохраняется только в анлауте у губных и переднеязычных смычных шумных, в других позициях смыслоразличительная нагрузка перешла на фарингализованный гласный. Тувинские фарингализованные последовательно совпадают с якутскими и туркменскими краткими. Существовавшее различие в качестве согласных (оппозиция по степени напряженности) отразилось на качестве гласных, предшествующих этим согласным [Щербак, 1970. С. 42–46].
Тувинская система согласных при всех изменениях ближе к исходной реконструируемой древней системе имевшей тройную оппозицию по степени напряженности, фарингализация возникла при передаче «чистым» гласным сильной артикуляции последующих сильных согласных, которые перешли в категорию слабых [Иллич-Свитыч, 1971. С. 55]. В якутском языке (переход качества согласного на гласный) привел к упрощению системы согласных, исчезновению у шумных троичной оппозиции согласных. Данные тувинского и тофалар-ского языка (наличие закономерного соответствия тувинских фарингализованных с якутскими краткими и якутских долгих с тувинскими нефарингализованными) позволяет восстановить для древнеякутского систему с тройной оппозицией шумных.
В сфере глагола тувинский и якутский языки обнаруживают наличие ряда древних причастных форм, из которых только в глагольной парадигме якутского, тувинского и тофского языков есть формы, восходящие к причастиям =mış / =bış , которые употреблялись в древних орхонских и уйгурских памятниках и сохранились в языках огузской группы. В якутском это форма на = быт , очень активная, на ее основе образуются 4 временных показателя, иполь-зуется как временная, атрибутивная и как сказуемое зависимого предложения. В тувинском и тофском выделяются формы на = бышаан / = бышаанга. В этих формах вычленяется общий с якутской формой на = быт первый компонент = быш . В других сибирских тюркских языках древняя форма =mış сохранилась в отдельных застывших словообразовательных формах. В речи монгольских тувинцев – ценгельском говоре алтайского диалекта тувинского языка, форма на = мыш функционирует тоже как словообразовательный аффикс, который придает глагольным основам значение ‘подражать, поступать аналогично’: ырла=мыш=та=ар ʻяко-бы петь, подражать пениюʼ, бичи=миш=тэ=эр ʻделать вид, что пишетʼ [Хийс, 2008. С. 13].
В системе глагола современного якутского языка форма на = быт является основной формой, активно функционирующей как причастие и как форма финитного глагола [Коркина, 1979. С. 75, 81, 97, 124, 131; Филиппов, 2014. С. 270, 281]. На ее базе в темпорально-модальной системе образован ряд форм: преждепрошедшего, прошедшего результативного, прошедшего эпизодического, давнопрошедшего, давнопрошедшего эпизодического времени, а также она входит в состав аналитического показателя сослагательного наклонения [Коркина, 1979. С. 75, 81, 97, 124, 131] (см. таблицу).
В противоположность этому, тувинская форма на = бышаан функционирует на периферии глагольной системы и не является основной. В ее семантической структуре присутствует сема длительности во времени – выражает действие, начавшееся до момента речи и продолжающееся в момент речи, которая проявляется во всех ее функциях: инфинитных и финитных.
Традиционно форму на = бышаан принято квалифицировать как деепричастие и форму времени [Исхаков, Пальмбах, 1961. С. 336, 379]. Как деепричастие она выражает образ действия (1), как показатель абсолютного времени и член видо-временной парадигмы она передает (2):
-
(1) Бис сүмелешпишаан ажылдап кириптивис .
бис=Ø сүме=ле=ш=пишаан {ажыл=да=п кир=ипт=ивис} мы=NOM совет=VBLZ=REC=CV {работа=VBLZ=CV AUX=PFV1PL}
‘Мы, советуясь между собой, взялись за работу.’
-
(2) Авам школада ажылдавышаан .
ава=м=Ø школа=да ажыл=да=вышаан мать=POSS/1SG=NOM школа=LOC работа=VBLZ=PR-PAST/3SG
‘Моя мать все еще работает в школе.’
Наиболее активно проявляются ее исторические причастные свойства: используется в качестве связки частей моносубъектной полипредикативной конструкции (3), в составе аналитической формы участвует в образовании относительного времени, которое, как правило, получает реализацию на уровне разносубъектных полипредикативных конструкций (4), реже в моносубъектных конструкциях, если субъектом выступает первое лицо, которое не контролирует свои действия и ситуацию (5):
-
(3) Башкы школада ажылдавышаан, кежээлерде тускай кичээлдер база эрттирип турар .
башкы=Ø школа=да ажыл=да=вышаан кежээ=лер=де учитель=NOM школа=LOC работа=VBLZ=Р вечер=PL=LOC тускай кичээлдер=Ø база {эрт=тир=ип тур=ар} частный урок=NOM также {проводить=CAUS=CV AUX=PRES/3SG}
‘Учитель, работая в школе, по вечерам дает также частные уроки.’
|
(4) Чедип кээримге, уруум удувушаан чыдыр . |
|
{чед=ип кэ=эр=им=ге} уру=ум=Ø |
|
{достигать=CV AUX=PART=POSS/1SG=DAT} ребенок=POSS.1SG=NOM |
|
{уду=вушаан чыд=ыр} |
|
{спать=Р AUX=PR/3SG} |
|
‘Когда я пришла, мой ребенок все еще спал.ʼ |
-
(5) Оттуп кээримге, хүн шагда өрүлээн, а мен удувушаан чыдыр мен .
{отт=уп кээримге} хүн=Ø шагда
{просыпаться=CV AUX=PART=POSS/1SG=DAT} солнце= NOM давно
өрүлэ=эн а мен=Ø {уду=вушаан чыд=ыр} мен подниматься=PASTа я=NOM {спать=Р AUX=PR} 1SG
ʼКогда я проснулся, оказалось, солнце давно поднялось, а я все еще спал.ʼ
Следы ее причастного происхождения наблюдаются также в употреблении со словами кижи ʻчеловекʼ, улус ʻлюдиʼ, чүве ʻвещь, предмет; действие, событиеʼ, указывающими одновременно на субъект и вносящими в высказывание модальное значение полной достоверности. Наиболее грамматикализованным в этом ряду является чүве ʻвещь, предмет; действие, событиеʼ (см. об этом подробнее в [Монгуш, 1983. С. 12–35].
-
(6) Акым хоорайда ажылдавышаан кижи
акым= Ø хоорай=да ажыл=да=вышаан кижи=Ø брат=NOM город=LOC работа=VBLZ=PART человек=NOM
‘Мой брат все еще работает в городе (букв. мой брат – человек, который все еще работает в городе)’.
Другая форма, присущая и якутскому, и тувинскому, но в разной степени активности употребления, – это форма на = dyk . Она регулярно выступает в роли причастия и cослага-тельного наклонения в якутском языке [Коркина, 1979. С. 262], тогда как в тувинском она входит в застывшее образование эртик , восходящее к сочетанию древнего глагола эр = 1 с формой на = dyk (7) . В современном тувинском языке она употребляется наряду с аналитической формой более позднего происхождения на = ар ийик (<= r e=juk ) как показатель сослагательного наклонения, но сравнительно с меньшей частотностью употребления. Следы формы на = dyk не обнаруживаются в тофском языке, там она уступила место древнеуйгурской форме на = juk , послужившей основой для образования тувино-тофско-хакасской формы на = чык .
-
(6) [ Буруулуг болдувус көрем, Аайна. Сээң чедип келириңни билбээн-дир бис. ] Оон башка шагда-ла белен тургай эртик бис (КК, АТ, 30).
оон.башка шагда=ла {белен AUX=COND-CON} бис а.то давно=PTCL {готовый тур=гай.эртик} 1PL
ʻИзвини нас, пожалуйста, Аайна. Мы не знали, что ты придешь. [А то были бы давно уже готовы]’.
Рефлексы древних глагольных форм и их функции в современных сибирских тюркских языках Reflexes of ancient verb forms and their functions in modern Siberian Turkic languages
|
Язык-источник |
Глагольный показатель |
Якутский язык |
Тувинский язык |
Другие сибирские тюркские языки |
|
Общетюркский фонд |
1) =r |
Прич. =ар |
Прич. =ар |
Прич. хак. = ар, шор. =ар, алт. =ар |
|
Наст.-буд. (3 л.) =ар |
Буд. =ар |
Буд. хак. = ар, шор. =ар, алт. =ар |
||
|
Прош. незак. = ар этэ |
Долж. =ар ужурлуг |
Долж. алт. =ар учурлу (бол=) |
||
|
Долж. =ардаах |
||||
|
2) = dy |
Недавнопрош., определ., катего-рич. = т |
Прош. очевидн. = ды |
Недавнопрош., категорич., оче-видн. = ды |
|
|
Орхонский тюркский |
1) =mış ( *=bış ) |
Прич. =быт; =быттаах |
Следы прич. =бышаан |
Прош.-наст. =бышаанга |
|
Преждепрош. =быт+афф. сказ. |
Прош.-наст. =бышаан |
Сопроводительное деепр. =бышаанга |
||
|
Прош. результ. =быт + афф. при-надл. |
Сопроводительное деепр. =бышаан |
|||
|
Прош. эпизод. =быт+=лаах+афф. сказ.; =быт+афф.принадл.+ Баар |
||||
|
Давнопрош. = быт+этэ |
||||
|
Давнопрош. эпизод. = быт+таах+этэ |
||||
|
Сослаг. = ыах эбит |
||||
|
2) =dyq |
Прич. = тах |
Сослаг. накл. = гай эртик |
– |
|
|
Предпол. накл. = тах |
||||
|
3) = sar |
Нефинитная форма: усл. = тар |
Нефинитная форма: усл. = са |
Нефинитная форма: усл.. тоф., хак., шор, алт. = са |
|
|
Финитная форма жел. = тар |
Финитная форма жел. = са |
Финитная форма: жел. = са : тоф., хак., шор, алт. |
Окончание таблицы
|
Язык-источник |
Глагольный показатель |
Якутский язык |
Тувинский язык |
Другие сибирские тюркские языки |
|
Древнеуйгурский |
1) = ɣu |
Буд. время = ыах Должен. = ыах тустаах Сослаг. = ыах этэ, = ыах эбит |
Возм. =гы дег |
Возм., необх., предпол. хак. = ғадағ, шор. =гадаг, алт. =гадый |
|
2) = ɣuluk |
Должен. накл. =ыахтаах |
– |
– |
|
|
3) = ɣu + еlеk |
Прич. = галак Буд. ожид. время = галак |
Прич. несов. действ. алт. = калак , хак. = халах , шор. = калак, чулым. и бараб. татар = калак |
||
|
4) = gaj |
Возм. = аайа |
Необх. накл. = гай |
Жел. тоф., хак., шор, алт. = гай |
|
|
5) = gaččı |
Прич. = ааччы Накл. обычно совершающегося действия = ааччы |
Имя сущ. (наименование деятеля), имя прил. = аачы |
Имя сущ. (наименование деятеля), имя прил. хак., шор., кирг. = ааччы |
|
|
6) = juk |
|
Тоф., хак. прош. = чык/=чых |
||
|
Др. кыргыз. |
– |
|
Алт., хак., шор.
|
|
|
причастие_- а илик _ Накл. несов. действ. = а илик Пр. Вр. накл. несов. действ. = а илик этим |
— |
киргиз. = а елек |
Орхонская форма условия на = sar в фонетически измененной форме = тар употребляется только в якутском языке. Якутской форме на = тар в тувинском и в других южносибирских тюркских языках соответствует форма на = са . Они выступают в современных языках функционально и семантически как аналогичные: в инфинитной функции выражают значение условия, в финитной - значения желания [Коркина, 1970. С. 179-180; Кызласова, 2010. С. 121]; желания и мягкого побуждения [ГСАЯ, 2017. С. 3 3 8; Ооржак, 2018. С. 3 62; Тазранова, 2019. С. 67-68]. Такая связанность функций и значений была присуща, как отмечают исследова-тели, формам на = sar и = sa еще в древний период [СИГТЯ, 1988. С. 340-343].
В якутском языке функционируют формы, восходящие к древнеуйгурской форме причастия на =уи. Это форма на =ыа , =ыах , чрезвычайно активная в модально-временной системе. Она выступает как форма причастия и основная форма будущего времени. Кроме того, она служит основой для выражения целого ряда модальных значений в составе вторичных форм и аналитических конструкций: = ыах тустаах , = ыах этэ , = ыах эбит , =ыахтаах [Коркина, 1970. С. 257].
В тувинском (как и в других южносибирских тюркских языках) основным показателем будущего времени является общетюркская форма на = ар . В якутском языке в функции причастия она участвует в образовании аналитической формы прошедшего незаконченного времени на = ар этэ и формы долженствовательного наклонения на = ардаах , как и форма =ыахтаах . Эти формы синонимичны и свидельствуют о возможном раннем параллельном использовании в якутском языке, формы на = ар в значении будущего, которую в современном языке полностью заменила форма на = ыах . И структура этих форм предстает как причастия будущего времени на = ыах / = ар + аффикс обладания на = даах / =таах (см. об этом в [Коркина, 1970. С. 207; Филиппов, 2014. С. 378, 381]) . Древнеуйгурская форма на = \uluk выражала значение необходимости и долженствования.
В тувинском и южносибирских тюркских языках древняя форма на = уи выступает в связанном виде: в сочетании с послелогом teg ( дег , дай , дый ) - в формах на =гы дег / =гадай / =гадый и в качестве первого элемента в структуре формы на = галак / = калак / =халах (< =уи + elek ) [Щербак, 1981. С. 178] . С послелогом teg ( дег , дай , дый ) форма на =уи функционирует как форма причастия и показатель модальности возможности, необходимости, предполо-жения [Карпов, 1975. С. 198; Рассадин, 1978. С. 165; ГСАЯ, 2017. С. 352], «модальности кажимости» [Кызласова, 2010. С. 135]. При этом в тувинском и тофском языках сохраняется аналитизм ( =гы дег , = гы дэг ), в других же южносибирских тюркских языках произошла синтезация (хак. = FадаF , шор. =гадаг , алт. =гадый ).
Если первым компонентом в формах на = галак / = калак / =халах в южносибирских тюркских языках определяется показатель древнего причастия на = гу , а в якутском и киргизском языках - причастие на =а [Щербак, 1981. С. 178; Насилов, 2000. С. 59]; то компонентом, как большинство исследователей считатет, является частица элек / илик , возникшая из сочетания усилительной частицы эле / - ле и отрицания йок [Насилов, 2000. С. 59; Широбокова, 2001. С. 231] . Отсюда имеем структуру =гу + элек / илик > =гулек > =галак и =а элек / илик [Монгуш, 1959. С. 90].
Таким образом, формы на = галак / = калак / =халах и = а илик структурно совпадают, выступают с близкими значениями в южносибирских тюркских языках и якутском языке. За пределами кроме киргизского языка ( =а елек ) такая форма функционирует в отдельных говорах татарского и башкирского языков [Дыренкова, 1940. С. 153; ГСАЯ, 2017. С. 390; Карпов, 1975. С. 220; Коркина, 1970. С. 258; Юсупов, 1985. С. 39]. В тофском языке она была утеряна [Рассадин, 1978. С. 275]. Эту форму не знают и носители северо-восточного диалекта тувинского языка, носители которого проживают ближе к тофаларам, тогда как носители центрального и западного диалектов хотя и редко, но употребляют эту форму.
В настоящее время в современной речи форма на = галак практически не используется, встречаются редкие примеры в художественной литературе. В тувинском языкознании она определяется как причастие и один из показателей будущего времени [Монгуш, 1959. С. 90].
По опросам носителей хакасского и шорского языков, форма на = калак / = халах употребляется достаточно регулярно. В алтайском языке она все более часто употребляется в финитной функции и реже выступает как причастие [ГСАЯ, 2017. С. 390-391]. Функционально шире, чем в южносибирских тюркских языках, в якутском языке выступает форма на = а илик : на основе этого причастия получило развитие особое наклонение - наклонение несовершивше-гося действия, которое репрезентирует действие как еще не совершившееся к моменту речи (= а илик ), и действие, еще не совершившееся в определенный момент в прошлом (= а илик эти= ) [Коркина, 1970. С. 247-249].
В якутском языке имеется форма на = аайа с модальным значением возможности . В тувинском языке форма на = гай определяется как форма наклонения необходимости. В других южносибирских тюркских языках - тофском, хакасском, шорском и алтайском, она является показателем желательного наклонения. Исследователями отмечается функционирование в древнеуйгурском языке финитной формы на = ga(j' ) будущего времени с дополнительной семантикой категоричности [Насилов, 1963. С. 75-76], к которой, видимо, и восходят модальные формы = аайа и = гай в сибирских тюрксих языках [Убрятова, 1985. С. 33].
В сибирских тюркских языках - хакасском, шорском и киргизском, выделяется форма со значением наименования деятеля на = аачы. В якутском языке форма на = ааччы является причастной формой и выполняет определительные (7) и предиктивные (8) функции:
-
(7) Мас кердээччи дьон кэлбиттерин туНунан сурах тарранна ʻРаспространилась весть о том, что приехали люди, которые рубят дрова (рубящие дрова люди)’ (пример взят из [Филиппов, 2014. С. 273]).
-
(8) Хаар кыНын тYhээччи
‘Снег бывает (идет) зимой’ (пример взят из [Коркина, 1970. С. 226].
Такая форма со значением обычно выполняемого действия, принимающая аффиксы сказуемости, была отмечена Е. И. Убрятовой в языке норильских долган [1985. С. 183-184]. Е. И. Коркиной [1970] в якутском языке выделено особое наклонение - наклонение обычно совершаемого действия на = ааччы (9) и = ааччык (10) .
-
(9) Мин ... ким улэрэ дьорура суорун ете билээччибин
‘Я обычно сразу узнаю, кто не способен к работе’ [Коркина, 1970. С. 227].
-
(10) Тылтан тыл тереен, кэпсээтэххэ уНаан-кэнээн барааччык
ʻСлово за словом, и если разговориться, разовор обычно затягиваетсяʼ [Коркина, 1970. С. 227].
Кроме того, якутский аффикс = ааччы очень активно функционирует как форма словообразования, обозначающее лицо действия в различных аспектах.
В тувинском языке форма на = ачы (= аачы ) - аффикс словообразования. Присутствует всего в нескольких производных именных основах бижээчи ‘писарь; проф. пишущий; тот, кому присуще занятие писатьʼ в современном языке этот аффикс не продуктивен. Формы на = ааччы / = ааччык / = аачы восходят к древнеуйгурской форме на = gacci (<= gac + =ci ).
Только в тувинском, тофском, хакасском и киргизском языках имеется финитная форма =чых / =чык (древняя уйгурская форма = juk ), характеризующаяся признаками очевидности, достоверности и эмоциональной категоричности [Исхаков, Пальмбах, 1961. С. 376-378; Карпов, 1975. С. 221; Рассадин, 1978. С. 212, 213]. В якутском языке такая форма отсутствует. Но в структуре якутских форм утвердительного наклонения на = ыыНык , = сык , = ааччык выделяется древнеуйгурское причастие на = juk [Убрятова, 1985. С. 40-43].
Из всех рассмотренных глагольных форм в якутском, тувинском и других южносибирских тюркских языках наиболее полное соответствие имеют финитные формы на = т, =ды относящееся к общетюркскому фонду. Они являются в этих языках наиболее употребитель-ными формами плана прошедшего времени, обладающими дополнительно значениями оче- видности и категоричности, а также часто характеризуются как несущие значение временной дистанции совершения действия – недавнопрошедшее время. Также можно отметить семантические и функциональные параллели форм =тар и =са.
Во всех других случаях рассмотренные глагольные формы не имеют полных соответствий в плане семантики и выполняемых ими функций. Сопоставление глагольных форм тувинского и якутского языков с указанием на их языки-источники и привлечнием данных других сибирских тюркских языков обобщены в таблице, из которой видно, что в якутском языке сохраняются и активно функционируют глагольные формы, связанные с древним языком орхонских и древнеуйгурских памятников. Это форма на = быт , давшая на своей основе целую серию вторичных форм индикатива; полифункциональные и полисемантичные формы на = тах и = тар. Восходящие к древнеуйгурским формам глагольные показатели якутского языка широко функционируют в системе будущего времени (= ыах ) и косвенных наклонений. Такой же полифункциональной и частотной в языке является форма на = а илик , общая появившаяся под влиянием древнекыргызского языка.
В тувинском языке формы, которые связывают его с древними языками (орхонским тюркским и древнеуйгурским), сохраняются на периферии глагольной системы ( =бышаан , эртик , = чык ). Что касается формы на = галак , то она имеет более ограниченное употребление, чем в других южносибирских тюркских языках. Ее структурная и семантическая параллель в киргизском и якутском языках является более употребительной. Форма на = ган , являющаяся наследием древнего киргизского языка и занимающая одну из основных мест в глагольных системах тувинского и южносибирских тюркских языков отсутствует в якутском языке.
Принимая точку зрения Е. И. Убрятовой, что следы древних тюркских языков в современных тюркских языках Сибири отразились в разной степени и более поздние перекрывают более ранние. При синхронном анализе черты более ранних языков могут выявляться в меньшей степени, чем поздних, как следы древнетюркских морфологических форм в тувинском, перекрытые морфологическими формами кыпчакского типа. В то время как в якутском сохраняется морфологическая система, свойственная древнетюркским языкам (орхонскому и древнеуйгурскому), при перестройке по кыпчакскому типу консонантной системы.
В зависимости от своего развития тот или иной язык проявляет в разной степени следы древних языков, на основе которых или под влиянием которых они были образованы. В фонетической системе тувинский сохраняет более древнюю систему, а в области морфологии картина противоположная, более древняя система сохраняется в якутском языке.
Список условных сокращений и обозначений
AUX – вспомогательный глагол, CAUS – каузатив, COND-CON – форма условно-сослагательного наклонения, CV – деепричастие, DAT – дательный падеж, LOC – местный падеж, NOM – именительный падеж, Р – PART – причастие, PRES – форма настоящего времени, PR-PAST – настоящее-прошедшее время, PFV – завершенный вид, PL – множественное число, POSS – посессивность, PTCL – частица, REC – совместно-взаимный залог, SG – единственное число, VRBLZ – транспонирующий суффикс (имя → глагол), 1 – первое лицо, 3 – третье лицо.
Received
23.05.2020
Список литературы Тувинский и якутский языки: поиск фонетических и грамматических соответствий
- ГСАЯ – Грамматика современного алтайского языка. Морфология. Горно-Алтайск, 2017. 576 с.
- Дыренкова Н. П. Грамматика ойротского языка. М.; Л., 1940. 303 с.
- Иллич-Свитыч В. М. Опыт сравнения ностратических языков. М., 1971–1984.
- Исхаков Ф. Г., Пальмбах А. А. Грамматика тувинского языка. Фонетика и морфология. М., Наука, 1961. 471 с.
- Карпов В. Г. Грамматика хакасского языка. Глагол. М., 1975. С. 163–245.
- Коркина Е. И. Наклонения глагола в якутском языке. М.: Наука, 1970. 308 с.
- Коркина Е. И. Глагольные лично-отнесенные модальные конструкции в якутском языке. Якутск, 1979. 94 с.
- Кызласова И. Л. Категория модальности в хакасском языке. Абакан, 2010. 152 с.
- Монгуш Д. А. О временных формах в тувинском языке // Учен. зап. ТНИИЯЛИ. Кызыл, 1959. Вып. 7. С. 85–92.
- Монгуш Д. А. О служебных функциях слов кижи, улус и чүве в тувинском языке // Тюркские языки Сибири. Сб. науч. тр. Новосибирск, 1983. С. 12–35.
- Насилов В. М. Древнеуйгурский язык. М.: Вост. лит., 1963. 122 с.
- Насилов Д. М. Заметка о форме на -калак в шорском языке // Чтения памяти Э. Ф. Чиспиякова. Новокузнецк, 2000. С. 56–61.
- Ооржак Б. Ч. Система грамматической модальности в тувинском языке (в сопоставлении с тюркскими языками Сибири): Дис. … д-ра филол. наук. Новосибирск, 2018. 459 с.
- Рассадин В. И. Морфология тофаларского языка в сравнительном освещении. М.: Наука, 1978. 288 с.
- СИГТЯ – Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Морфология. М.: Наука, 1988. 560 с.
- СИГТЯ – Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Региональные реконструкции. М.: Наука, 2002. 767 с.
- Тазранова А. Р. Форма на =ЗА в алтайском языке // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2019. Т. 18, № 9: Филология. С. 65–77.
- Убрятова Е. И. Следы древних тюркского, уйгурского и киргизского языков в современных языках Сибири // Историческая грамматика якутского языка: Учеб. пособие. Якутск: Изд-во Якут. гос. ун-та, 1985. С. 22–32.
- Филиппов Г. Г. Причастия якутского языка: комплексное типологическое функционально-семантическое исследование. Якутск, 2014. 607 с.
- Хийс Г. Особенности тувинской речи жителей Цэнгэла: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Новосибирск, 2008. 22 с.
- Широбокова Н. Н. Отношение якутского языка к тюркским языкам Сибири. Новосибирск: Наука, 2005. 268 с.
- Широбокова Н. Н. Историческое развитие якутского консонантизма. Новосибирск: Наука, 2001.
- Щербак А. М. Очерки сравнительной морфологии тюркских языков. Глагол. Л.: Наука, 1981. 183 с.
- Юсупов Ф. Ю. Неличные формы глагола в диалектах татарского языка. Казань: Изд-во Каз. ун-та, 1985. 320 с.