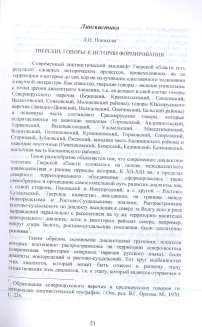Тверские говоры: к истории формирования
Автор: Новикова Людмила Николаевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Лингвистика
Статья в выпуске: 3, 2005 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена тверским говорам, истории их формирования. Выделены основные диалектные группы, приведены их характерные особенности.
Говор, диалект, диалектная группа, носитель языка, лингвистическая география, лингвистический ландшафт тверской области
Короткий адрес: https://sciup.org/146120406
IDR: 146120406 | УДК: 811.161.1'282.2(470.331)
Текст научной статьи Тверские говоры: к истории формирования
ТВЕРСКИЕ ГОВОРЫ: К ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ
Современный лингвистический ландшафт Тверской области есть результат сложных исторических процессов, происходивших на ее территории и которые до сих пор не получивших однозначного толкования в научной литературе. Как известно, тверские говоры - явление уникальное с точки зрения диалектного членения, т.к. включают в свой состав говоры Севернорусского наречия (Бежецкий, Краснохолмский, Сандовский, Весьегонский, Сонковский, Молоковский районы), говоры Южнорусского наречия (Западно-Двинский, Нелидовский, Оленинский, Бельский районы) и основную часть составляют Среднерусские говоры, которые подразделяются на акающие западные (Торопецкий, Андреапольский, Торжокский, Вышневолоцкий, Удомельский, Максатихинский, Болотовский, Осташковский, Кувшиновский, Торжокский, Спировский, Старицкий, Зубцовский, Ржевский, западная часть Калининского района) и окающие восточные (Рамешковский, Кимрский, Кашинский, Калязинский, восточная часть Калининского района).
Такое разнообразие объясняется тем, что современное диалектное членение Тверской области сложилось на основе междиалектного взаимодействия в ранние периоды истории. К ХП-ХШ вв. в пределах северного территориального объединения сформировались такие своеобразные и прошедшие самостоятельный путь развития диалекты, как, с одной стороны, Псковский и Новгородский, а с другой - Ростово-Суздальский. Тверское княжество находилось на границе между Новгородскими и Ростово-Суздальскими землями. Распространение ростово-суздальского по диалекту населения к северу за Волгу шло в ряде направлений параллельно с расселением на ту же территорию носителей новгородского диалекта, хотя в некоторых районах севера, например, вокруг озера Белого, ростово-суздальские поселения были достаточно ранними1.
Таким образом, основными диалектными группами, носители которых постепенно распространялись на территории северо-востока (современная территория северного наречия русского языка), были диалекты новгородский и ростово-суздальский. Тот круг особенностей этих диалектов, который может быть отнесен к раннему этапу существования этих диалектов, т.е. к этапу, который является отправным в
Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров по материалам лингвистической географии. / Отв. ред. ВТ. Орлова. М., 1970. С. 226.
истории развития диалектов, описан. Так, Р.И. Аванесов считает, что говорам Новгородской земли конца ХИ-первой половины XIII в., т.е. того периода, когда в пределах южных областей происходило распространение аканья, были свойственны следующие особенности: /г/ взрывное, цоканье, наличие [б] или [уо] на месте старого /б/ под восходящим ударением и [ё] на месте ^ .
По данным исследования К.В. Горшковой , к числу черт новгородского диалекта, характерных для данного периода, можно отнести, кроме приведенных черт, также еще и то, что так называемое падение редуцированных происходило в новгородском диалекте позднее, чем в ростово-суздальском, и сопровождалось развитием второго полногласия в лексике, исконно имевшей сочетания редуцированных с плавными. В области вокализма К.В. Горшкова отмечает также задержку лабиализации гласного [е] в положении перед твердыми согласными, т.е. задержку изменения /е/ в /о/, а также наличие в новгородском диалекте в силу ряда определенных предпосылок более устойчивого и последовательного различения /е/ и /ё/, /о/ и / б /, при котором развивалось также дифтонгическое произношение закрытых [б] и [ё], [уо] и [ие]. В области консонантизма для новгородского диалекта в работе К.В. Горшковой отмечено менее последовательное развитие категории твердости/мягкости и связанное с этим более долгое сохранение мягких /ж7 и /ш7, а также более устойчивое сохранение звуковых сочетаний /ш’ч7 и /ж’д’ж7 и сочетания /ч’н/.
В результате проведенного изучения данных лингвистической географии к числу черт, характерных для новгородского диалекта того же раннего периода, могут быть отнесены и еще некоторые черты. Гак, различение гласных, в принципе известное как в новгородском, так и в ростово-суздальском диалекте, имело место в каждой из этих диалектных групп локальный характер в зависимости от того, какие именно звуки по их физическому качеству произносились в безударном положении и в каких отношениях к гласным ударенных слогов они находились. В положении после твердых согласных это могло выражаться в том, что в новгородском диалекте при характерном для него устойчивом различении /б/ и /о/ эти гласные могли более последовательно различаться и в передударном положении. В положении после мягких согласных в соответствии ударенному /ё/ при характерном для него здесь устойчивом произношении [ё], [ие] в предударном положении также должен был произноситься гласный более высокого подъема, на основе которого в дальнейшем (в
-
1 Аванесов Р.И. Вопросы образования русского языка в его говорах.// Вестник МГУ, 1947. № 9. С. 131.
-
2 Горшкова К.Г. Очерки исторической диалектологии северной Руси (по данным исторической фонологии). Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 1965.
гораздо более позднее время) развивается произношение [и] в соответствии с [ё] (особенно последовательное в положении между мягкими согласными). В соответствии ударенному /е/, более устойчиво сохранившемуся в новгородском диалекте без перехода в [о] перед твердыми согласными, в первом предударном слоге также произносилось [е]. Гласный /а/ в положении между мягкими согласными испытывал в этом диалекте, как на это указывает его последующий переход в /е/ в говорах новгородского происхождения, сильную передвижку в передний ряд, что должно было отражаться на его произношении как под ударением, так и в предударном положении, где также в достаточно раннее время мог произноситься гласный, приближавшийся по звучанию к [ej.
Соответственно для ростово-суздальского диалекта того же раннего периода в качестве характерных для говоров Ростово-Суздальской земли черт Р.И. Аванесовым указано наличие взрывного [г] и губно-зубного [в], различение [ц] и [ч], различение /6/ и /о/, /ё/ и /е/1.
К.В. Горшкова предполагает для того же диалекта, кроме указанных особенностей, более раннее время падения редуцированных, рано сложившееся условия для совпадения /ё/ и /е/ (первоначально в позиции перед мягкими согласными, а затем и в других положениях) и употребления /б/ вне различения с /о/; раннее время и последовательности лабилизации /е/ и изменения его в [о]; устранение смычного элемента в сочетаниях ш’д’ш’ /ш’ш7, ж'д'ж' /ж’ж7, а также изменение чн > шн.
По данным лингвистической географии, в характеристику ростово-суздальского диалекта указанного периода можно включить ряд особенностей в характере гласных, различавшихся в предударном положении.
В связи с более ранним совпадением /ё/ и /е/ под ударением в этом диалекте в первом предударном слоге в соответствии /ё/ произносился гласный более низкого подъема, чем в новгородских говорах (т.е. собственно [е]); при раннем и фонетически закономерном изменении е > о в положении перед твердыми согласными в этом диалекте устанавливалось регулярное произношение [о] в соответствии [е] и в соответствии ударенному [о] также и в предударном положении; регулярное соответствие ударенного и безударного гласного [а] в положении после мягких согласных независимо от качества последующего согласного (твердого или мягкого) было также характерно для данного диалекта.
Противопоставление новгородского и ростово-суздальского диалектов, взятых в пределах наиболее заселенных и исконных для них территорий, может быть рассмотрено для данного периода и как более широкое противопоставление восточнославянских говоров, взятых в целом, в направлении с запада на восток, безотносительно к оформлявшемуся в то же время противопоставлению южной и северной территорий. Основанием для этого служат данные лингвистической географии, показывающие, что по характеру языкового развития говоры Новгородской земли были тесно связаны не только с близлежащими псковскими и смоленскими говорами, но и с говорами полоцкими, а частично и с киевскими или черниговскими.
Общность языковых явлений, имевшаяся между западными говорами восточнославянских языков, сложилась на основе процессов двоякого рода. Так, на западные территории в ряде случаев не проникали, особенно на ранних этапах их существования, инновации, очагом возникновения которых являлись ростово-суздальские или одновременно и рязанские, а также восточные черниговские говоры, равно как инновации западного происхождения оставались чуждыми названным восточным говорам.
Долгое время оставалась чуждой западным говорам такая ранняя восточная инновация, как губно-зубное произношение /в/ и /в'/, оглушаемых в виде [ф] - [ф] в слабых позициях, а также возможность употребления фонем /ф/ — /ф7. Долгое время была чужда западным говорам и утрата срединного смычного элемента в сочетаниях /ш'т'ш/, /ж' д' ж'/, или результаты изменения сочетания /чн/ в [шн] или [сн] и др.
Противопоставление восточнославянских говоров западных и восточных территорий наметилось еще в результате того, что определенная часть кривичского, а может быть, и словенского племени совершила в свое время отход в восточном направлении на будущие территории Ростово-Суздальской земли, причем, «судя по археологическим данным, колонизация Ростовского края русскими началась в IX в...» (Готье 1930, 221, 1928, 138-144; Арциховский 1930, 14; Любавский 1929, 6).
Следующим событием, определяющим дальнейшее развитие языковых черт территории современных тверских говоров, явилось создание великого княжества Литовского во второй половине ХШ в. С самого начала своего существования это государство было полурусским. Присоединившиеся к Литве западнорусские земли в большинстве случаев сохраняли свою особенность и самобытность, в том числе и в языке. Характеризуя русское население Литовской Руси в сравнении с населением складывающегося на востоке Московского (ранее Ростово-Суздальского) государства, М.К. Любавский пишет о населении Литовской Руси: «Это была исконная Русь, сидевшая на старом корню, медленно эволюционизировавшая, но не срывавшаяся со своих жизненных устоев, в противоположность Руси Суздальской, которая, расселившись по верхней Волге и ее притокам, устроила там свою жизнь на новых основаниях... В жизни Литовской Руси можно подметить гораздо больше традиций, архаических черт Киевского периода, чем в жизни Ростово-Суздальской Руси» (Любавский 1915, 1).
В обособлении говоров северного наречия от западных и восточных среднерусских говоров, которые продолжали свое развитие на центральных и исторически более древних частях территории бывшей Новгородской и бывшей Ростово-Суздальской земель, решающую роль сыграли процессы и условия, сложившиеся в относительно позднее время и характерные для периода существования русского языка как национального. Основной причиной выделения северного наречия было то, что для его говоров остались чуждыми те процессы непосредственного взаимодействия с говорами южного наречия и южных диалектных зон, которые стали определяющими для возникновения среднерусских говоров. Для среднерусских говоров это было их дальнейшее взаимодействие с говорами южного наречия, которое усиливается по мере того, как шло образование территории Замосковного края, основное ядро которого образуется к началу XV в. Многие языковые черты среднерусских говоров, исторически развивавшихся на части территории бывшей Ростово-Суздальской земли, вошли в состав норм русского общенародного языка. Отрыв южной части территории ростово-суздальских по происхождению говоров и распространение на этой территории дополнительного ряда южнорусских черт и особенно аканья происходит уже на этапе развития русского языка как национального, и лишь с этого времени акающие говоры, окружающие Москву, противопоставляются восточным среднерусским окающим говорам, т.е. говорам Владимирско-Поволжской группы (Кимрский, Калязинский, Кашинский районы на территории тверской области).
Учение о среднерусских говорах начало складываться в работах А.А. Шахматова (Шахматов 1910, 177; 1916, 110), но получило последовательное развитие в трудах московской диалектологической комиссии, основным положением этого учения было следующее: образование среднерусских говоров протекало как влияние южнорусских говоров на севернорусские. Поэтому среднерусские говоры - это говоры в своей основе севернорусские с южнорусским наслоением .
Подробный критический анализ этих положений был дан в 2
работах Р.И. Аванесова . Опираясь на общие исторические данные, Р.И. Аванесов отвергает утверждение, что все среднерусские говоры -результат влияния южновеликорусов на язык северновеликорусов. В период образования среднерусских говоров южновеликорусы не занимали преобладающего положения в культурном отношении, а влияние
-
1 Дурново Н.Н., Соколов Н.Н., Ушаков Д.Н. Опыт диалектологической карты русского языка в Европе с приложением очерка русской диалектологии. М., 1915. С. 73 - 110.
-
2 См. подробнее: Аванесов Р.И. Вопросы образования русского языка в его говорах.// Вестник МГУ, 1947. № 9.; Аванесов Р.И. Вопросы истории русского языка в эпоху формирования и дальнейшего развития русской (великорусской) народности. // Вопросы формирования русской народности и нации. М., Л.: Изд-во АН СССР, 1958.
предполагает различие в культурном уровне. Напротив, северновеликорусы в то время по уровню культурного развития были выше.
Суммируя диалектные факты, Р.И. Аванесов убедительно показывает, что такие явления, как цоканье и произношение /ё/ или /ие/ на месте £5, нельзя отнести к числу севернорусских, так как они не могли независимо развиться как в севернорусских, так и южнорусских говорах. В результате рассмотрения всех относящихся к данной проблеме материалов Р.И. Аванесов формулирует основные положения диалектологии об образовании среднерусских говоров1.
По мнению Р.И. Аванесова, следует различать первичные и вторичные среднерусские говоры. Первичные говоры возникли в результате этнического смешения носителей первоначально различных диалектов. Поэтому в отношении этих говоров нельзя говорить об основе и наслоении. К числу таких первичных говоров Р.И. Аванесов относит московский диалект. Вторичные среднерусские говоры имеют как севернорусскую, так и южнорусскую основу.
Сочетание тех фонетических изоглосс, которые оказались решающими при выделении полосы среднерусских говоров, исторически сложилось весьма различно. Во Владимирско-Поволжской группе восточных среднерусских говоров, в ее подгруппах (Калининской и Горьковской) появление черт южнорусского наречия связано с внутренним развитием фонологической системы ростово-суздальского типа. Важнейшей особенностью фонологической системы ростово-суздальского диалекта, которая формировалась после падения редуцированных, было последовательное развитие категории согласных фонем, парных по твердости-мягкости. В такой системе закономерно ослабляется роль гласных фонем, происходит сокращение их числа и уменьшение объема дифференциальных признаков гласных фонем. Утрата фонем /ё/ и. /6/, неразличение безударных [е] и [о], а позже появление редукции в безударных слогах (кроме первого предударного) явились фонетическим выражением определенных фонологических изменений: дальнейшим уменьшением дифференцирующей роли гласных.
В акающих восточных среднерусских говорах, их отделах А, Б, В, исторический процесс образования изоглосс среднерусских говоров шел различно. Отдел А составляют говоры московский и подмосковные. Столкновение здесь, в центре формирования великорусской народности и ее языка, различных этнических групп с их различными диалектами привело к образованию такого нового диалекта, такого соединения севернорусских и южнорусских черт, которые нельзя разложить на основу и наслоение. Московское аканье не есть южнорусское аканье, наслоившееся на северный, ростово-суздальский консонантизм. Изучение истории московского говора показывает, что южнорусское влияние сыграло здесь лишь роль толчка, как бы «усилителя» тех процессов, которые протекали в системе самого московского говора. Если бы сама система московского говора не была подготовлена развитием к восприятию основных признаков акающего вокализма, трудно было бы ожидать столь быстрого преобразования московского говора. Еще в московских текстах XIV-XV вв. нет отражения аканья, а к середине XVII в. аканье уже было определяющей чертой московского вокализма*. А после XVII в. оно лишь незначительно продвинулось на север от Москвы. Если учесть, что южновеликорусы в XV-XVI и начале XVII вв. не имели культурного превосходства и аканье не могло иметь социальную значимость нормы, то такой результат исторического развития фонетической системы был бы необъясним.
Другие акающие восточные среднерусские говоры (Б, В) сложились на базе южнорусского акающего диалекта, его рязанской группы, и восприняли севернорусские черты, в том числе и [г] смычно-взрывное уже под влиянием московского говора, то есть здесь можно уже говорить об основе, южновеликорусской, и о наслоении, северновеликорусском.
История западных среднерусских говоров складывалась иначе. Можно предположить, что после покорения Новгорода Москвой в XV в. основная часть новгородцев оставила эти места, ушла на северо-восток (не случайно именно здесь мы находим говоры, непосредственно продолжающие древненовгородский диалект - восточные владимирско-поволжские говоры), а сюда пришли суздальцы и в дальнейшем определили ряд важнейших особенностей говоров этих мест.
Северная часть псковского диалекта издавна переживала языковые изменения, объединяющие ее с говорами Новгорода. Поэтому гдовские окающие говоры имеют черты, общие с Новгородской группой говоров.
Остальные западные акающие среднерусские говоры сложились на основе древнепсковского диалекта, в котором аканье являлось чертой вторичной, но довольно ранней. Уже в XV в. аканье распространилось на запад и северо-запад. К ним относятся тверские говоры Селигеро-Торжковской группы.
Общий исторический комментарий показывает, что среднерусские современные говоры, выделенные в результате синхронной интерпретации изоглосс, приобретают совершенно новое содержание. Образование диалектной зоны центра, как и возникновение среднерусских говоров, процессы, свидетельствующие об объединительных тенденциях, об образовании единого языка великорусской народности на базе первоначально весьма самостоятельных отдельных восточнославянских диалектов, не прекратили возникновения новых диалектных черт и даже образования новых диалектных групп периферийных говоров.
Эти поздние диалектные процессы, относящиеся к эпохе XV1-XV11 вв., слабо изучены, но основная тенденция прослеживается четко: все было подчинено формированию единого русского языка в его высшей форме -литературной, подчиняющей все остальные формы, в том числе и территориально-диалектные. Происходит сложный процесс взаимодействия литературного языка с диалектами, который и формирует современную картину диалектного членения.