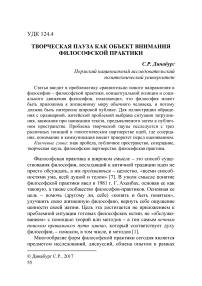Творческая пауза как объект внимания философской практики
Автор: Динабург С.Р.
Журнал: Социальные и гуманитарные науки: теория и практика @journal-shs-tp
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья вводит в проблематику сравнительно нового направления в философии - философской практики, концептуальной позиции и социального движения философов, полагающих, что философия может быть приложима к жизненному миру обычного человека, и потому должна быть интересна широкой публике. Для иллюстрации обращения с ординарной, житейской проблемой выбрана ситуация затруднения, зависания при написании текста, предъявляемого затем в публичном пространстве. Проблема творческой паузы исследуется с трех различных позиций в гипотетическом партнерстве идей, где созерцание, понимание и коммуникация имеют приоритет перед оцениванием.
Публичное пространство, созерцание, творческая пауза, философское партнерство, философская практика
Короткий адрес: https://sciup.org/147228512
IDR: 147228512 | УДК: 124.4
Текст научной статьи Творческая пауза как объект внимания философской практики
Философская практика в широком смысле – это способ существования философии, восходящий к античной традиции идеи не просто обсуждать, а им предаваться – целостно, «всеми способностями ума, всей душой и телом» [7]. В узком смысле понятие философской практики ввел в 1981 г. Г. Ахенбах, основав ее как таковую, а также сообщество философов-практиков. Основная ее цель – помочь (другому ли, себе) «понять и быть понятым», улучшить свою жизненную философию, вернуть себе ощущение ценности своей жизни. Цель эта достигается не приложением к проблемной ситуации готовых философских истин, не «обслуживанием» с помощью теорий или методов – а тем самым вечным поиском правильного пути заново , который соответствует духу философии, – поиском, в том числе, и методов [1].
Многообразие форм философской практики сегодня является предметом исследований, дискуссий, обмена опытом в рамках
конференций, семинаров и международного движения в целом [2, 5]. Сформулированы и основные принципы философского партнерства (Р. Лахав, 2014), поскольку философ-практик выступает не в патерналистской роли наставника, а «лишь как напарник и товарищ в мыслях и чувствах», и именно поэтому он способен помочь своему посетителю освободиться, что-то изменить в своем понимании и своих обстоятельствах [1].
Принципы этого партнерства столь же просты, сколько и глубоки. Во-первых, оно «имеет дело с основными жизненными проблемами, рассматриваемыми творческим, критическим и диалогическим способами» [2]. Проблема, в отличие о проблемной ситуации, не заявляет о себе прямо, ее обнаружение уже требует внимания, остранения (М. Фуко) – способности различить ее в потоке обыденных и очевидных представлений. Во-вторых, в этом партнерстве принимается отказ от борьбы за правоту или другой индивидуалистический выигрыш, оно подобно совместной импровизации музыкантов. И здесь мы понимаем, что существует проблема ведения общей темы и настройки голосов/тематизаций в унисон, которая разрешаема только благодаря стремлению к целостности хорошей ориентации в общих основаниях. Наконец, приоритет отдается не интеллектуальным построениям (рассудку), а умозрению, созерцанию «в том смысле, что участники преодолевают свой привычный образ мысли и акцентируются на глубинных, скрытых аспектах своего существа» [2]. Намеренный отказ от необходимости делать с проблемой что-то немедленно (оценивать, решать, интерпретировать и т.д.) лежит в русле экзистенциального подхода, когда видение, признание и принятие проблемы предшествует возможным способам ее разрешения.
Проблема творческой паузы (молчания, бездействия, отсутствия продуктивного результата – например, при написании текста) обнаружена, созерцаема, исследована нами именно в русле обозначенного подхода. Безусловно, это не случай реальной встречи, не вполне акт философской практики, поскольку участники партнерства гипотетичны – это только голоса, концепты, высказывания, которые могут быть лишь обозначены, но не развиты в поставленных рамках. Тем не менее, этот этюд, набросок, может быть примером исследования, которое фактом 56
своего существования не только иллюстрирует подход, но и практически трансформирует исходную проблему.
Итак, первое полезное высказывание о творческой паузе можно извлечь из Лакановского ракурса, характеризующего ситуацию остановки продуктивной деятельности клинически, как невроз. Необходимо понимать, что Лакановский академический психоанализ является философско-аналитическим дискурсом, в котором диагноз выносится не индивидууму, а Субъекту, т.е. «выводит исследование за клинические рамки и позволяет взглянуть на то, как устроена современная эпоха и принадлежащий ей субъект» [4]. Субъект в творческом параличе – не кто иной, как «одержимый желанием», современная жертва «невроза навязчивости».
Его портрет легко узнаваем, в большей или меньшей степени признаки стиля его деятельности мы обнаружим и в себе, и вокруг себя – и в тем большей степени, чем в более интеллектуальной среде мы находимся. Одержимый желанием произвести свой собственный творческий продукт, наш субъект всякий раз остается недоволен результатом, постоянно внося различные изменения и улучшения, всячески отодвигая момент завершения «проекта» – откладывая его на неопределенный срок или принимаясь за другой. Примечательна здесь та степень воодушевления, с которой он берется за очередное начинание, и та степень отторжения по отношению к результатам своего труда, которая нарастает по мере продвижения, вплоть до полной неспособности контактировать со своим творением. Субъект застревает между императивом производить (невозможностью бросить, остановиться), болезненным любопытством, как производят другие (в его представлении, успешные субъекты), и тревогой перед необходимостью предъявить результат на суд публики, сообщества и т.д.
Это описание приложимо к страданиям как студента-дипломника, так и матерого академического деятеля или известного литератора. Обращаясь к исследованию творческого стиля известных писателей, можно увидеть, что все они, так или иначе, испытывали огромную тревогу перед этой «будущей публикой», перед гипотетическим Другим, скрытым за завесой неопределенности. Л.Н. Толстой мог воодушевиться необыкно- 57
венно, увидев сюжет романа, набросать план за несколько дней, обещать, что закончит роман за несколько недель, и затем годами мучительно переписывать текст, не подпуская к себе никого. Э. Хемингуэй не мог двинуться с места, пока не напишет хотя бы одну, только одну правдивую фразу (и он оставил завет «писать пьяным, править трезвым»). Ф.М. Достоевский, как известно, нанял «стенографистку», отбирая «то самое» из множества кандидатур, надо полагать, не только для технического ускорения процесса, но и как благоприятного адресата, свидетеля его творческого процесса – в меру образованного и благоговеющего. Н.Г. Чернышевский безнаказанно резвился, адресуясь к «проницательному читателю» прямо в романе. В. Набоков зашел дальше всех, постановив, что единственный адресат творчества – это будущий он сам, остальные ему неинтересны…
Лакановский дискурс вовлекает нас в то, что существует «тайная причина производства современной культурной продукции» [4] (в том виде, в каком мы эту продукцию знаем). Публичное пространство сформировано таким образом, что предъявляя творческий продукт, «современный субъект не знает, что именно он выставляет напоказ». В отличие от античной ясности, прямо транслирующей образцы и предписания того, что значит быть достойным на публичном поприще, современность предлагает многозначность, втягивая автора высказывания в постоянные оправдания, комментарии и попытки быть правильно понятым. И в качестве одного из «базовых событий», породивших такое положение вещей рассматривается, как это ни парадоксально, философская программа картезианства. Смысл картезианского принципа cogito, ответственного за производство современного субъекта, благодаря которому – как традиционно понималось – «субъекту оказывается доступен акт самосознания, критического и трезвого отношения к себе и окружающему миру», критически пересматривается (в некоторой степени – в духе «герменевтики подозрения»). Обосновывается, что именно cogito представляет собой не залог интеллектуальной трезвости, а основание для навязчивости (попыток бесконечного улучшения, вызванное нескончаемой тревогой) как постоянно бдящий наблюдательный пункт субъекта, умножающего свою осведомленность, которая не способна его освободить. К счастью, именно этот поиск истины о 58
себе самом приводит к более глубокому и реальному самоанализу, где «предстоит порвать свои отношения с истиной и начать образовывать отношения со знанием» (не только тем знанием, которым обладают Другие) [4].
Философско-поэтическое (с заходом в теологическое и физиологическое) понимание творческой паузы предлагает М. Эпштейн, фактически благословляя страдающего автора на выпадение из мира и его впадение в ничто, в ничтожество [6]. Разбирая классическую структуру творческого акта (подготовка, инкубация, озарение, проверка), он вклинивает в самую середину еще одну фазу, для которой затруднительно подобрать название, поскольку любое определенное понятие будет ограничивать его смысл (та же проблема, что и вербальным определением «бытия»). Поэтому здесь предлагается графическое обозначение пустого места через «знак пробела», отсылающего к событию вненаходимости, внеразумности, предсознания. Собственно, это и есть в полной мере творческая пауза, определяемая апофатически, через ничто. Творческое сознание выключается из картины мира в одной точке, а включается в другой, принадлежащей другой картине мира, и такими выпадениями, «ирреалиями» прослоена вся его жизнь [6].
Необходимо подчеркнуть, что М. Эпштейн говорит здесь о паузе не в смысле исчезновения из поля видимых действий (перехода на латентный уровень), где работа, хотя и бессознательно, продолжается – это уже известная стадия инкубации, вынашивания, которая может длиться в некоторых случаях годами. Речь о том, что инкубация и ее выпадения (отвлечение, сон, суета) служат необходимым условиям для более радикальной остановки. Продуктивная сторона творчества должна уравновешиваться, по его мысли, трансценденцией в ничто, в паузу, в молчание, неизбежным и взаимодополнительным процессом. Таким образом, само творчество имеет как «мирское», «производительное», так и «религиозное», «отшельническое» измерение, а творческое нечто сообразно опустошительному ничто [6]. Заметим, что необходимость тотальной паузы как части творческого акта нередко обыгрывается в современной культуре, например, музыкальная пьеса Д. Кейджа 4′33″ представляет собой 4 минуты 33 секунды тишины, полного бездействия исполнителей.
Завершающий аккорд в нашем гипотетическом философском партнерстве на заявленную тему принадлежит А.М. Перлову, чей концептуально-инструментальный синтез в жанре методического пособия по руководству гуманитарными исследованиями конкретизирует способы овладения творческой волей в ситуации контр-продуктивного выпадения в ничто [3]. Как справедливо замечает автор, неуверенность и фрустрацию в работе испытывают все, но опыт ценен прежде всего самим фактом прохождения через «разрыв» («трещину бытия», «травму рождения» в терминах М. Эпштейна) – знанием того, что «головоломка сложится». Поэтому А.М. Перлов предлагает своего рода майевтику – коммуникацию , благодаря которой могущественный Другой (конкретный оппонент, научное сообщество в целом или научный руководитель) должен быть познан прежде, чем текст может быть порожден.
С. 250–258.
URL: https://www.susu.ru/ru/news/2017/08/17/uchenye-organizovali-nauchnyy-seminar-v-koktebele (дата обращения: 22.09.2017).
Список литературы Творческая пауза как объект внимания философской практики
- Ахенбах Г. Короткий ответ на вопрос: Что такое философская практика? URL: http://sergeeva-k.livejournal.com/22727.html (дата обращения: 15.09.2017).
- Лахав Р. Философская практика - quo vadis? // Социум и власть. 2016. № 1(57). С. 7-14.
- Перлов А.М. Руководство (гуманитарным) дипломным проектом как коммуникация и обучение коммуникации: постановка проблемы и типология сценариев. URL: http://window.edu.ru/catalog/ pdf2txt/232/64232/34929 (дата обращения: 22.09.2017).
- Скопин И. Одержимый субъект современности (Рец. на кн.: Смулянский А. Желание одержимого: невроз навязчивости в лакановской теории. СПб.: Алетейя, 2016. 184 с.) // Логос. 2016. № 6. С. 250-258.
- Ученые ЮУрГУ организовали научный семинар в Коктебеле. URL: https://www.susu.ru/ru/news/2017/08/17/uchenye-organizovali-nauchnyy-seminar-v-koktebele (дата обращения: 22.09.2017).
- Эпштейн М.Н. От знания - к творчеству. Как гуманитарные науки могут изменять мир. М.; СПб.: Центр гуманит. инициатив, 2016. 480 с.
- Эпштейн М.Н. Проективный словарь гуманитарных наук. М.: Новое лит. обозрение, 2017. 616 с.