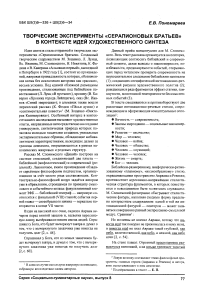Творческие эксперименты «серапионовых братьев» в контексте идей художественного синтеза
Бесплатный доступ
Автор рассматривает экспериментальные образцы малой прозы М. Слонимского и Н. Никитина в контексте идей синтетизма.
Короткий адрес: https://sciup.org/147150539
IDR: 147150539
Текст научной статьи Творческие эксперименты «серапионовых братьев» в контексте идей художественного синтеза
Идея синтеза стала отправной в творческих экспериментах «Серапионовых братьев». Созданный творческим содружеством М. Зощенко, Л. Лунца, Вс. Иванова, М. Слонимского, Н. Никитина, К. Федина и В. Каверина «Альманах первый», вышедший в Петербурге в 1922 году [1], состоит из произведений, жанровая принадлежность которых, обозначенная всеми без исключения авторами как «рассказ», весьма условна. Под единой обложкой размещены произведения, стилизованные под библейское повествование (Л. Лунц «В пустыне»), хронику (В. Каверин «Хроника города Лейпцига»), сказ (Вс. Иванов «Синий зверюшка»); в альманах также вошли лирический рассказ (К. Федин «Песьи души») и «сентиментальная повесть»1 (М. Зощенко «Виктория Казимировна»), Особенный интерес в контексте нашего исследования вызывают художественные опыты, направленные непосредственно на создание универсумов, синтетическая природа которых позволяла молодым писателям создавать уникальные экспериментальные образцы, обладающие амбивалентными характеристиками, выходящие далеко за границы диапазона, открывающегося в рамках канонических жанровых и родовых структур.
Рассказ М. Слонимского «Дикий» построен на системе оппозиций, соединяющей два пласта —-библейский (мифологический) и современный (реальный). Лаконичное, ёмкое произведение обладает серьёзным философским подтекстом, организующимся за счёт целого ряда составляющих. Контекстуально-философский модус задаётся автором уже в обрамлении, строящемся по принципу смыслового и событийного кольца: факультативный элемент ЗФК — библейский эпиграф — напрямую соотносится с финальной (VIII) главой; события первой главы—своеобразного зачина—зеркально повторяются в конце VII части:
Вздев на высокий нос очки, садился Авраам вечером перед книгой заказов и, засветив керосиновую лампу, вычёркивал из книги имена людей. Спрашивал у Бога, кто будет вычеркнут завтра и думал о том, что с вычеркнутого заказчика уже никогда не получить долг [2, с. 44].
Спрашивал у Бога, кто из новых заказчиков будет вычеркнут завтра, и думал о том, что с вычеркнутого заказчика уже никогда не получить долг [2, с. 60].
Данный приём концептуален для М. Слонимского. Весь текст рассказа организуется на повторах, позволяющих соотносить библейский и современный сюжеты, делая выводы о закономерности, неизбежности, предсказуемости событий, открывающих перед читателем проверить современность на неукоснительное следование библейским заповедям (1); создающих специфический интонационно-ритмический рисунок художественного полотна (2); рождающих в ряде фрагментов эффект статики, замкнутости, монотонной повторяемости бессмысленных событий (3).
В тексте смешиваются и противоборствуют две различные интонационно-речевые стихии, сопровождающие и оформляющие концептуальные оппозиции2 :
-
• Вечность — современность;
-
• Законы мироздания — социальные закономерности;
-
• Религия — язычество;
-
• Мир — человек;
-
• Человек— война;
-
• Человек — общество;
-
• Человек — служащий;
-
• Человек — человек;
-
• Жизнь — смерть;
-
• Бог— человек.
Библейски-размеренному, анафорически-ритми-зованному «плавному», «волнообразному» стилю, окрашивающими пространство Авраама и Ревекки, противостоит агрессивно-напряжённая стилистическая структура фрагментов, в которых повествуется о повседневном быте «советских служащих». М. Слонимский филигранно обыгрывает стилистические фигуры, наполняя сходную форму предельно контрастным содержанием: одной и той же интонационной фигурой — повтором — может задаваться совершенно разный экспрессивно-смысловой модус. Сравним3:
Но молитвы не кончил Авраам, потому что никогда ещё так покорно не прижималась к нему жена, и никогда ещё не знал Авраам такой глубокой, как небо , величественной, как небо , и нежной, как небо ночи [2, с. 54] .
На стене плакат. Огромный красноармеец размахнулся винтовкой, а на штыке трепещет толстый купчина. Штык воткнулся в спину и с кончика штыка каплет, густо нарисованная художником, кровь. Два года тому назад размахнулся красноармеец и два года трепещет вздетый на штык купчина. Два года тяжёлым и грубым идолом сидит Иван груда перед людьми, которые говорят с ним обрывающимся голосом [2, с. 45].
Столь же контрастна манера поведения и образ мышления противопоставленных героев: портной Авраам, живущий по божьему завету, думает о продолжении рода, о том, как уберечься от тьмы, опустившейся на людей в страшное, кромешное время, о том, как защитить себя и свою жену от того, что теперь, в эпоху страшных потрясений, называется жизнью:
Вот в эту книгу заказов вписаны все люди, каких знал в жизни портной Авраам Эпштейн, и наготу которых он покрывал одеждой, как Сим и Иафет покрыли наготу отца своего. Когда изменилась нагота людская, покрывал он одеждой уродства человеческие, чтобы не видел глаз рассечённого на войне тела. <...> В эти минуты, перед книгой заказов, думал Авраам о том, что ему идёт уже 51-й год, а жене его 25 лет, и что нет у них ни сына, ни дочери, и что прекратится древний род Эпштейна со смертью его, Авраама [2, с. 44—45].
«Новые люди» одержимы идеей власти, силы, отмщения, по большей части они погружены в состояние войны, противостояния: подавить, подчинить, одолеть любым способом — мысли, владеющие страшной эпохой. Не случайно герой, сюжет-но противостоящий Аврааму, — человек с монумен-тально-рычащей фамилией Груда — сопрягается с лейтмотивным образом идола1, «языческого божества», как оказалось впоследствии, поверженного не только подлыми недоброжелателями, не просто войной, а самой силой божьей идеи, противопоставляющей любовь, смирение и покорность тупой силе, невежеству и агрессии. Путь, избранный новым временем, — это путь в никуда, в тупик, путь к неизбежной смерти, к тому, чтобы из человека превратиться в скупую строчку, вычеркнутую из «тетради жизни» рукой Авраама:
Авраам, прочтя газету, раскрыл книгу заказов и вычеркнул из книги фамилию Ивана Груды. Вычеркнул ещё несколько фамилий [2, с. 60].
Выстраивая орнаментум, окружающий героев-антиподов, М. Слонимский сталкивает контрастные стилистические пласты: поступки, действия и мысли сов. служащих, которых писатель делит на «идолов» и «человечков», предельно конкретны, овеществлены, как и мир, подгоняемый этими людьми под себя. «Идолы» — воюют, кричат, громыхают, устрашают, завоёвывают. «Человечки», не переставая хихикать, растворяются среди понятных и превозносящих их в собственных глазах мелочей: сахара, масла, самовара. Они не живут, а служат, суетятся в поисках удовольствия, очередной интриги, позволяющей продвинуться по службе, собственной выгоды и лакомого местечка. «Круглые», обтекаемые «человечки» торопливо и неискренне произносят «круглые, как шарики... слова» [2, с. 51]. Внешне улыбающиеся и слащаво-приветливые, они, ввиду своего двуличия, гораздо страшней «идолов» с их неприкрыто-агрессивными взглядами на жизнь:
Усадил на трёпаный кожаный диванчик и засуетился по комнате, маленький, кругленький и быстрый.
— А вот у меня хлеб есть. А вот у меня масло. А вот сахар. Мы не какие-нибудь. Тоже советские служащие, в одном учреждении с ними служим и в партии — хи-хи — не состоим. Только они по хозяйственно-административному служат, а мы больше по жилищному, а по хозяйственно-административному наблюдаем, глазом наблюдаем, контролируем — хи-хи-хи — насчёт информации ...<...>
Человечек кружился по комнате и вдруг медленно и важно вынес из какого-то угла пузатый самовар. <...>
Человечек подкатился вплотную, по дивану, к Ревекке ...[2, с. 51]
И одни, и другие неприятны автору, а потому, естественно, вызывают читательское отторжение. Псевдожизнь, уснащённая суетливыми подробностями и странными звуками (криком, хихиканьем и шёпотом), не по душе главному герою, действиями и мыслями устремлённому к человеку, к близким, к Богу, и через это — к будущему:
А в мастерской Авраам утешал жену:
— Ой, не плачь, Ревекка. Всё в руке Бога. Бог сохранит нас в безопасности.
Авраам утешал жену и вот в эту минуту, когда серый свет уходил из мастерской, — в эту минуту поверилось, что не пропадёт его семя бесследно, не оставит его Бог, создавший народ иудейский, чтобы жил вечно, и что будет сын. Вот в эту минуту увидел себя Авраам сильным, как юноша, мудрым и успокоенным, как вечность [2, с. 53].
В поступках2, думах и молчании Авраама — страх за ближнего, боль за людей, за мир, тоска по человеческому уделу и понимание непреложности законов, посланных человеку Богом:
.. .Авраам и Ревекка молились в закатный час богу, обратив лица к Востоку, и закон предписывает: ни на что не смотря, ни в каком случае не прерывать молитв... <..,>
Авраам думал:
— Люди — как волны. Приходят и уходят. Приходят и уходят [2, с. 57—59].
Чувства, которые испытывает Авраам, становятся близки и понятны людям, уставшим от бессмысленного кровопролития, отрывающего их от полноценной, настоящей жизни, лишающего покоя и надежды, вселяющего в человека животный страх и желание убежать, укрыться, спрятаться от чужого мира, чужой воли, чужого глаза, чужих ушей. Экспрессивно выразить это «коллективное настроение» М. Слонимскому удаётся, благодаря введению внутреннего лирико-драматического жанра «голосов». Сегментированный, метризованный текст седьмой главы — уникальный, концентрированный образец синтеза разных типов словесной организации, основанный на контрастах, монтажной архитектонике, пёстром соединении разных ритмов и типов повествования, испещрённый звуковыми, лексическими, синтаксическими повторами, создающими целые ряды периодов:
Об этом можно говорить только шопотом. Только шопотом, нагнувшись к уху, можно говорить, что белые близко, что отступают красные, что по Забал-канскому, галопом и людей опрокидывая пронёсся казачий передовой отряд.
Только шопотом. Только шопотом.
А там, где зарево встаёт на небе и дым стелется по полю, там, где чуется пение снарядов, там нельзя шопотом, там тяжело грохочат орудия, и земля дрожит в городе и звенят стёкла.
Вы слышали? Вы слышали? Вы слышали? Белые штурмом берут Петропавловскую крепость.
Шопотом. Шопотом. Мальчишка, торговавший на углу Литейного и Бассейной папиросами, сказал: «Не хочу воевать», и ушёл к белым. Весь полк ушёл к белым. Какой полк?
Тшшшш... До восьми часов выходить. После восьми арест. Вы слышали? Вы слышали? Вы слышали? [2, с. 57]
Усиливая выразительность фрагмента, нюансируя изображаемые ощущения, М. Слонимский, не нарушая ритмических характеристик главы, завершает отрывок приёмом градации:
Тихо. Тихо. Даже не шопотом (1). Даже не шевелить губами (2). Даже сердцу не биться (3). Сердце стучит слишком громко. [2, с. 57]
«Венцом» фрагмента становится экспрессиони-стски-устрашающий, «рваный» и в то же время ре-алистически-мотивированный пейзаж: перед читателем разворачивается не картина кромешного энтропийного хаоса, а хаоса, в который человек бросает человека — хаоса бессмысленного историческо го противостояния — гражданской войны. Контрастность, дробность и механистичность образов, составляющих ночную картину, не компенсируется даже «библейски-повторяющимися» союзами «и», придающими тексту лишь формальную периодичность:
Ночь. Прожектор рвёт небо, и бегают по чёрному небу белые круги и аэроплан играет в жмурки с прожектором. Грузовики, взметая вокруг шум и грохот, проносятся из темноты в темноту. Трамвайные платформы ждут на углах, и костры горят на углах, и блестят винтовки, переходя из темноты через свет в темноту [2, с. 57].
Это мир, данный через призму восприятия людей, уставших воевать. Не случайно пейзаж композиционно сополагается с «драматургическим» фрагментом — диалогом обезличенных героев, «выхваченных» из окопной темноты:
— .. .Я был здоров, весел, счастлив. Но пять лет войны измотали мою душу.
— Я тоже воюю уже пять лет. С кем я не воевал? С немцами, С Петлюрой, со Скоропадским,с Махно, с белыми, чёрными, зелёными... Я не воевал только с красными. Я никогда не буду воевать с красными.
— Я не хочу ни с кем воевать... [2, с. 58]
Седьмая глава характеризуется внутренним сегментированием — графические эквиваленты текста в виде отточий по ширине строки маркируют границу не только смысловых, жанровых, но и ритмических блоков. Композиционная и ритмическая организация этой части рассказа в наибольшей степени соответствует канонам поэтического текста: по сути М. Слонимский использует «двойное рондо» — вначале буквально1 закольцовывая композицию седьмой главы, а затем, после второго отточия, — всего рассказа. Говоря о «внутреннем кольце», нельзя не отметить его полифункциональный характер: помимо участия визуально выделенного, «врезанного» отточиями, фрагмента в организации системы лейтмотивов, середина седьмой главы, обладает функцией «ритмической оркестровки» — пульсирующий градационный ритм, создающийся за счёт наращивания периодов2, музыкально организуется по подобию ослабевающего, утихающего сердцебиения:
— В ряды стройсь! Напле-чо! Ать-два! <...> На-пра-во! Ать-два! Шагом...-арш! Ать-два! Ать-два! Ать-два!.. <...> ■
Сердце стучит слишком громко. Тише. Тише. Вы слышали? Вы слышали? Вы слышали? Ничего не слышали. Ничего не слышали. Ничего не слышали. Даже губам не шевелиться. Даже сердцу не стучать. Сердце бьётся слишком громко... .
Вы слышали? .
Да, мы слышали [2, с. 58],
Конец фрагмента становится точкой интонационного, сюжетного поворота: из напряжённо-взвинченного пространства внешнего мира читатель снова переносится в тихий, понятный и привычный мир героя — точку формального и нравственно-этического отсчёта событий. Ритмические характеристики утрачивают напряжение, им сообщается монументально-библейская анафоричность, создающаяся за счёт использования параллельных конструкций в зачинах фраз, активного инверсирования, ме-тафоризации, введения плеоназмов1. Стилистические фигуры усиливаются подчёркнутой аллитерацией2 , всё это вкупе окрашивает финал высоким пафосом и ещё раз свидетельствует об экспансии стихового начала в тексте М. Слонимского:
... Ребёнок кричал , отворачиваясь от моря. Ребёнок кричал, потому что море было слишком большое. Ребёнок кричал, потому что знал, что ... [2, с. 59]
Сочетание бытийного и социально-исторического контекстов, соединение конкретно-исторической и этико-философской проблематики, подчёркнутое внимание к частному миру человека обусловили создание синкретичной художественной модели, опирающейся на синтез родовых (эпос, лирика, драма), методологических (реализм, романтизм, экспрессионизм), жанровых (рассказ, лирическая про- за, притча, сказание, драма) и стилевых принципов.
В качестве уникального артефакта, пожалуй, не имеющего аналогов в новеллистике 1920-х, можно рассматривать другое произведение «серпионовцев» — рассказ Н. Никитина «Дэзи». [3] С одной стороны, читателя увлекает пронзительная, удивительно поданная история тигрицы Дэзи (точнее, двух тигриц—матери и дочери), а с другой, — всё это время его не покидает ощущение предельной дробности повествования, создающееся за счёт сложного сегментирования текста, монтажного соединения небольших по объёму текстовых фрагментов, разбитых на главки, обладающие разнофактурной графической презентацией. Композиционно произведение делится на два блока. Первый — наиболее эклектичный — разбит на 10 пронумерованных фрагментов и один фрагмент без номера, озаглавленный «Немножко о себе. (Без-но,мерная главка, совсем случайная)». В силу их подчёркнутой фрагментарности, «обрывочности» данные сегменты трудно именовать главами и даже главками: шесть из них (5,6,7, 8,10,«без-номерная главка...») представляют собой миниатюрные, но всё же самостоятельные, внутренне завершённые текстовые единицы; пять других — по сути, являются фрагментами во фрагменте — различного рода выдержками, визуальнографический облик которых целиком обусловлен характеристиками «жанра-первооисточника».
Первая главка3 внешне напоминает эпиграф (цитата из А. Блока с указанием автора цитируемых строк) и, в соответствии со смысловой нагрузкой этого факультативного элемента ЗФК, является концептуальным маркером произведения, сигнализируя о его глубинном смысле. Однако Н. Никитин модифицирует традиционную композицию и наделяет этот элемент статусом самостоятельного раздела, первой — не факультативной — а обязательной, предельно значимой, камертонной части, рифмующейся с последующими фрагментами. Более того, на цитате делается акцент не только за счёт того, что она маркирована номером «1.» — сильная, акцентная позиция фразы удваивается визуальным выделением на пустом пространстве страницы путём набора не по правому краю (как это соответствует композиционному статусу эпиграфа), а по центру, как и все остальные части:
-
1 . Я сам не знаю, О чём томится Моё жильё?
А. Блок [3, с. 60].
Второй фрагмент — «Случай в конторе» — драматическая микросценка, организованная при помощи соответствующих канонам жанра диалогических конструкций, усиленная приёмами, свой- ственными поэтически организованным текстам, -— повторами, взвинченным, «рваным» синтаксисом, обусловленным характером событий, о которых идёт речь; явной эвфонической тенденциозностью. Читатель, не погружаясь в контекст всецело, лишь «выхватывает» наиболее значимый фрагмент, попадая в эпицентр странного, но очень волнительного диалога, суть которого проясняется уже в следующих частях:
— Грызёт...
— Что грызёт?
— Дэзи котят грызёт...
—Сейчас, Петер, надо скорей! Какой вы право, надо скорей. Отнять надо! Так долго работаете, она вас знает.
— Страшно.
— Страшно... Глупости...
— Господин Бок! Грызёт. Господин Бок. Страшная... "
Хвостом бьёт. . -
— Я сам... Я сам... [3, с. 60]
Третья часть — выдержка из экстралитера-турного жанра, популярного в новеллистике (как и в самой действительности) 20-х, — протокола. Как и в примерах, рассмотренных нами в разделе, посвящённом визуально-графическим экспериментам в прозе этого периода, текст строится по подобию документа. В нём используются иноприродные для художественного, но соприродные официально-деловому стилю — цифровые знаки; вводятся специфические средства композиционного набора — фрагмент печатается в две колонки, правая из которых содержит собственно информативную часть текста, левая — его конспективные протокольножанровые характеристики. ЗФК и текстовый массив оказываются композиционно и жанрово неделимыми — заглавие маркирует характер документа и плавно переходит в его содержание, нумерация зрительно сигнализирует о фрагментарном характере представленных записей:
|
3. ПРОТОКОЛ №317 |
Совета по наблюдению над Зоологическим садом.
|
7) Заявление Г-на Управляющего Зоологич. Садом |
Заслушав, Совет постановил: выразить благодарность Г-ну Управляющему Зоологич. Садом за его распорядительность и выдать ему награду из сумм, предназначенных на неопределённые расходы. <...> |
|
8) Доклад Г-на Ш.....о вымирании редких экземпляров. |
Считаясь с наличием войны и вследствие этого с отсутствием ввоза из Гамбур-' га для пополнений, предложить администрации и служебному персоналу принять усиленные меры к сохранен нию и воспитанию приплода [3, с. 61]. |
Такое начало может обманчиво произвести на читателя впечатление игривой небрежности, несерьёзности маленькой прозаической вещицы, которая на самом деле оказывается очень серьёзным и глубоким произведением. Постоянно перестраивающийся (от фрагмента к фрагменту) читатель, не успевающий приспособиться к причудливо меняющемуся повествованию, неожиданно «спотыкается» уже на второй странице текста — в главке четвёртой, имитирующей «записи» из блокнота «неизвестного господина». Этот микрофрагмент, несмотря на свою сверхминиатюрность (3 строки), оказывается сюжетно-, композиционно- и концептуальнозначимым в контексте произведения. Притчеобразный по характеру, он обладает абсолютной внутренней сюжетной завершённостью, единым ритмом, единым настроением, единым пафосом и единой смысловой окрашенностью, специфической метрической организацией, свойственной лиро-философским миниатюрам:
Человек шел. Под ногой спичечный коробок. Поднял. Открыл. Ничего, кроме обгорелой спички. Человек этот был несчастен и наг душой. Через час — он повесился [3, с. 61].
Последующие главки, гранича между собой, стилистически сталкиваются друг с другом, и всё же у читателя не возникает ощущения знакомства со случайным набором фрагментов. Каждая из главок первой части сосуществует в едином комплексе, обрастая новыми, дополнительными смыслами, рифмуясь с другими частями интонационно, собы- тайно и даже текстуально за счёт жанровых, образных и мотивных повторов, пронизывающих произведение, придающих ему особый волнообразный ритм и организующих его по принципу интеллектуального монтажа. Пятая главка — «Телефонный диалог» — воспринимается как продолжение второй и графически оформляется совершенно идентично; шестая — «Сны Дэзи» — «рифмуется» с первой, выступающей в роли эпиграфа; третья — с восьмой («Из газеты “Северный голос”, № 181») и десятой («Две телеграммы»); четвёртая — с седьмой («Письмо Петэра») и девятой («Ненаписанное произведение П. Альтенберга»); каждый из разделов первой части выливается в' лирическую историю, описанную во второй части произведения — главке одиннадцатой — «Эпопее “Небо”», являющейся рассказом в рассказе и дробящейся на 6 приблизительно равных друг другу по объёму сегментов*. Функцию «переходного мостика» между частями выполняет главка «Немножко о себе», не случайно заявленная автором как «без-номерная», чем подчёркивается её особенный, выделительный статус. Завершающей является однострочная 12-я главка, композиционно и концептуально венчающая произведение в целом. Таким образом, можно с абсолютной уверенностью утверждать, что композиционное решение произведение не только не хаотично, напротив, разрушая в первой части каноническую новеллистическую модель, автор выстраивает очень сложную, прихотливую синтетическую систему, основанную на диалектически рифмующихся оппозициях.
Яркость, неординарность и запоминаемость произведения во многом связаны с одновременным задействованием Н. Никитиным в рамках малого жанра не только ритмического2, но и других видов монтажа: используя технику метрического монтажа3, писатель комбинирует в обозреваемом диапазоне предельно выразительные фрагменты текста разной длины, зрительной (проистекающей от жанровой) фактуры. На одном развороте может трижды меняться шрифт и колебаться плотность текста, что не просто вносит разнообразие в изобразительную ткань, а создаёт эффект достоверности, непосредственного знакомства с «документом»: на с. 64-—65 контра- стно сополагаются нейтральный шрифт главки «Сны Дэзи», которым набрана большая часть текста (1), курсив (2), имитирующий почерк адресанта («Письмо Петэра») и убористый .газетный шрифт, на странице с увеличенным левым полем, стилизованный под каноны газетного набора (3) («Из газеты “Северный голос”, № 181»),
Тональный (обертонный) монтаж провоцирует читателя на сотворчество, он вызывает необходимость самостоятельных усилий4 для правильного восприятия и истолкования увиденного и прочитанного. Специфический формат страницы позволил Н. Никитину в очередной раз соединить, казалось бы, несоединимые по дискурсивным, интонационно-эмоциональным характеристикам фрагменты — ненаписанное произведение, телеграммы, лирическую исповедь и начало второй части — эпопею «Небо». Эффект удивления, заданный в начале текста, постепенно отступает: «врезка» в виде документально-овеществлённых телеграмм уже не сбивает читателя с толку, автор сообщает реципиенту нужный модус восприятия за счёт нарастания философской окрашенности, концентрации лиризма, нужной интонации, пронизывающей главки, непосредственно предшествующие второй части, — эпопее «Небо».
Сюжет не разрушается, как это могло показаться вначале, напротив, он собирается из осколков, множится, пунктирно перераспределяется, рифмуется, варьируясь в судьбах разных героев, испытывающих состояние и настроение близкое к тому, что, как ни странно, ощущает животное. Перед читателем открывается возможность, распутывая интеллектуальные лабиринты, несколько раз пережить кульминационные всплески, распределённые по нескольким главкам. И в то же время новелла остаётся новеллой — сохраняется её метонимический принцип «единство в множественности».
Функции носителей жанра перераспределяются: классические субъектная организация и хронотоп присутствуют лишь во второй части («Эпопее “Небо”»); но произведение, вопреки внешней дробности, обретает целостность, благодаря единой теме, идее, настроению, пафосу, подчёркнутому лиризму, которым окрашена большая часть повествования, системе лейтмотивов, «прошивающих», скрепляющих причудливые фрагменты, формирующих из них единую канву.
Синтетическая природа произведения определяется его метажанровыми характеристиками: соединяя романтический и реалистический мирообраз, писатель закономерно ищет адекватные жанровые механизмы, позволяющие наиболее полно и ярко воплотить концепцию действительности, находящейся на грани романтического двоемирия и реалистического жизнеподобия. Отсюда — синтетиче- ская природа лиро-эпического жанра, размытый характер дискурса, в котором сливаются различные типы словесной организации, «озвучивающие» внутренний мир героев и внешний, существующий как данность, независимая от их воли.
Концепция выстраивается на оппозиции мечты и действительности, рождающей смысловые антиномии свобода — несвобода, выбор — его отсутствие, персонифицирующиеся в контрастных образах, составляющих замкнутое и открытое пространство. Замкнутое — составляет предел, отведённый герою какой-либо силой (судьбой, людьми, обстоятельствами). Оно, меняя свои пространственные контуры (зоологический сад; клетка, комната, постепенно сужающаяся до тёмной непонятной комнатушки; чужая страна, ковёр арены), не утрачивает главного качества — предельности, границы, перейти которую, не принеся жертвы, — за гранью возможностей. Человека ограничивает, стягивает, прежде всего, его разум, не позволяющий поступать так, как мечтается. Мучаясь от безысходности, он всё равно загоняет себя в тупик — долготерпение или смерть — весьма сомнительная оппозиция, но если не это — предательство, которое также не приносит счастья и по-прежнему рвёт и опустошает душу. Человек повисает в воздухе между полюсами: «покориться», как этому учит природа, — «не покориться», как этого хочется, как учит этому та же природа. Эти оппозиционные исходы излагаются в лирических главках, первая из которых носит философский оттенок и обращена к сознанию, вторая — исповедальный крик «человека чувствующего». Эти фрагменты, будучи концептуально прикреплёнными, неотделимыми от произведения в целом, в то же время обладают относительно автономным статусом, маркером которого (помимо внутренней организации) являются их заглавия, указывающие на целостность и самостоятельность — «9. Ненап. произведение П. Альтенберга»1; «Немножко о себе. (Без-номерная главка, совсем случайная) ».
Антиномичность смысла подчёркивается контрастным стилем. В первом случае перед нами композиционно стройный, «отшлифованный» фрагмент, обладающий внутренним движением мысли, строящийся на повествовательных и лиро-философских перебивках, организованный логическим посылом романтического автора достучаться до умов и сердец читателя. В центр микроновеллы попадают острые, предельно значимые события, организующие оппозицию смерти — жизни (её содержания и смысла). Автор, создавая гимн природе, вносит в текст эмоционально-лирическую стихию, насыщает его инверсированными ритмизованными конструкциями, задаёт специфический волнообраз- ный ритм не только за счёт особого построения фраз, но и за счёт внутреннего чередования композиционных блоков. Вмешиваясь в повествование, автор выносит свои размышления в сильную позицию — в финальные абзацы, напрямую эмоционально обращаясь к читателю и обрывая повествование на риторическом вопросе:
Она была стара, с лысеющим хребтом и слабыми зубами, эта обитательница джунглей, а ныне экспонат Зоологического сада. Её случайный муж — тигр, умер от туберкулёза. И дети, последняя радость, рождённые за железом, стали для неё последней горечью.
Говорят, что человек сильнее; увидев, что жизнь сожжена, как обгорелая спичка, которую уж незачем прятать в коробок, он разбивает и этот коробок — он кончает самоубийством. Но эта сила — воля к жизни и смерти, мнимая сила, так как покорность природе требует большей силы. Зверь послушно ждёт конца. Его терпение мучительно, но величественнее и красивее, чем секундный пистолетный огонь, сразу кончающий счёты.
Тигрица медленно умирала под бойкий ритурнель весёлого оркестра в соседней Bierhall.
Люди, изучающие эволюцию происхождения видов, не ошибаетесь ли вы, увенчивая собой пирамиду, строющуюся от амёбы до вас.
Я хочу сказать: «Неужели вы — венец творения»? [3, с. 66]
Безномерная главка — бесфабульна, это непосредственно лирическая исповедь, ведущаяся от первого лица, точнее крик души, оформленный в совершенно иной манере: текст вертикально организован, предельно фрагментарен, парцеллирован, ритмизован, насыщен интонационными стилистическими конструкциями, эмоционально пределен; эмоциональная составляющая предельна уже с первых строк. По типу организации отрывок гораздо ближе к лирической, нежели эпической родовой парадигме (первая строка написана пятистопным ямбом):
Хочу сказать, а мне кричат: не надо!
А у меня тоска. Чем избавиться?
И, когда хочу об этом поведать, друзья говорят: ли рика! И смеются над утробной моей лирикой.
А мне: надо! надо!
Хоть и нет подходящих слов.
Приятно многим, аплодирующим, когда я циркачу по арене. На арене, как теперь пишут — у ковра — Ры жий Франц. Да! Верно!
Я, рыжий Франц, выклеиваю для публичного удовольствия хитрую мину, словечко, позу.
И живу... живу.
На люди, на прогулку шествую...
Впрочем — кому какое дело... <...> [3, с. 67]
В кульминационной главе аккумулируются мотивы одиночества, тоски, предопределённости, опасного, надоевшего жизненного круга1, определяющие структуру и содержание второй части рассказа — главки 11. — «Эпопеи “Небо”».
Во второй части рассказа повествование обретает характер романтической аллегории: молодая тигрица одержима чувствами, которые, так или иначе, испытывает каждый герой. Её тоска носит высокий оттенок, она обусловлена отнюдь не воздействием того мира, который окружает Дэзи. Её причина — отдалённость мечты, отсутствие близкой понимающей души, своего жизненного круга:
Только ли корм... Когда тоска. Отчего тоска? Не потому ли, что в туманные дни — ничего нет кругом, ни деревьев, ни неба. <...>
Уборщица, лукавая Геля, не знает: только ли корм... когда тоска...[3, с. 79—80]
И это чувство, замыкающее в кольцо2 любое живое существо, обладающее разумом и чувством,—общее для всех героев рассказа:
.. .он (хозяин — Е. П.) толковал о тоске, что ест человека, как вошь, о тоске, о пыли, появляющейся неизвестно откуда. .. [3, с. 73]
«Эпопея...» исполнена лирического чувства, мир Дэзи существует в двух измерениях — бытовом, вынужденном, удивляющем и пугающем и природном — стихийном, живом, понятном и желанном. Эти полюса пересекаются лишь на какое-то мгновение, потому что они организованы совершенно по разным законам, сблизить их окончательно — трагически невозможно. Воплощением концепции становится удивительный стиль повествования: Н. Никитин сталкивает поэтически организованные фрагменты (основанные на нагнетании синонимических рядов, активном инверсировании, метафоризации3), используемые для выражения мироощущения, настроения, чувств героини, и контрастные им «рубленные» чеканные, фразы (подобные ударам метронома, эллиптические конструкции, усиленные интонационными паузами), подчёркивающие монотонность надоевшей обыденной жизни:
Прутья крепки, люди осторожны.
Утром — холод, днём — тоска, а вечером — обезьянье мясо.
Всё то же, всё одно... [3, с. 76]
Эффект монотонной, «цепной» цикличности происходящего усиливается за счёт постоянного использования повторов (в том числе и интонационных):
До четырёх у хозяина — работа, в четыре — обед, после обеда — снова работа. Скучно живут люди. Почему не научатся они — просто лежать на подоконнике и смотреть на деревья, как растут почки и как клюют мух болтливые птицы [3, с. 74].
Полюса мира лишь на какое-то время сливаются в наивном сознании Дэзи на основе общности припоминаемых и испытываемых ощущений; приметы реальной действительности воспринимаются не просто в красках и звуках — природа олицетворяется, детали «чужого» мира окрашиваются в понятные краски, пропитываются запахами и звуками, оживают, персонифицируясь в экспрессивных образах:
День длинен. Не дождёшься, пока приползут ленивые червяки — сумерки и голые комнатные стены затускнеют слежавшейся травой. Полизать её — невкусно, пахнет пылью [3, с. 68].
Балансируя на грани прозаического и поэтического типов словесной организации, Н. Никитин, с одной стороны, делает повествование предельно «вещественным», достоверным: читатель не только видит, он слышит описанный фрагмент за счёт активно нагнетающейся звукописи, пронизывающей несколько абзацев текста. С другой — эвфонические приёмы, являясь прерогативой поэтического текста, наряду с лексическими, синтаксическими и интонационными повторами, восходящими к мифическому сознанию, весьма органичному в рамках авторского мирообраза4, придают фрагментам характер ярко выраженной ритмической структуры5:
За шпалерами шелест мышей, шуршит неслышными шажками живое за шпалерой. Дэзи морду в лапы— и тише! Шорохнулось, смолкло — Дэзи прикрыла веками глаза, задрёмывая. И лишь шмыгнула мышь в кормушку, сощурились веки...<...> Мышка вышла на край кормушки. Скачок. Ударом
Е.В. Пономарева лапы сразу. Где мышка? Вон серый мячичек весело подлётывает в дэзиных лапах. <.. .> Опять шевельнулось живое, просится в уши зашпалерный шум, насторожилась Дэзи, обнюхала стены, выскрёбывая ушами малейший шорох. Обои когтями — скорее! Вдрызг разодрала... [3, с. 73]
Повествование, целью которого является выражение чувственно-эмоционального состояния субъекта, приобретает лирический оттенок, наполняясь по-этически-экспрессивной, ритмизованной описатель-ностью, расширяющей ассоциативный фон:
Дэзи глядела в окно — на серый ночной бульвар.
Когда нет никого, он, онемев, лежит, потягиваясь и упираясь ногами в край зелёного неба, ночью спускающегося низко к крышам, где в прогалинах труб бродит, улыбаясь, белый рогатый месяц [3, с. 71].
Когда затеплели дни — солнце сгрызло со стеклянной крыши ледяную корку. Этим годом круто набежала на город весна, как буря — внезапно [3, с. 76].
В людях есть сходство, как в небе; люди меняются так же, как небо [3, с. 78].
Ночью, когда крякает деревянно медведь во сне, — по небу, по пуховым тучным дорогам прогуливается, неспеша, рогач.
И только одно живое: небо.
Из клетки слышишь улицу, видишь сад, крыши и небо. Люди приходят, уходят. А стенка одна: небо [3, с. 80].
Приведённые примеры рассредоточены по шести главкам, включённым в «Эпопею “Небо”, однако наибольшей концентрации такой способ изобразительности достигает в кульминационной, шестой главке, концентрирующей эмоционально-образные ряды, полярные ощущения, настроения, оппозиционные составляющие концептосферы произведения. В каждой из пяти частей повествование строилось на эмоциональных перебивках, контрастно оттеняющих дихотомию свобода — несвобода. Эти оппозиционные категории являются ядрами ассоциативных центров: свобода (=мечта, идеал) <=> небо « река о ночь <=> луна <=> земля <=> камни о музыка (в т.ч. песня, «ветряная», «облетающая небо»); свободное движение; родина, (у героев конкретно определимая, у тигрицы персонифицирующаяся в образе далёкого и незнакомого, но страшно манящего и притягательного места с неясными очертаниями, но с поэтическим названием Ганг);
несвобода ^действительность) о клетка <=> окно « солнце <=> звуки бича <=> чужой дом <з> чужая страна <=> отсутствие возможности волеизъявления о отведённая судьбой роль, «заточение» в границах дозволенного <=> непонятные, неблизкие и пугающие события: война, революция (в сознании Дэзи ассоциирующиеся с ударом бича1) <=> жизнь вмес- то желанной смерти <=> смерть вместо мечты <=> крушение иллюзий.
Сон, являясь устойчивым мотивом и приёмом, в рамках данной концептосферы получает смысловую нагрузку пограничного состояния, иллюзии, временно отгораживающей героев от действительности.
Уже во второй главке через сон Дэзи и последовавшие за этим реальные события реализуются романтические мотивы опасности, предопределённости, трагической несовместимости иллюзии и максимально отстоящей от неё реальности, зеркально предваряющие события 6 части. Сон представляет собой удивительно яркий экспрессивный отрывок, построенный на оксюморонных смысловых, образных и эмоциональных перебивках, сюжетная логика которого, трансформировавшись в промежуточном эпизоде, проецируется на финальную часть:
К ней приходил огромный человек, в обезьяньей шерсти, и из его удивительных глаз медленно лился, грея, широкий луч. Человек пел о том, что он брат солнцу и отец птиц, тигров и дерев. А обезьяны, приседая, корчили с него рожи. Сгребя одну лапой, треснул черепом о камень, хрустнуло. Капли на камне. Хочет засыпать землёй, да капли пропотевают на камне упорно. Краснеет камень и плачет человек от обиды и жалости [3, с. 75]. Дэзи рвёт прутья клетки.
Клетка качается легче щепки. Скверно! Бежать хочется по земле, чтобы чувствовать лапами земляную сырь. Клетка качается — солнце ловит клетку. Гремит телега кованым шумом и люди на улице улыбаются Дэзи. Зачем прутья кругом из железа? Надо — землю, деревья и камни. Надо! [3, с. 75]
Однако конфликтная ситуация, набирающая темп, нарастающая в предыдущих главках с разной степенью интенсивности, достигает трагического разрешения именно в шестой, кульминационной части «Эпопеи...». Шестая главка представляет собой образец динамичной полиструктурной прозы, соединяющей прозаические (действительность) и метрически организованные (иллюзия идеала, путь к мечте) фрагменты, связывающей все смысловые и ассоциативные нити в единый узел. Пожалуй, это единственная глава, обладающая линейно разворачивающимся новеллистическим сюжетом, строящаяся по жанровым канонам новеллы, основанной на исключительном случае. Спирально раскручивающиеся события происходят на фоне романтического пейзажа, ассоциативный фон, в силу своей предельной концентрации, порой затмевает само действие. Все составляющие образного ряда, ассоции- гулом. Дэзи с болью думала о бичах. В уличном крике забывала, что не кормили уж два дня. Дэзи понимала этот шум. Дэзи выла, отвечая людям.
Пришёл мальчишка, подвязавши щёку. Сторожа сгрудились в стаю, разговаривая.
— Свобода, друг... Революция...
— Товарищ надо... товарищ [3, с. 77].
рующиеся с концептом «свобода», образуя романтически окрашенный, восходящий к мифологическому сознанию лирический пейзаж, сливаются в этой части в единое целое, сопровождая Дэзи на её пути к идеалу1: ■
В соседний клетках воют звери о лесах, о буре и весенних оврагах. Кто же из них знает, что за стенкой, за небом — Ганг , радостный — как музыка .
Однажды ночью — когда на холод выглянул, оскалясь, мордатый рогач , и сад, поёживаясь, заснул, — Дэзи нечаянно отворила дверь клетки.
Под лапой пищит гравий. Дэзи пугается синей тени — сбоку, и несётся к забору. А рогач хохочет: есть что показать человеку, и птице, и тигру...
Дэзи ищет путь: лунная морда у шпица, шпиц мерцает в лунной морде. Там конец и начало.
Круглится грудь, ходят уши, сжались мускулы <...> Занозив лапу, взвизгнула Дэзи, а луна ждёт и смеётся.
Спустилась по песку к ночной темной воде — в неё уходило небо с луной . И было два неба и две луны : вверху всё в высверках и внизу спутанное сумраками. Дэзи завыла. Везде река — от реки сырой холод — и небо дрожит. ..<...>
И сейчас же вытянула блаженно хвост: ведь там у шпица музыка заиграла знакомую, ветряную песню . ту лёгкую, сильную и широкую, — облетающую небо [3, с. 81].
Лирическое, опоэтизированное описание пути Дэзи навстречу своей мечте неожиданно сменяется в финальной части главки контрастным «рубленным», ударным ритмом, сопровождающим трагическую кульминацию и последовавшую за этим развязку: «знакомая ветряная песня» после «колкого и гулкого выстрела», подобного удару бича, произведённого незнакомым человеком, заглушается для умирающей тигрицы другой музыкой — хлёсткими, громкими ударами барабана, продолжающего звать её к Гангу:
Прислушавшись, встала Дэзи и, шатаясь, пошла к шпицу.
Надо — надо —надо!
Рокотом звал барабан: ра-ра... тра-та-та...
Барабан звал к Гангу. Наконец. Тут. Рядом [3, с. 81] Смысловым итогом, трагической чертой, маркирующей иллюзорность, невозможность достижения мечты в повседневности, «разводящей» объективный и субъективный планы, является скупая нарочито-прозаическая и беспристрастная выдержка из учебника географии, данная в виде резюме-одно-строчия, венчающего произведение в 12-й, итоговой главке:
Река Гангъ протекаеть въ Индш [3, с. 81].
Синтез романтического и реалистического миро-образов позволил Н. Никитину создать универсум, основанный на органичном соединении лирической субъективности и эпической объективности. Используя разные типы словесной организации, писатель соединяет элементы, восходящие к оппозиционным родовым началам (лирическому, эпическому, драматическому), сочетая свойственные им способы визуально-графической презентации текста, открывая специфические возможности композиционного членения произведения. Пограничный характер жанра обусловил создание жанровой модели, соединяющей предельную романтическую дискретность с линейностью классического повествования и, следовательно, привёл к раскоординации привычной нагрузки, свойственной носителям жанра, изменению иерархии внутри скреп, оформляющих трансформированную жанровый образец. Разрушение канонических новеллистических принципов субъектной организации, деформация традиционного новеллистического хронотопа, сюжетная разветвлённость, подчёркнутая композиционная сегментированность, наличие внутренних жанров и сюжетов внутри целостной мозаичной истории, интонационно-ритмические перебивки компенсируются, «нейтрализуются» в этом экспериментальном художественном образце единством авторской идеи, выраженной через насыщенный, активизированный ассоциативный фон, концентрацией эмоционально-экспрессивной стихии повествования, единым пафосом, сложной, разветвлённой системой лейтмотивов, организующих концептуальное антиномическое пространство рассказа.
Список литературы Творческие эксперименты «серапионовых братьев» в контексте идей художественного синтеза
- Серапионовы братья. Альманах первый. -Пб.: Алконост, 1922. -126 с.
- Слонимский, М. Дикий/М. Слонимский//Серапионовы братья. Альманах первый. -Пб. Алконост, 1922. -С. 44-59. 3.
- Никитин, Н. Дэзи/Н. Никитин//Серапионовы братья. Альманах первый. -Пб.: Алконост, 1922. -С. 60-81. 4.
- Шмид, В. Орнаментальный текст и мифическое мышление в рассказе Е. Замятина «Наводнение»/В. Шмид//Русская литература.-1992.-№2. -С. 65.