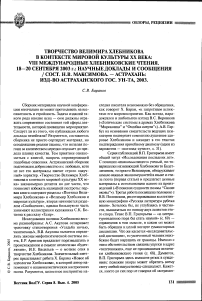Творчество Велимира Хлебникова в контексте мировой культуры XX века: VIII международные Хлебниковские чтения. 18-20 сентября 2003 г.: научные доклады и сообщения / Сост. Н.В. Максимова. - Астрахань: Изд-во Астраханского гос. ун-та, 2003
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14975064
IDR: 14975064
Текст статьи Творчество Велимира Хлебникова в контексте мировой культуры XX века: VIII международные Хлебниковские чтения. 18-20 сентября 2003 г.: научные доклады и сообщения / Сост. Н.В. Максимова. - Астрахань: Изд-во Астраханского гос. ун-та, 2003
Сборник материалов научной конференции изначально не может претендовать на все-охватность и стройность. Задача изданий такого рода вполне ясна — они должны отражать современное состояние той сферы деятельности, которой посвящено мероприятие. Следует ли из этого, что публикация любого доклада неизбежна? Разумеется, составитель сборника не просто сортирует материал, но сегодняшние реалии таковы, что нелепая погоня за количеством нередко опускает до предела планку качества. Тем приятнее ознакомиться с книгой, напрочь опровергающей подобные опасения. Астраханский сборник подготовлен добросовестно и с любовью, хотя не все его материалы имеют строго «научный» характер. «Творчество Велимира Хлебникова в контексте мировой культуры XX века» закономерно делится на две части, что позволяет избежать излишней пестроты: первая книга содержит разделы «Поэтика Велимира Хлебникова» и «Велимир Хлебников и мировая культура», вторая начинается разделом «Сообщения», однако большую ее часть занимают иллюстрации художника С. К. Бо-тиева к рассказу «Есир».
Исследования поэтики Хлебникова весьма разнообразны: А.С. Акулова оспаривает трактовку стихотворения «Усадьба ночью, чингисхань!», В.В. Акулова пытается определить законы мифопоэтической системы поэта, Е.Р. Арензон предлагает поразмышлять о происхождении и смысле неологизма «будет-лянин», И.Е. Васильев — о мотиве огня в творчестве Хлебникова. Значительный интерес представляет работа X. Барана «Новое об идеологии Хлебникова», в которой автор напоминает о националистических настроениях поэта. Разумеется, целостное восприятие на-
Вестник ВолГУ. Серия 8. Вып. 4. 2005
следил писателя невозможно без обращения, как говорит X. Баран, «к запретным аспектам» его мировосприятия. Как всегда, парадоксален и любопытен взгляд В.С. Воронина («Логические системы в драмах Хлебникова “Мирсконца” и “Ошибка смерти”»). А.В. Гар-буз на основании свидетельств ведущих психиатров подвергает сомнению душевное здоровье Хлебникова и находит в его текстах подтверждения врачебному диагнозу (один из вариантов — «шизоид-аутист», с. 31).
Серия публикаций В.П. Григорьева имеет общий титул «Исследования последних лет». С позиции «инакомыслящего» ученый, по-товарищески называющий Хлебникова то Будет-лянином, то просто Велимиром, обнаруживает немало важных закономерностей в языке и стиле поэта (первая статья) и предлагает ценные материалы к истолкованию одного из произведений («В поисках сущности поэмы “Синие оковы”»). Третья работа посвящена полемике с В.В. Полонским, рецензировавшим коллективную монографию «Русская литература рубежа веков». Хотелось бы, не углубляясь в частности, высказаться по поводу двух аспектов этого спора. Тезис В.П. Григорьева — «и литературоведению пора бы стать наукой» (с. 69) — справедлив в том смысле, в каком он может быть обращен к целой когорте гуманитарных дисциплин. Что же касается «исследовательской дистанции», то увлеченный человек неизбежно будет нарушать ее границы. Именно с этим обстоятельством связаны упреки в адрес «толстокожих», еще не проникшихся величием хлебниковского гения (с. 68)., Думается, В.П. Григорьев здесь излишне резок в суждениях: похожие укоры может обратить всему свету любой искусствовед-специалист. Кажется, никто до сих пор не говорил об «астрахан- ском культе», но определенная опасность просматривается хотя бы тут: «Если нет, если я как велимировед заблуждаюсь, не мешало бы пожалеть и образумить “профессионала”, раскрыть ему, да и всем-всем истинную сущность “мнимого гения”, бездумно творимого самозванца, фигуры, опасно “культовой” в чьих-то глазах» (с. 68). Стоит сказать, например, что Хлебников — «писатель для лингвистов», кто-то может оскорбиться, и это будет убедительным доказательством коренного неблагополучия, некоего комплекса недооцененности поэта. Увлеченные люди — это замечательно. Поиски доказательств гениальности подопечного — мягко говоря, забавны.
Обширная статья Л.В. Евдокимовой посвящена «магии слова, растения и числа» в стихотворении «В лесу. Словарь цветов». По мнению исследователя, оно «содержит концепцию многоуровневой магии, которая направлена на преодоление смерти» (с. 86). Л.Х. Исаева обращается к «иранскому циклу» Хлебникова, Д.Е. Лупеев — к «сверхповести» «Зангези», Н.В. Максимова рассматривает эпическое и лирическое в поэме «Председатель чеки». Содержательные работы А Павловского, Н.Н. Перцовой, Л.В. Спесивцевой, С. Г. Руденко и других ученых позволяют глубже понять художественный замысел поэта, выявить особенности авторской позиции, специфику его индивидуального стиля.
Статьи второго раздела, пожалуй, не совсем соответствуют масштабному наименованию («Велимир Хлебников и мировая культура»), поскольку речь идет в основном о русской традиции: Анненский, Блок, Мандельштам, Бабель, Пастернак, Андрей Белый, Гоголь, Брюсов, современный роман... Среди них выделяются работы, авторы которых выходят на уровень обобщения — таковы размышления о философии творчества Хлебникова (П.С. Волкова), импрессионистических приемах в его поэзии (Е.Е. Завьялова), концепции «победы над смертью» (ДА Пашкин), философии слова (АГ. Салдусова). В категории «странные сближения» на первый приз могла бы претендовать заметка В.В. Компанейца «Рок-поэзия Б. Гребенщикова в свете эстетики В. Хлебникова». В том-то и состоит отмеченная Пушкиным «странность», что очень далекие на первый взгляд вещи оказываются весьма близки: «...Ключевой в “Песнях” Б. Гребенщикова, как и в поэзии В. Хлебникова, является оппозиция “идеал — реальность”... Герой берет на себя бремя ответственности за судьбы всех людей, человечества в целом, отсюда — его стремле ние действовать в распахнутом пространстве перед лицом неба и вечности» (с. 177).
Среди сообщений, открывающих вторую книгу сборника, немало таких, которые довольно слабо соприкасаются с тематикой конференции: «Особенности функционирования языковых средств, используемых при описании составляющих семантического поля “музыка” (на материале русской поэзии)» (ЛА Баташева), «Циклизация в прозе русского авангардизма» (ОТ. Егорова), «Документальность как прием, или как В. Розанов хотел преодолеть литературу» (В А Емельянов). Эмоциональные доклады Л.Н. Бесчастной («Хлебников и устойчивое развитие»), АГ. Ильина («Из опыта работы по пропаганде творчества В. Хлебникова»), В.С. Мягкой («...Нужно сеять очи»), несмотря на скучные заглавия, сопровождаются поэтическими приложениями, достоинства которых я оценить не в силах. Представляют интерес и историко-краеведческие работы данного раздела. А Мамаев описывает семейный фотоальбом Хлебниковых из дома-музея в Астрахани, Ю. Биряльцева приводит документальные свидетельства о детских годах поэта («Казанские мотивы в произведениях Велимира Хлебникова»), причем в последней работе мы можем видеть задание, полученное юным Виктором на экзамене по алгебре, и график успеваемости учеников его гимназии.
Единственное, чего хотелось бы пожелать составителям — большей требовательности при оформлении ссылок. Ни единой сноски не содержит, к примеру, заметка Ю.В. Донсковой «О “зауми” в лирике О.Э. Мандельштама...», хотя цитаты там есть. Работа В.В. Акуловой «Вселенная Хлебникова: созвездия образов и сюжетов» пестрит обозначениями вроде «Вроон, 1983», «Леннквист». Специалисты, конечно же, ориентации не потеряют, но как быть с иными адресатами двухтомника, обозначенными в преамбуле («аспиранты, студенты-филологи и другие категории читателей»)? В этой связи уместно вспомнить о едином библиографическом указателе, который мог бы пополняться из года в год.
Г.К. Честертон когда-то иронизировал по поводу безуспешных попыток членов «общества Браунинга» расшифровать тексты английского поэта. Действительно, объяснять логически то, что принципиально не подлежит анализу, подобно сизифову труду. И тем почетнее миссия исследователей Велимира Хлебникова, автора, который вряд ли понимал сам себя и был одновременно непостижим и прост, как мычание.
===== 132
С.В. Баранов. Творчество Велимира Хлебникова в контексте мировой культуры XX века