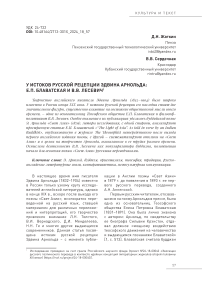У ИСТОКОВ РУССКОЙ РЕЦЕПЦИИ ЭДВИНА АРНОЛЬДА: Е.П. БЛАВАТСКАЯ И В.В. ЛЕСЕВИЧ
Автор: Жаткин Д.Н., Сердечная В.В.
Журнал: Сфера культуры @journal-smrgaki
Рубрика: Культура и текст
Статья в выпуске: 4 (18), 2024 года.
Бесплатный доступ
Творчество английского писателя Эдвина Арнольда (1832–1904) было широко известно в России конца XIX века. У истоков русской рецепции его наследия стоят две значительные фигуры, существенно влиявшие на состояние общественной мысли своего времени, – одна из основательниц Теософского общества Е.П. Блаватская и философ- позитивист В.В. Лесевич. Особое внимание в их публикациях уделялось буддийской поэме Э. Арнольда «Свет Азии» (1879). Авторы исследования, с одной стороны, анализируют пространную статью Е.П. Блаватской «“The Light of Asia”. As told in verse by an Indian Buddhist», опубликованную в журнале The Theosophist непосредственно после выхода первого английского издания поэмы, с другой – систематизируют отклики на «Свет Азии» и в целом на творчество Арнольда, высказанные в ее трудах разного времени. Осмыслена деятельность В.В. Лесевича как популяризатора буддизма, положившая начало для освоения поэмы «Свет Азии» русскими переводчиками.
Э. Арнольд, буддизм, ориентализм, теософия, традиция, русско- английские литературные связи, компаративистика, межкультурная коммуникация
Короткий адрес: https://sciup.org/170205891
IDR: 170205891 | УДК: 24-722 | DOI: 10.48164/2713-301X_2024_18_57
Текст статьи У ИСТОКОВ РУССКОЙ РЕЦЕПЦИИ ЭДВИНА АРНОЛЬДА: Е.П. БЛАВАТСКАЯ И В.В. ЛЕСЕВИЧ
В настоящее время имя писателя Эдвина Арнольда (1832–1904) известно в России только узкому кругу исследователей английской литературы, однако в конце XIX в., вскоре после выхода его поэмы «Свет Азии», многократно переведенной на русский язык, ставшей материалом для различных переложений и интерпретаций, его творчество привлекло внимание Л.Н. Толстого, В.И. Вернадского, Д.И. Менделеева, Н.Н. Ге и многих других выдающихся современников. Данная статья посвящена истокам русской рецепции Эдвина Арнольда – с момента публи- кации в Англии поэмы «Свет Азии» в 1879 г. до появления в 1890 г. ее первого русского перевода, созданного А.Н. Анненской.
Первым русским читателем, отозвавшимся на поэму Арнольда в прессе, была одна из основательниц Теософского общества Елена Петровна Блаватская (1831–1891). Она была лично знакома с автором: Арнольд, по свидетельству ее биографа Сильвии Крэнстон, отдавал должное «мощному воздействию теософского движения на человечество и выдающимся познаниям Блаватской» [1, c. 513]. Блаватская считала буддизм религией, наиболее близкой к учению теософии; именно она впервые привнесла в русский язык понятия «карма», «реинкарнация», «нирвана» [2, c. 149].
Блаватская опубликовала статью о поэме Арнольда на английском языке под названием «“The Light of Asia”. As told in verse by an Indian Buddhist» в основанном ею в Бомбее журнале The Theosophist, в первом же его номере в 1879 г. [3, p. 20-25] – т. е. это был немедленный отклик на актуальную поэзию. Статья вышла анонимно, как и многие другие публикации Блаватской, однако часть рукописи, сохранившаяся в архивах Теософского общества Адьяр и подписанная инициалами Е.П.Б., позволяет точно идентифицировать ее авторство1. Сокращенный перевод статьи на русский язык впервые увидел свет в 1990-е гг. [4, c. 210-215].
Блаватская отмечает, что поэма Арнольда – «своевременная работа в поэтической форме» [4, c. 210], и произведение это является не только изложением буддийского учения. «Свет Азии», по ее оценке, являет собой «замечательный образец литературного таланта, насыщенный философской мыслью и религиозным чувством» [4, c. 211]. Она вписывает произведение Арнольда в контекст английской религиозной поэзии: «Мильтоновские строки поэмы полны глубокого смысла, просты, но убедительны, без… метафизических намеков в ущерб смыслу… которые столь любимы нашими современными английскими поэтами» [4, c. 211]. По мнению Блаватской, Арнольду уступает, в частности, Р. Браунинг с его стихотворением «Фидиппид» (того же 1879 г.), где появляется козлоногий Пан. Среди указываемых ею достоинств поэмы «Свет
Азии» – «описания, пронизанные ценностью восточного колорита», и «правдивое изложение основного сюжета, мастерски раскрывающего характер Будды» [4, c. 212].
Восхваляя учение и личность Будды, Блаватская признает, что именно у Арнольда «впервые в истории западной литературы эта личность предстает во всем богатстве ее неподдельной красоты» [4, c. 212]. Будда, как считает Блаватская, стоит много выше других реформаторов религий: «Нет ничего возвышеннее и чище его социального и нравственного кодекса», – при этом особенно существенным оказывается его миролюбие: «Изо всех основателей религий он был единственным, кто не нашел ни одного злого слова, даже упрека для тех, чьи взгляды отличались от его собственных» [4, c. 213]. Она отмечает, что Гаутама, под именем царевича Иосафата (Иоасафа), даже стал христианским святым2.
Излагая биографию Будды Гаутамы, Блаватская пространно цитирует текст поэмы Арнольда. Перед индийским царевичем встают важнейшие проблемы, касающиеся места человека в мире, и в поэме «мы вновь находим строки о том же вопросе – строки, которых не смогли бы игнорировать ни каббалист, ни пифагореец, ни шекспировский Гамлет, ни даже мистер Дарвин. Они описывают духовное состояние принца, когда, не найдя ничего постоянного, ничего реального на земле… он решает принести себя в жертву человечеству» [3, p. 22]. В качестве одного из самых сильных мест поэмы в статье приводится сцена ухода принца Гаутамы из дома.
Блаватская особенно подчеркивает заслуги Арнольда в распространении восточной мудрости: «…если кто из западных поэтов и завоевал право на благодарную память азиатских народов, и если кому суждено жить в их сердцах, так это автору “Света Азии”» [4, c. 210]. Вместе с тем в финале статьи автор замечает, что взгляды Арнольда соответствуют достаточно упрощенным представлениям востоковедов («most of the Orientalists of to-day» [3, p. 24]), которые уравнивают нирвану с аннигиляцией, т. е. исчезновением, растворением. Блаватская с этим мнением не согласна, утверждая, что «нирвана означает безусловность индивидуального бессмертия в Духе» [6, c. 133], т. е. просветление.
Блаватская и в других трудах нередко цитирует Арнольда или упоминает его поэму – как источник, в том числе, по теории и практике буддизма [7, p. 452; 8, c. 49; 9, c. 34-36]; она отмечает, приводя рассуждения Дж.Х. Конелли, «совершенную красоту изображения кармы Эдвином Арнольдом в “Свете Азии”» [6, c. 241]. Однако при этом существенным для нее остается то обстоятельство, что автор поэмы не был инициирован в буддийскую традицию: «В “Свете Азии” есть два оборота, которые могут заставить посвящённого первой ступени подумать, что мистер Эдвин Арнольд был посвящён в гималайских ашрамах, однако это не так» [7, p. 222]. Признавая, что Арнольд как автор «Света Азии», наряду с теософами и оккультистами, часто становится объектом критики [10, p. 43], Блаватская видела основания критиковать английского писателя не за буддийскую поэму, а за другое произведение – посвященную Христу поэму «Свет мира» («The Light of the World», 1891), призванную, по ее мнению, задобрить христианского читателя [11, p. 165-170].
Одним из первых популяризаторов поэмы Арнольда в России стал увлекавшийся идеями буддизма философ-позитивист Владимир Викторович Лесевич (1837–1905). Он читал темати- ческие лекции, был автором ряда работ о буддизме [12, c. 41-77; 13, c. 1-17; 14]; искал и находил буддийскую основу даже в романе о Робинзоне Крузо1.
Лесевич видел в обращении к буддизму черту современной ему эпохи, когда происходит революция в научной и философской мысли и «вслед за философией, и частью в связи с нею, идет длиннейший ряд религиозных новообразований в Англии, Америке, Италии и английской Индии» [13, c. 1]. И в увлечении западного человека буддизмом он ощущал знак смешения верований: «Это сближение частью враждебных между собой, частью далеких друг другу элементов подготовило неосуществимое прежде воздействие восточных религий на европейских рационалистов и породило тот совершенно новый тип религиозного синкретизма, одно из проявлений которого и представляет проповедываемый ныне европейцами “буддизм”» [13, c. 2-3]. Лесевич критикует теософов и Блаватскую, однако об Арнольде отзывается положительно: он отмечает, что это «талантливый английский поэт, автор большой поэмы The Light of Asia » [13, c. 17].
С участием Лесевича была подготовлена, в частности, подборка материалов о буддизме в кн. 8 журнала «Русская мысль» за 1887 г., вклю- чавшая его очерк «Новейшие движения в буддизме, поддерживаемые и распространяемые европейцами» [13, c. 1-17], переводы «Буддийского катехизиса» Г. Олкотта [15, c. 18-35] и статьи Э. Арнольда «Цейлон и буддисты» [16, c. 36-51]; в оригинале «Ceylon and the Buddhists» [17, p. 262-284] была одной из глав в книге Арнольда «India Revisited», впервые опубликованной в 1886 г. и несколько раз переизданной. Отметим, что «Русская мысль» после смены редактора (на место С.А. Юрьева пришел В.А. Гольцев) приобрела либерально-демократическое направление и охотно откликалась на актуальные темы и различные общественные новации. Первым русским переводчиком Арнольда стала Анастасия Сергеевна Петрункевич (1850–1932)1 – урожденная графиня Мальцова, жена либерального политика И.И. Петрункевича; супруги Петрункевич, в частности, были друзьями В.И. и Н.Е. Вернадских, которые увлекались идеями буддизма.
В статье Арнольда о буддистах Цейлона дана оценка его более ранней поэмы «Свет Азии» – очень опосредованная, как донесенное автором высказывание цейлонских буддийских монахов: «Вы, рожденный в далекой стране, хотя и не пользовались ни благодатью религии прекраснейшего Сакъя-Муни, рожденного от солнца, пресвятого покорителя всех вожделений и всем светом почитаемого победителя дурных страстей, ни общением с его последователями, вы написали на вашем родном языке изящную поэму о пресвятой и несравненной его жизни, – поэму, захватывающую конец его метемпсихозического пребывания в качестве благородного Бодхисата на небе Тузитха и достижение им четырех великих и святых истин, – поэму, не только ни в чем не разногласящую, но в буквальном смысле согласную с народными буддийскими священными книгами, с каноническим писанием и его комментариями; вы тем самым совершили дело, еще ни одним из английских Пундитов доныне не совершенное» [16, c. 40].
Также Арнольд цитирует другую благодарственную речь, отмечающую его заслуги по распространению буддизма на Западе: «С помощью несравненного таланта вашего и по вдохновению возвышенного сердца, вы сделали то, что почитаемое имя и высокое учение нашего господа Будды получили известность и значение в глазах многих людей из среды западных народов… Уже по всей Азии пронесся слух о том, что в стране за пределом морей возник мудрый и красноречивый друг, который проливает свет подобно лунному сиянию над Дхаммой, в течение семидесяти поколений приносившей усладу нашему народу» [16, c. 45].
Таким образом, еще не будучи переведенной, поэма «Свет Азии» оказалась так или иначе известна русскому читателю.
Вдохновлённый поэмой Арнольда, Лесевич «предложил своему другу А.Н. Анненской перевести эту книгу на русский язык и на свой счет напечатал перевод»2. К этому времени прошло более десяти лет после первой публикации «Света Азии», поэма Арнольда выдержала более пятидесяти переизданий, а король сиамский произвел автора в кавалеры ордена Белого Слона3. Лесевич выступил редактором книги и подготовил объемные сопроводительные материалы культурологического характера, в том числе сделал редактуру включенного в книгу перевода двух глав из исследова- ния Гюстава Лебона «Цивилизация Индии» (1887) [См.: 19, с. V-CIII; 20, с. 209-238]1, при этом предисловие самого Арнольда к поэме было опущено. Впервые перевод «Света Азии» увидел свет в 1890 г.2, затем был переиздан в 1893 г.3 В фонде Лесевича в Российском государственном архиве литературы и искусства сохранился сделанный его рукой расчет, показывающий рентабельность издания «Света Азии»: при тираже 1 500 экз. и цене одной книги 2 руб. предполагалось выручить 3 000 руб., из которых – 30 % книготорговцам – 900 руб., стоимость печати, бумаги, клише и объявлений – 1 046 руб., прибыль от издания – 1 054 руб.4.
В предисловии Лесевич отмечает, что поэма Арнольда излагает жизнь Будды, однако и сами легенды, и мастерство стихотворца так хороши, что могут сделать произведение интересным даже для тех, кто не интересуется буддизмом: «Являясь же в такой блестящей обработке, какую придал им знаменитый английский поэт, они [легенды] становятся замечательным литературным произведением, которое даже в переводе, лишенном всей прелести стихотворной формы, украшающей оригинал, будет вероятно приятно встречено всяким, не имевшим случая или возможности ознакомиться с подлинником»5.
Лесевич особенно подчеркивает выбранную Арнольдом повествовательную стратегию, рассказ от лица обыкновенного верующего буддиста, что работает на изящество и простоту стиля: «…в лице предполагаемого буддийского рапсода предстал перед нами правоверный поклонник Сакъя-Муни и с полной простотою и безыскусственностью раскрыл перед нами свою взволнованную религиозным чувством душу»6. Вместе с тем он признает, что сам Арнольд не был посвященным буддистом, и призывает не принимать «плоды поэтического творчества за проявления наивной веры»7.
Как видим, внимание к поэме Арнольда «Свет Азии» со стороны русских философов, теологов, публицистов 1880-х гг. во многом было обусловлено усилением интереса к буддизму и восточной культуре, помогавшим в процессе морально-нравственных исканий создавать новую картину мира. На формирование этого интереса влияли сложные общественные процессы эпохи, в частности, кризисные явления в Русской православной церкви, обострение национальных движений в Калмыкии и Бурятии, упрочение международных позиций ряда азиатских стран, а также распространившееся в сознании интеллигенции ощущение неизбежности конца западной цивилизации, популярность философских учений А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, Э. Гартмана, во многом перерабатывавших восточные идеи. Впоследствии популярности «Света Азии» способствовали деятельность его переводчиков А.Н. Анненской, И.М. Сабашникова (Юринского), А.М. Федорова, а также пристрастное отношение к поэме со стороны Л.Н. Толстого и писателей «толстовского круга», чьи идеи непротивления злу насилием и вегетарианского существования вполне соответствовали буддийской концепции.