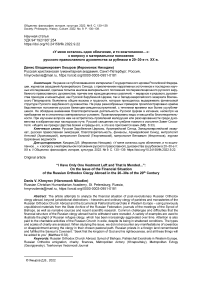"У меня осталось одно облачение, и то исштопанное...": к вопросу о материальном положении русского православного духовенства за рубежом в 20-30-е гг. ХХ в
Автор: Хмыров Денис Владимирович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 9, 2022 года.
Бесплатный доступ
На ранее не публиковавшихся материалах Государственного архива Российской Федерации, журналов заседаний Архиерейского Синода, с привлечением нарративных источников и последних научных исследований, сделана попытка анализа материального положения послереволюционного русского зарубежного православного духовенства, причем вне юрисдикционных различий, - иерархов и рядового духовенства приходов и монастырей, как Русской Зарубежной Церкви, так и Западноевропейского экзархата Вселенского Патриархата. Выявлены общие вызовы и трудности, которые приходилось выдерживать финансовой структуре Русского зарубежного духовенства. На ряде разнообразных примеров проиллюстрировано крайне бедственное положение русских беженцев-священнослужителей, с течением времени все более усугублявшееся. Не обойдена вниманием благотворительная деятельность Русской Церкви в изгнании, несмотря на пребывание ее в стесненных материальных условиях. Проанализированы виды и масштабы благотворительности. При изучении вопроса нам не встретилось проявлений малодушия или разочарованности среди духовенства в избранном ими пастырском пути. Русский священник на чужбине помнил и исполнял Завет Спасителя: «Ищите же прежде Царства Божия и правды его, и это все приложится вам» (Мф. 6:33).
Русская зарубежная церковь, архиерейский синод, западноевропейский экзархат, русская православная эмиграция, благотворительность, финансы, митрополит антоний (храповицкий), митрополит евлогий (георгиевский), митрополит вениамин (федченков), журнал церковные ведомости
Короткий адрес: https://sciup.org/149140997
IDR: 149140997 | УДК: 94“192/193”:254 | DOI: 10.24158/fik.2022.9.22
Текст научной статьи "У меня осталось одно облачение, и то исштопанное...": к вопросу о материальном положении русского православного духовенства за рубежом в 20-30-е гг. ХХ в
Русская христианская гуманитарная академия, Санкт-Петербург, Россия, ,
В вихре революции и Гражданской войны русское православное духовенство, вместе с паствой не по своей воле оказавшееся в роли изгнанников и скитальцев, было лишено (практически во всех странах пребывания) государственной материальной поддержки. Паства же, сама испытывавшая колоссальные финансовые трудности, находясь в иностранном окружении, часто без средств к существованию, лишенная стабильного достойного заработка, как могла жертвовала на Церковь. В этой связи вызывают неподдельный интерес вопросы бытовой стороны жизни русских священнослужителей – эмигрантов первой волны. Материальная сторона по естественным причинам не может быть отделена от целостного облика священника. К счастью, сохранились свидетельства тех лет, благодаря которым мы можем хотя бы отчасти воспроизвести картину нелегкой жизни священнослужителей-иерархов, тем не менее не сломленных трудностями в своем высоком духовном служении вечным истинам. Более того, такое положение – на равных со своими прихожанами – вне всякого сомнения имело и положительную сторону. Это еще более сплачивало пастыря и паству, помогало первому прочувствовать на себе все треволнения последних – тех, которые искали духовного утешения под сводами храма и находили его в лице священнослужителя – такого же нуждающегося изгнанника, какими были они сами.
Целью исследования является анализ бытовых и материальных аспектов жизни представителей русской православной эмиграции, как иерархов, так и рядовых священнослужителей – на историческом и социокультурном фоне. Представленные в статье документы позволяют обогатить важными подробностями наше представление об их жизни, показать не только «профессиональные», но и человеческие качества, восполнить пробелы в знаниях о судьбах наших соотечественников, – и в итоге выявить и сохранить преемственность образа священнослужителя с конца ХIХ века до наших дней.
В отечественной и зарубежной историографии вопрос о материальном обеспечении русского зарубежного духовенства в межвоенный период относится к числу малоизученных. Практически нет исследований, напрямую посвященных этой теме. В мемуарной литературе и воспоминаниях основных участников тех событий данная проблема упоминается лишь отчасти, пунктирно – и является фоном для вопросов богословского, духовного плана. Можно отметить свидетельства митрополита Антония (Храповицкого), митрополита Вениамина (Федченкова), митрополита Евлогия (Георгиевского), архимандрита Киприана (Керна), С.С. Куломзиной и других современников (Антоний (Храповицкий), 1988; Евлогий (Георгиевский), 1994, Вениамин (Федчен-ков), 2016; Киприан (Керн), 2012; Куломзина, 2018).
Вспоминая детали быта митр. Антония (Храповицкого) в Белграде, архимандрит Киприан (Керн) говорит о том, что по благословению Сербского Патриарха последний поселился в одной из комнат здания старой Патриархии, в очень скромной обстановке: «Это было здание времен еще Милоша Великого, покосившееся, малоуютное и очень казенного вида. <…> В этой Митрополии (разрушенной при постройке новой Патриархии в 1931 г.), в левом нижнем коридоре, в последней от входа комнате, и останавливался и жил долгое время митрополит Антоний» (Киприан (Керн), 2012: 11).
Другие иерархи также вели очень скромную жизнь, следуя примеру своего архипастыря и ничуть не выделяясь среди рядовых священнослужителей: «Надо сказать, что владыка [еп. Гавриил (Чепур)] был беден, как и все архиереи наши. Средств не было, конечно, никаких, да и откуда было их взять? Никаких жалований они получать не могли. Треб у них быть не могло. К описываемому времени владыке Гавриилу пришлось по состоянию здоровья отказаться от должности законоучителя в одном из русских женских институтов. Оставался только один знаменитый сербский “размен”. Это было то вспомоществование, которое благородный и щедрый сербский народ, несмотря на свое разорение после трех последовательных войн (Турецкой, 1910, Балканской, 1912, и Великой, 1914–1918 гг.), давал приехавшим к нему русским беженцам» (Киприан (Керн), 2012: 130–132).
Сербское государство поначалу могло выплачивать всем русским беженцам по 600 динар на человека, затем сумму вынужденно сократили до 400, а позже была урезана и она. Также был ограничен круг лиц, имевших право на пособие: студенты, пожилые люди и инвалиды.
Франция, подобно Сербии, поначалу радушно принимала иностранцев – туристов, студентов, художников, однако русская эмиграция 1920-х годов не соответствовала никакому определенному классу, поскольку материально она была абсолютно не обеспечена. Количество русских беженцев в Париже в конце 20-х годов варьируются от шестидесяти до девяноста тысяч человек. Отметим, что здесь возникло множество русских учреждений: русская гимназия, школы-приюты, кадетский корпус, Свято-Сергиевский богословский институт, русские театр, опера, балет и больше пятнадцати приходских церквей. Центром духовной жизни русских был и оставался храм, и возводили его эмигранты на свои скудные средства или приспосабливали под него любое сносное помещение.
Говоря о богослужениях в парижском храме на рю Дарю, митр. Евлогий (Георгиевский) отмечал: «В народной толпе чувствовался большой духовный подъем. Скорбные, озлобленные, измученные люди тянулись к храму как к единственному просвету среди мрака эмигрантского существования. Они несли сюда свои печали, упования и молитвы; тут забывали свое горе, обретали надежду на какое-то лучшее будущее. В первые годы религиозное усердие эмиграции было трогательное. Несмотря на горечь и ужас жизни, веяло религиозной весной, не было в людях той безнадежности, того уныния, которые овладели душами впоследствии» (Евлогий (Георгиевский), 1994: 375).
Во Франции в первые годы эмиграции, по свидетельству митр. Евлогия, финансовая составляющая епархии была блестящей – и паства усердно жертвовала, и крупные предприниматели, и просто богатые люди щедро помогали: «Благодаря благополучному состоянию церковной казны храм содержался в порядке, производился необходимый ремонт, были очищены стены от копоти, которая наслоилась на прекрасной иконописи» (Евлогий (Георгиевский), 1994: 377).
Однако с течением времени упомянутый щедрый поток пожертвований стал оскудевать. На примере существования одной из кузниц пастырских кадров в Русском зарубежье, – Свято-Сергиевского богословского института в столице Франции, можно было явно наблюдать эту печальную тенденцию: «Экономическая сторона существования Богословского Института неопределенна, зыбка, всецело зависит от благотворительности. Нас поддерживали англичане, американцы и русская эмиграция давала, что могла; до 1930 года Институт существовал сносно: иностранцы нам помогали щедро. С 1931 года начались перебои. Эмиграция обеднела» (Евлогий (Георгиевский), 1994: 377).
Весьма сложным в материальном плане было положение большинства русских беженцев и в других странах рассеяния. К примеру, выдающийся православный педагог С.С. Куломзина так вспоминает первые годы эмиграции в г. Ревеле: «Несмотря на безумную занятость, мать находила время на благотворительную работу. Положение русских беженцев в Ревеле было катастрофическим, многие из них не имели работы и жилья. <…> В 1921 году Американский Красный Крест и ИМКА сворачивали свою деятельность в Эстонии. Закрывались приюты для детей беженцев. Местное население становилось на ноги, но положение русских беженцев было катастрофичным» (Куломзина, 2018: 110, 116).
В Журналах заседаний Архиерейского Синода за 1920-е гг. отражены дела об оказании материальной помощи нуждающимся. Они показывают картину финансовых возможностей русского церковного зарубежья (Никодим, 2019). Все дела фонда Р-6343 переведены в цифровой формат, но много документов является копиями, которые трудно читать. В статье проанализированы Журналы заседаний по данной теме, отложившиеся в ГАРФе в делах с номера 35 по 78. Они представляют собой машинописные документы с указанием номера заседания, даты и перечислением присутствующих лиц. Далее в виде таблицы, оформленной в три колонки: номера вопросов, «слушали» и «постановили». Рукописные пометки даны в сносках. Еще два дела в нашей статье, 288 и 291, – многосоставные, содержащие личную переписку, в основном рукописные тексты, которые можно разобрать с большим трудом. Работа с такими текстами довольно трудоемка. Так, дело № 288 «Переписка Архиерейского Синода с церковнослужителями по разным вопросам» содержит письма от известных и неустановленных частных лиц к митр. Антонию, множество его ответных черновиков, почтовые квитанции, краткие записки, документы (иногда без начальных страниц), опись имущества церкви Терско-Астраханского казачьего полка, характеристику и рекомендации одного из священнослужителей (на сербском языке), обращения по разным вопросам из Финляндии, Харбина, Закарпатья, Женевы, Франции, Харькова (денежные тяжбы, просьбы о помощи, вопросы о переходе на новый стиль, о «нигилятине» митр. Евлогия и пр.). Дело № 291 включает письмо с предложением издания на русском языке чешской книги о России (о монархических идеях и «еврейском заговоре») и вежливый, но отрицательный ответ митр. Антония («ибо уже два года не имею никакого отношения к Братству Русской Правды»), переписку на английском языке, переписку с адресатами из Риги и Харбина по разным вопросам.
Касательно заявленной темы мы цитируем письма митр. Антония к игумении Руфине из Харбина, письма к некоей Елизавете Николаевне и М.П. Бачманову, а также письмо митрополиту Варшавскому Дионисию (Валединскому) по поводу помощи К.Н. Николаеву.
Среди дел об оказании материальной помощи нуждающимся, которые рассматривались на заседаниях Архиерейского Синода, можно отметить несколько направлений. Прежде всего, это ответы на непосредственные прошения, которые поступали на имя Синода. Также большое место занимает рассмотрение просьб о частичной отмене оплаты за журнал «Церковные ведомости» – официальный орган высшего церковного управления, который выписывали все приходы. Другая весьма интересная группа вопросов касается ходатайств о снятии пошлин за награждения. Кроме того, стоит сказать о взаимной поддержке иерархов из разных стран, что выражалось как в переводе денежных сумм, так и в виде небольших посылок с облачением или «гостинцами» (например, чаем).
Архиерейский Синод, сам испытывая нужду, старался найти любую возможность для оказания поддержки как представителям духовенства, так и простым мирянам. Например, 17 (30) января 1923 г. в результате суждения «о выдаче Начальнику Российской Духовной Миссии в Иерусалиме Архимандриту Иерониму, получившему уже все визы, прогонных денег на проезд в Иерусалим» Синод постановил: «выдать о. Архимандриту Иерониму на проезд в Иерусалим сто пятнадцать (115) тур. Лир и на проезд из Белграда в Константинополь и на суточное довольствие одну тысячу (1 000) динар»1.
В Журналах отражена информация и о выдаваемых суммах просителям. Это 500 динар2, 438 динар3, 200 динар4.
2 (15) марта 1923 г. было удовлетворено прошение протоиерея Церкви Штаба Главнокомандующего Русской Армией В. Виноградова, «с ходатайством об оказании бедствующему в России б. Ректору Харьковской Духовной Семинарии протоиерею Иоанну Знаменскому с семьей материальной помощи для вывоза его из России»:
«Разрешить выдать в пособие протоиерею Знаменскому на выезд из России из сумм голодающих одну тысячу (1 000) динар, но лишь тогда, когда будут удовлетворены все прошения о посылках голодающим в России, стоящия на очереди, об удовлетворении коих ожидают заинтересованные лица (курсив наш. – Д.Х. )»5.
Как видим, Архиерейский Синод регулярно отсылал помощь голодающим в Россию (Хмыров, 2021).
Достаточно информативно для нас в плане иллюстрации финансовых возможностей Зарубежной Церкви принятое 12 (25) мая 1923 г. решение об оказании материальной помощи прот. Сергию Булгакову:
«Так как Высокопреосвященный Митрополит Антоний просил о выдаче протоиерею С.Н. Булгакову пособия с таким расчетом, чтобы половина его была выдана из причитающихся Архиерейскому Синоду взносов, а другая половина из сумм Епископского Совета Константинопольского Округа, а не Русского Комитета, который мог бы, может быть, выдать пособие и в размере более 58 тур. лир, выдача в каковом размере была бы совершенно не посильна для Архиерейского Синода, а Епископский Совет едва ли был тоже в состоянии выдать пособие в таком размере, просить Архиепископа Анастасия отнести половину выданного протоиерею Булгакову непосильного для Синода пособия, в размере 58 тур. лир, за счет сумм Епископского Совета»6. Студенческая жизнь была трудна не только для преподавателей богословия в Париже, но и для русских студентов богословского факультета Белградского университета. В журналах заседаний Архиерейского Синода за 1923 г. встречаем заслушанное 26 октября (8 ноября) «Ходатайство Кружка православных русских студентов Богословского факультета Белградского университета имени Св. Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова о выдаче Кружку долгосрочной ссуды в размере 1500 дин. на издательство учебных пособий и лекций». К сожалению, ими был получен следующий ответ:
«Ввиду отсутствия у Архиерейского Синода средств, решение вопроса отложить до б. благопр. времени»7.
В рассматриваемый нами период с финансовыми трудностями сталкивались русские выходцы как во Франции, так и в Сербии, и конечно, в других регионах русского рассеяния. Эти испытания выражались для многих священнослужителей в невозможности осуществлять взносы по случаю вручения им богослужебно-иерархических наград. В этой связи неоднократно Синод освобождал награждаемых священнослужителей от полагающихся по этому случаю взносов. Так, было принято решение «ввиду материальных затруднений священника Яковлева, освободить его от дальнейшей уплаты денежного взноса, следующего по пожалованию золотым наперсным крестом»8. В других случаях разрешалось внести меньшую сумму: «Уменьшить причитающийся с прот. М. Слуцкого по пожалованию его палицею взнос до 200 дин., разрешив ему внести означенную сумму частями в течение нескольких месяцев»1. Человеческая радость награде нередко была омрачена таким бессилием.
Часто храмы были настолько бедны, что не могли осуществлять отчисления на общецерковные нужды, содержание высших органов управления или оплачивать подписку на официальный печатный орган «Церковные ведомости». Нельзя не упомянуть о рассмотренном 24 августа (6 сентября) рапорте настоятеля русской православной церковной общины в Белграде протоиерея Петра Беловидова, с ходатайством об освобождении прихода от двух третей подлежащего отчислению из валового дохода на общецерковные нужды. Было вынесено решение:
«По вниманию к мотивам, изложенным в рапорте протоиерея Беловидова, освободить Русскую Православную церковь в Белграде от представления в Архиерейский Синод лишь одной трети взноса, подлежащего отчислению из валового дохода названной церкви на общецерковные нужды, ввиду недостаточности синодальных сумм»2.
Приведем еще несколько примеров. Очевидно, в каком бедственном финансовом положении находились русские храмы в Германии, если были не способны оплатить даже подписку на периодические издания. Так, Управляющий русскими православными церквами в Западной Европе митр. Евлогий обратился с «ходатайством о сложении в Дрезденской Русской Православной церкви долга за “Церковные ведомости” за 1922 и 1923 гг. ввиду катастрофического финансового положения церквей в Германии»3. Прошение Синод удовлетворил. Приход в Висбадене также просил снизить плату за журнал «Церковные ведомости»4. В ответ на сообщение священника Куюкярвской церкви в Финляндии П. Богомолова о невозможности для названной церкви выслать за “Церковные ведомости” на 1924 г. 60 фр., с просьбой ограничиться препровождаемым чеком в 50 фр. и выслать 10 венчиков и 5 разрешительных молитв и 10 бланков для метрических выписей с родившихся было решено: «Ввиду крайней несостоятельности Куюкярвской церкви, разрешить: 1. Присланные священником названной церкви П. Богомоловым 50 фр. зачесть за полную подписную плату за журнал “Церковные ведомости” на весь 1924 год (вместо 60 фр.). 2. Выдать в названную церковь бесплатно просимые венчики, разрешительные молитвы и метрические бланки»5.
Также когда настоятель церкви и законоучитель Шуменской русской гимназии докладывал о невозможности уплатить недоимку за журнал «Церковные ведомости» в размере 645 лев., Архиерейский Синод решил: «Освободить церковь Шуменской русской гимназии от уплаты числящейся за нею недоимки за журнал “Церковные ведомости” и впредь журнал высылать в названную Церковь бесплатно ввиду отсутствия у нее денежных средств»6.
Начальник Урмийской Православной Духовной Миссии архимандрит Виталий (Сергиев) из Тегерана докладывал Синоду: «Согласно указа из Архиерейского Синода Русской Православной Церкви заграницей 1923 № 246, вверенной мне Миссии отпущено на ее нужды пятьсот (500) франков. Означенные деньги мною до сих пор еще не получены. В виду полученных мною отношений Канцелярии за № 1403 и 1402 о досылке стоимости журнала “Церковные ведомости” с Миссии за 1922, 1923 годы и с дьякона Пиденко недоимки за 1923 г., я просил бы Синодальную Канцелярию удержать причитающуюся сумму из вышеназванных пятисот франков, а остальные не задержать высылкой». В справке к этому делу говорилось, что «за Урмийской Духовной Миссией недоимка за журнал “Церковные ведомости” числится в размере 2 анг. фун. 7 ½ шил. за 1922 г. и 120 фр. фр. за 1923 г., что составит 1322 дин. 25 п. (курс 100 фр. – 400 д. и фунта – 350 дин.), или всего 360 фр. франков». Синод откликнулся на нужду Миссии: «Ввиду бедности Урмийской Православной Миссии из причитающихся ей от Архиерейского Синода 500 фр. фр. удержать на покрытие недоимки за журнал “Церковные ведомости” лишь двести (200) фр. фр., а остальные 300 фр. фр. отправить на имя начальника названной Миссии, сложив остальную часть недоимки за журнал за 1922 и 1923 годы»7.
Обращение Начальника Константиновского Военного училища с уведомлением, «что недоимку за “Церковные ведомости” в сумме 615 лев.: за 1922 г. – 255 лев. и за 1923 г. – 360 лев. училище внести не может, равно как и за 1924 г. не может вносить плату» побудило Архиерейский Синод задуматься о финансовых возможностях всех русских военных церквей. В справке к делу отмечалось, что многие военные церкви освобождены не только от уплаты долгов за «Церковные ведомости» и включены в бесплатные подписки, но и от уплаты за бланки для метрических книг и записей, послужных списков и наградных листов, разрешительных молитв и венчиков, «что в общем составляет значительную сумму». В решении сказано:
«По окончательном выяснении общей суммы неоплаченных военными церквами недоимок за журнал “Церковные ведомости” и за метрические и др. бланки, разрешительные молитвы и венчики, просить Главнокомандующего Русской армией генерала Врангеля о возмещении этой суммы из средств, находящихся в его распоряжении»1.
При рассмотрении просьб о помощи члены Синода вынуждены были действовать с некоторой строгостью, чтобы, пребывая самим в крайней нужде, помочь действительно тем, кто без этой помощи не смог бы обойтись. Так, на обращение заведующего подворьем Свят. Николая в Бари кн. Н.Д. Жевахова о необходимости оказать подворью материальную помощь через взятие ссуды у Сербской Патриархии русские иерархи отреагировали:
«Предварительно сношения с Сербской Патриархией по возбужденному князем Жева-ховым вопросу затребовать приходно-расходную смету Подворья св. Николая в Бари и запросить отзыва Председателя Православного Палестинского Общества, в ведении которого находится названное подворье»2.
Иногда Архиерейский Синод был вынужден отклонять просьбы об оказании материальной помощи вследствие своего затруднительного финансового положения со следующими формулировками: «Просьбу отклонить за неимением в распоряжении Синода средств на удостоверение подобного рода ходатайств»3, «ввиду полного отсутствия у Архиерейского Синода денежных средств, из которых можно было бы восстановить содержание <…> или выдать пособие <…>»4, «Архиерейский Синод не имеет средств для…»5. Отказывая, Синод делал все от него зависящее, чтобы хоть как-то помочь. Так, в ответ на просьбу профессора Н.Н. Глубоковского об оказании материальной помощи находящемуся в крайне тяжелом материальном положении профессору-протоиерею А.П. Рождественскому, «тяжело больному и давно уже не получающему содержания при наличии неустроенной семьи» было принято решение:
«За неимением в распоряжении Архиерейского Синода денежных средств, просить Преосвященного Серафима, управляющего русскими православными общинами в Болгарии, оказать какое-либо единовременное пособие из средств Епископского при нем Совета члену сего Совета прот. А.П. Рождественскому, если последний ничего не получает из Совета и действительно нуждается»6.
В связи с прошением бывшего чиновника особых поручений при обер-прокуроре Св. Синода тайного советника В.М. Скворцова об оказании единовременной материальной помощи по случаю исполнения 40-летия его службы Синод постановил:
«За неимением в распоряжении Архиерейского Синода денежных средств, из коих могло бы быть выдано В.М. Скворцову пособие, просьбу его о пособии передать на усмотрение предстоящего Собора Архиереев Русской Православной Церкви заграницей. В виду же неимения у Скворцова в данное время заработка, просить Архиерейский Синод Сербской Православной Церкви об устройстве его в одном из монастырей»7.
Скажем о других видах материальной поддержки, оказываемой священноначалием РПЦЗ. Неоднократно, откликаясь на просьбы о денежной помощи, Синод объявлял однодневные кружечные сборы по зарубежным приходам в пользу просителей, нередко, – на просьбы о помощи братским Православным Церквам, особенно Сербской, – также объявлением однодневных кружечных сборов в русских зарубежных общинах (Хмыров, 2022).
Бывали и случаи оказания материальной помощи самому Архиерейскому Синоду, который непременно выражал благодарность за внимание к своим нуждам. В частности, Председатель Православного Палестинского Общества князь А.А. Ширинский-Шихматов препроводил при своем письме 15 английских фунтов на нужды Архиерейского Синода8.
В 1924 г. член Архиерейского Синода епископ Сергий (Петров) ставил вопрос о необходимости учреждения при Архиерейском Синоде кассы взаимопомощи для епископов, на что последовало решение: «Вопрос об учреждении кассы взаимопомощи за невозможностью осуществления его отклонить»9. В 1926 г. к этому вопросу вновь вынуждены были вернуться. Архиерейским Синодом был одобрен проект устава Общества Братской взаимопомощи русских православных священнослужителей, проживающих в королевстве С.Х.С., а 3/16 января 1926 г. необходимое прошение было направлено Патриарху Сербскому Дмитрию, – преподать благословение на учреждение Общества и утвердить его устав1.
В 1927 г. Харбинский Епархиальный Совет предлагал конкретные меры, которые способствовали бы увеличению средств Архиерейского Синода. Вопрос был вынесен на обсуждение на очередном Архиерейском Соборе. В конце 1920-х годов проблема повышения доходной части Русской Зарубежной Церкви все больше занимала умы духовенства, поскольку средства были нужны как на содержание его самого, так и еще в большей степени – на различные виды церковного общественного служения.
Сохранилась любопытная переписка митр. Антония (Храповицкого) с игуменией Руфиной из Харбина. Возглавляемая ею святая обитель славилась широкой благотворительностью как по отношению к нуждающимся мирянам – бездомным, голодным, так еще более – по отношению к священнослужителям. Так, в письме иерарха, датированном 21 сентября 1934 г., мы находим, в частности, перечисление даров, которые с любовью были присланы монахинями своему дорогому митрополиту, но еще более обращает на себя внимание описание картины его крайней нужды: не было даже элементарного набора архиерейских облачений для совершения богослужений, и Владыка многие годы служил в одних стареньких священнических одеждах.
«Прежде я получил от Вас [в] дар облачение чудной работы, а теперь вновь получил такой же дар 1) саккос, 2) омофор, а 3) епитрахиль, 4) поручи, 5) палицу, 6) кусок розовой материи (к сожалению, немножко на поручи не хватило) 7) 2 полотенца 8) 3 иконки с Ваших чудотворных св. икон 9) маленькие мешочки, вероятно со святынями, но без всякого объяснения. Кроме того, несколько небольших лоскутков шелка желтого. Из этого желтого шелка получились хорошие оплечья для двух священнических облачений, а подрясник еще не сшили. В Вашем облачении (оно чудное, легонькое, как раз по моим теперешним силам) я служил молебен в присутствии всего нашего собора, Архиереев и Патриарха Сербского и его Синода перед началом нашего Всезаграничного Собора. Хотя Ваше облачение и долго шло, но зато подоспело к очень важному моменту, и я рад сообщить о сем вместе с моей благодарностию и молитвенным благодарением ко Господу Богу о Вас и обители Вашей и о сестрах и пребывающих во Обители, а главным образом о трудившихся над облачением. Господь Сам от Своих Ему щедрот да воздаст Вам “якоже обещася неложно”, и я верю воздаст. Ибо Вы прислали сие облачение больше чем вовремя. У меня осталось одно облачение, и то исштопанное, в котором я служу с 1924 г. и получил его в Иерусалиме тоже не новым. Ваше же прежнее, как я уже писал Вам, подарили новопосвящавшемуся у нас урмийскому епископу Иоанну, ассирийцу происхождением, но русской юрисдикции. Из Месопотамии. Он тоже <…> своего не имел ничего, пришлось его всячески снабжать и, Слава Богу, успели все необходимое ему дать и то благодаря Вам. Еще раз благодарю Вас за усердие»2.
Год спустя, 26 апреля / 9 мая 1935 г., Владыка митрополит вновь направил игумении Руфине трогательные слова благодарности, где, с восхищением перечисляя очередные подношения, выражает некую неловкость за свою материальную беспомощность. Здесь же мы видим свидетельства его теплых отношений с Сербским Патриархом.
«Всечестная игумения матушка Руфина!
Приношу Вам глубокую благодарность за Ваши благодеяния и дары. Св. икону Владимирская Б. М. получил и молюсь пред Нею о спасении России и о Вашем здравии и спасении, а также и о Св. обители Вашей, о ее насельницах и жертвователях. Господь да будет Вам в помощь в Ваших трудных делах созидания в дни разрушительные. Конечно, Вы ничего не смогли бы сделать без воли и помощи Того, Кто изрек Свои слова “Без Мене не можете творить ничесоже”. Слова эти святы и нерушимы, а следовательно, рука Его и Его Пречистой Матери видимо руководит Вашей Обителью и помогает всячески. Мне стыдно, что Вы тратитесь на меня. А от меня ничего не сможете получить такого, что бы Вас материально утешило. Но единственно, что могу Вам обещать, это мою постоянную любовь вообще к Обители Божией и к их насельникам, а к вашей Св. Обители особенно, ибо она выросла на моих глазах из ничего, несмотря на лукавые дни.
Прошу Вас Христом Богом, не посылайте в посылках разных кусочков, а тем более <…> листков журналов (зачеркнуто. - Д.Х.) и т. д., ибо это затрудняет получение посылок на таможне. Пока прочтут все вложенное в посылку, проходит очень много времени. Большое Вам спасибо за Вашу любовь и пожертвования. Подризник прекрасен, чудный, но слишком для меня длинен. Два тоже красных, вышитых <…> широкую ленту, холст, черный материал и два кусочка шелка употребим на всякого рода починку ризы, а из черн. материала может быть сошьем подрясник для меня. Черный же шелк можно бы употребить на наметки мне и о. Феодосию, но он не совсем черный, а рыжеватый. А на подрясник его мало. Белый клобук я ношу редко, так как здесь Сербский Патриарх только его носит, митрополиты ходят в черных, а я бы не хотел выделяться, а поэтому скромно ношу черный, а белый надеваю только в русские церкви и собрания. Спасибо Вам и за прекрасно составленные письма к Святейшему и к Высочайшим Особам. Сам я не смог вручить Высочайшим Особам ни писем, ни Святынь, а просил об этом Святейшего Варнаву, и он с радостью согласился и вручил. Думаю, что если Вы еще не получили уведомление о сем от Двора, то скоро получите.
Святейшему Ваше облачение очень понравилось, но в нем он еще не служил, а получено оно как раз в юбилейные его дни; хотя и долго шло, но зато вовремя пришло. Наш Синод кроме адреса поднес Святейшему чудную панагию, хотя не дорогую, но зато очень художественную, серебряную, позолоченную. Он очень доволен, а мы тоже благодарим Бога, что смогли частью отблагодарить за его толикия благодеяния, много бывшие от него.
Чеки на фр. фр. получил, своевременно не отвечал сразу, ибо все поджидал со дня на день получение посылок. Когда будете что-нибудь, кому-нибудь посылать для передачи, то не делайте по-женски, а все подробно переписывайте, что посылаете, и сообщайте отдельно письмом во избежание затруднений, каких было немало при получении двух посылок с иконами и с саккосом Святейшего.
Приветствую Вас с 10-летием Вашей неустанной работы на ниве Христовой в Харбине.
Призываю Божье благословение на Ваши труды и на всю Св. Обитель Вашу, прошу Ваших Святых молитв о мне, вашем богомольце. А Бог Вам в помощь и Царица Небесная, и Св. Угодники Божии. Ваш Доброжелатель Митрополит»1.
В другом письме, от 21 сентября 1934 г., Первоиерарх Зарубежной Церкви выражает благодарность некоей Елизавете Николаевне за преподнесенный ею подарок – полный комплект архиерейского облачения, и вместе с тем, приводя в пример неотступность просьб ветхозаветного пророка Илии, просит оказать материальную помощь в деле налаживания епархиальной жизни в Австралии. Эти строки также иллюстрируют материальную нужду русских зарубежных архиереев и ярко говорят о духовной жизни русских эмигрантов, которая успешно развивалась на всех континентах, кроме Австралии.
«Глубокоуважаемая Елизавета Николаевна!
Берусь за перо, чтобы написать Вам свою задушевную благодарность за чудный подарок – полное архиерейское облачение, которое я сегодня получил. Кроме того, получил я и чай 2 ящичка и тоже уверен, что от Ваших щедрот. Спаси вас Господи за Вашу щедрость.
Однако буду неотступен, как пророк Илия в его беседе со вдовицей из Сарепты Сидон-ской. Он, выпросив себе угощение у той вдовицы, закричал вслед ея: «Сверх того дай мне лепешку из теста и чванец масла, а прочее принесешь мне после».
Так вот и я в надежде, что Вы не отринете нижеследующей просьбы, пишу ее напрямик без дальнейших предисловий:
Теперь у нас имеются епархии во всех частях света, кроме Австралии, где проживают 2 русских священника и несколько тысяч мирян.
Итак, я заручился уже согласием владыки Нестора побывать в Австралии и посмотреть, как можно там устроить православную епархию. Для такой поездки, конечно, потребны не малые средства, а у владыки Нестора, как и у нас, таковых нет. Вот почему еще раз, припомнив неотступность пророка Илии, обращаюсь к Вам, Елизавета Николаевна, с просьбой помочь владыке Нестору в осуществлении возлагаемого нашим священным Собором на него сего святого послушания, исполнив которое, он может стать архиепископом Всея Австралии»2. Невзирая на многие трудности, которые испытывали русские изгнанники, Церковь занимала важное место в их сердцах. Близость священника к прихожанам была явно ощутимой. Так, сохранились свидетельства, в которых выражаются трогательная любовь и почитание к митрополиту Антонию. В 1934 г. М.П. Бачманов в своем письме, в частности, выражает горечь по поводу неподтвержденной информации о якобы готовящемся уходе маститого архиерея на покой.
«Огорчило нас очень известие о том, что Ваше Блаженство решили уйти на покой, – это, кажется, подтверждает и состав нового Синода. Для Заграничной церкви Ваш уход на покой – большой и непоправимый удар. Нет Владыки, равного Вашему Блаженству по авторитету, и сам Блаженнейший Антоний митрополит Киевский и Галицкий – есть целая эпоха Русской церкви – то <…> что к Вашему голосу прислушиваются в Сов. России…»3.
Ответ Первоиерарха гласил:
«Многоуважаемый Михаил Петрович, благодарю Вас за письмо Ваше и выраженную в нем любовь ко мне. Конечно, никому не надо отчаиваться и тем более по поводу несостояв-шегося моего ухода на покой, известие о котором не более, чем газетная утка»4.
Русские священники-эмигранты, к счастью, не были оставлены в своих скитаниях, нередко получая братскую поддержку духовенства Церквей-сестер. О весомой помощи Сербской Церкви сказано ранее. Обратим внимание на следующее письмо от 4 / 17 апреля 1935 г. митр. Антония Блаженнейшему митрополиту Варшавскому Дионисию (Валединскому), где тот ходатайствует об оказании помощи некоему К.Н. Николаеву, – Русская Зарубежная Церковь не могла трудоустроить этого человека, в связи со своим скудным бюджетом. Здесь же Первоиерарх выражает слова благодарности Польскому Предстоятелю за подаренные облачения. Все эти факты подчеркивают безрадостное материальное существование русской зарубежного духовенства. Однако нигде мы не встречаем при этом раскаяния или разочарованности в избранном ими однажды пути пастырского служения – дело проповеди Евангелия они совершали вдохновенно!
«Друг и Владыка. Недавно был у меня К.Н. Николаев, который теперь переселился в Белград и сильно бедствует. Как известно Вам, при всем желании предоставить ему платную службу, мы не в состоянии этого сделать по мизерности своего бюджета. Не удается ему устроиться и на службу Сербской Церкви, и только Святейший Патриарх, со свойственной ему добротой, несколько раз оказывал ему денежную помощь. Зная, как долго К.Н. Николаев прослужил у Вас, и слыша от него, что некоторые епархии не всё ему выплатили, я пишу Вам о его тяжелом положении в надежде, что Вы со своей стороны найдете возможным повлиять на ускорение расчета с ним.
Вы сделаете этим доброе дело, ибо он нелегко приспосабливается к местным условиям, и пройдет еще немало времени, прежде чем он сможет стать на ноги и зарабатывать.
Мы получили повестку на посылку из Варшавы с облачениями и предполагаем, что это не без участия Вашего Блаженства, почему и свидетельствуем Вам свою глубочайшую благодарность, возносим молитвы о здравии и спасении Вашем.
Собираемся праздновать юбилей Святейшего в Фомино воскресенье, к каковому времени приходят из всех стран многочисленные приветствия.
Здоровье мое, слава Богу, как будто немного поправилось, а вот о. Феодосий довольно тяжело болеет гриппом и теперь еще не совсем оправился. Он просил Ваших св. молитв и благословения. Я же приветствую вас с наступающими спасительными днями страданий Господних и желаю Вам в добром здравии встретить Святое Христово Воскресение.
Вашего Блаженства преданный собрат»1.
Заканчивая аналитический обзор материальной стороны существования русского зарубежного духовенства в межвоенный период, отметив его состояние, трудности и способы их преодоления, считаем важным подчеркнуть, что нам не встретилось примеров проявления малодушия или разочарованности среди духовенства в избранном ими пастырском пути. Русский священник на чужбине помнил и исполнял Завет Спасителя: «Ищите же прежде Царства Божия и правды его, и это все приложится вам» (Мф. 6:33). Такой пример очень актуален сегодня, особенно для людей, которые избрали путь духовного служения, – студентов духовных семинарий, слушателей на кафедрах теологии и молодых священнослужителей. Архивные материалы помогают нам установить преемственность образа православного священника на протяжении многих десятков лет и сохранить дореволюционные традиции, пронеся их через географически разделенную историю Православной Церкви в ХХ веке вплоть до наших дней.
Ввиду обширного цитирования источников, которые ранее не были опубликованы, представленные материалы можно использовать для дальнейших исследований. Также они могут быть востребованы преподавателями при подготовке лекций и учебных пособий. Характерные подробности из жизни российских священнослужителей-эмигрантов, несомненно, будут полезны и для ведения миссионерской деятельности Русской Православной Церкви в зарубежных епархиях.
Список литературы "У меня осталось одно облачение, и то исштопанное...": к вопросу о материальном положении русского православного духовенства за рубежом в 20-30-е гг. ХХ в
- Антоний (Храповицкий), митрополит. Письма Блаженнейшего Митрополита Антония (Храповицкого). Джорданвилль: Свято-Троицкий монастырь, 1988. 281 с.
- Вениамин (Федченков), митрополит. На рубеже двух эпох. М., 2016. 704 с.
- Евлогий (Георгиевский), митрополит. Путь моей жизни: Воспоминания. М., 1994. 621 с.
- Киприан (Керн), архимандрит. Воспоминания о митрополите Антонии (Храповицком) и епископе Гаврииле (Чепуре). М., 2012. 143 с.
- Куломзина, С.С. Миры за мирами: Россия и Церковь в моей жизни. Воспоминания эмигрантки. М., 2018. 488 с.
- Никодим (Хмыров), иеромонах. "Нужны средства, нужны, как воздух. ": Однодневные кружечные церковные сборы как одна из форм благотворительной деятельности Русской Православной Церкви заграницей в первой половине 1920-х гг. (По материалам Государственного архива Российской Федерации) // Христианское чтение. 2022. № 3. С. 330-344.
- Никодим (Хмыров), иеромонах. Русская Зарубежная Церковь: Дела. События. Факты. 20-е годы ХХ в. СПб., 2019. 352 с.
- Хмыров Д.В. (Иеромонах Никодим). Православная Церковь по обе стороны советской границы (Журнал РПЦЗ "Церковные ведомости", 1922-1925 годы). СПб., 2021. 233 с.