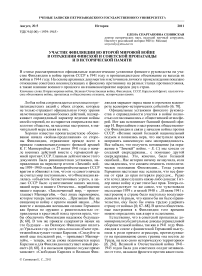Участие Финляндии во Второй мировой войне в отражении финской и советской пропаганды и в исторической памяти
Автор: Сенявская Елена Спартаковна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 5 (118), 2011 года.
Бесплатный доступ
Вторая мировая война, великая отечественная война, финляндия, ссср, карельский фронт, идеологиче- ское обоснование войны, пропаганда и общественное сознание, историческая память
Короткий адрес: https://sciup.org/14749945
IDR: 14749945
Текст статьи Участие Финляндии во Второй мировой войне в отражении финской и советской пропаганды и в исторической памяти
Любая война сопровождается комплексом пропагандистских акций с обеих сторон, которые не только отражают официальную точку зрения на мотивацию ведения боевых действий, подчеркивают справедливый характер ведения войны своей стороной, но и стараются опираться на психологию общества, на массовые настроения, в значительной мере влияя на них.
Хорошо известно пропагандистское обоснование начала «войны-продолжения» со стороны Финляндии, отраженное прежде всего в приказе главнокомандующего финской армией К. Г. Маннергейма от 27 июня 1941 года о начале военных действий вместе с германской армией против СССР. Главным лейтмотивом этого документа была реваншистская установка, направленная на пересмотр итогов «Зимней» войны 1939–1940 годов. Маннергейм называет СССР врагом и обвиняет в том, что он «с самого начала не считал мир постоянным», что Финляндия являлась «объектом беззастенчивых угроз», а целью СССР было «уничтожение наших жилищ, нашей веры и нашего Отечества... порабощение нашего народа». «Заключенный мир, – провозглашает Маннергейм, – был лишь перемирием, которое теперь закончилось....Призываю Вас на священную войну с врагом нашей нации....Мы вместе с мощными военными силами Германии как братья по оружию с решительностью отправляемся в крестовый поход против врага, чтобы обеспечить Финляндии надежное будущее» [6; 60]. В том же приказе содержится намек на это будущее – на Великую Финляндию вплоть до Уральских гор, хотя здесь пока как объект притязаний выступает только Карелия. «Следуйте за мной еще последний раз, – призывает Маннергейм, – теперь, когда снова поднимается народ Карелии и для Финляндии наступает новый рассвет» [6; 60]. А в июльском приказе он уже прямо заявляет: «Свободная Карелия и Великая Фин- ляндия мерцают перед нами в огромном водовороте всемирно-исторических событий» [6; 70].
Официальные установки финского руководства о справедливости участия в войне полностью согласовывались с общественной атмосферой. Вот как вспоминает бывший финский офицер И. Виролайнен о настроениях общественности Финляндии в связи с началом войны против СССР: «Возник некий большой национальный подъем и появилась вера, что наступило время исправить нанесенную нам несправедливость. Все забыли, что получить возмещение (за поражение в “Зимней” войне. – Е. С. ) мы хотели от соседней сверхдержавы... с помощью другой сверхдержавы. Это, конечно, было большой ошибкой... Нас история ничему не научила, если мы надеялись, что сможем изменить геополитическое положение Финляндии... Тогда успехи Германии настолько нас ослепили, что все финны от края до края потеряли рассудок... Редко кто хотел даже слушать какие-либо доводы: Гитлер начал войну и уже этим был прав. Теперь сосед почувствует то же самое, что чувствовали мы осенью 1939 г. и зимой 1940 г....В июне 1941 г. настроение в стране было настолько воодушевленным и бурным, что каким бы ни было правительство, ему было бы очень трудно удержать страну от войны» [6; 67–68]. В целом общественные настроения в Финляндии того времени можно определить как азарт и ослепление.
Естественно, что в советской пропаганде доминировали убедительные доводы справедливой оборонительной войны, так как в 1941 году Финляндия в союзе с фашистской Германией выступила в роли прямого агрессора, претендующего на продвижение своих границ «на восток до Урала, на всю свою историческую территорию» [6; 261]. Великой и Отечественной война 1941– 1945 годов была для советских солдат независимо от того, на каком фронте и против какого кон- кретного противника они сражались. Участники боевых действий с советской стороны имели достаточно оснований, чтобы видеть в финнах жестокого, коварного и опасного врага, преследующего агрессивные аннексионистские цели, попирающего нормы международного права и относящегося к «инородцам» как к «недочеловекам», о чем свидетельствовала проводимая им политика геноцида против русского населения в оккупированных областях [6; 156–169, 184–186, 191– 193, 198–199, 206–208, 242, 248, 250–251, 259, 264–266]. Поэтому многие ключевые оценки противника, звучавшие в советской пропаганде, полностью соответствовали настроениям сражающейся с ним армии.
Три года продолжались бои на Севере между советскими и финскими войсками – до сентября 1944 года, когда Финляндия вышла из войны, заключив перемирие с СССР и Великобританией и объявив войну бывшему союзнику – Германии. Этому событию предшествовали крупные успехи советских войск по всему советско-германскому фронту, в том числе наступление на Карельском фронте в июне – августе 1944 года, в результате которого они вышли к государственной границе, а финское правительство обратилось к Советскому Союзу с предложением начать переговоры. Радикальное изменение хода войны и очевидность ее перспектив к 1944 году вынудили финнов к поиску такого мира, который бы не закончился для них национальной катастрофой и оккупацией. Разумеется, выход Финляндии из войны сопровождался определенными пропагандистскими акциями с обеих сторон. Для Финляндии он был вынужденным, осуществленным в результате побед Красной армии над Германией и ее союзниками, под угрозой бомбардировок финских городов и советского наступления на финскую территорию. Финнам пришлось принять ряд предварительных условий, в том числе о разрыве отношений с Германией, выводе или интернировании немецких войск, отводе финской армии к границам 1940 года и ряд других.
Показательно, что мотивация вступления в войну и выхода из нее была практически противоположной. В 1941 году фельдмаршал Маннергейм вдохновлял финнов планами создания Великой Финляндии и клялся, что не вложит меч в ножны, пока не дойдет до Урала, а в сентябре 1944-го оправдывался перед своим союзником А. Гитлером за то, что вынужден вывести «маленькую Финляндию» из войны: «...я пришел к убеждению, что спасение моего народа обязывает меня найти путь быстрого выхода из войны. Общее неблагоприятное развитие военной обстановки все более ограничивает возможности Германии предоставлять нам в нужный момент своевременную и достаточную помощь... Мы, финны, уже даже физически неспособны продолжать войну... Предпринятое русскими в июне большое наступление опустошило все наши резервы. Мы не можем больше позволить себе такого кровопролития, которое подвергло бы опасности дальнейшее существование маленькой Финляндии... Если этот четырехмиллионный народ будет сломлен в войне, не вызывает сомнения, он обречен на вымирание. Не могу подвергнуть свой народ такой угрозе» [16; 480–481].
Угроза поражения и его последствий для Финляндии явились важным мотивом и в официальной мотивации выхода страны из войны, адресованной населению, хотя в пропагандистских акциях акценты были явно переставлены. Мотивируя выход из войны поражениями, с одной стороны, Германии и ее союзников на всех фронтах, а с другой стороны – июньским прорывом своей обороны на Карельском перешейке, премьер-министр Финляндии Хакцелль в своей речи по радио 3 сентября 1944 года по вопросу о перемирии между СССР и Финляндией подчеркнул, что Финляндия «осталась одна против во много раз превосходящего в военной мощи врага. В течение трех лет мы честно несли бремя братства по оружию с Германией, поскольку доблестная военная борьба отвечала до определенного момента интересам обороны нашей страны» [6; 526–527]. Таким образом, именно изменение международной обстановки и положения на театре военных действий признавалось финским руководством как главная причина выхода из войны. Вместе с тем в эту мотивацию для «массового потребления» вносились и определенные коррективы. В частности, провозглашалось «большое стремление нашего народа к миру» [6; 527]. В своем приказе в связи с прекращением военных действий и готовностью Финляндии начать мирные переговоры с СССР от 7 сентября 1944 года, Маннергейм заявляет, что «народ Финляндии может сохранить свою независимость и обеспечить свое будущее только при том условии, что будет стремиться к искренним и доверительным отношениям с соседними странами» [6; 532]. В действительности Финляндия в сентябре 1944 года фактически приняла ультиматум – либо согласиться на все советские требования, впрочем, весьма умеренные, хотя и включавшие территориальные уступки, либо столкнуться с неизбежной оккупацией страны. Как вспоминал премьер-министр Финляндии Э. Линко-миес, «сразу было ясно, что уже нет другой возможности, как только согласиться с условиями, какими бы тяжелыми они не представлялись» [6; 557]. В своей телеграмме от 18 сентября 1944 года правительству Финляндии о ходе советско-финляндских мирных переговоров в Москве финский министр иностранных дел К. Энкель сообщил позицию Молотова: «…если мы не подпишем документы, то можем возвращаться. Непосредственным последствием этого будет оккупация всей страны. Возможностей для возраже- ния не было» [6; 557]. Таким образом, отказ Финляндии от неоднократных, начиная с 1942 года, советских предложений о выходе из войны в иной военно-политической ситуации и на самых благоприятных для нее условиях осенью 1944 года привел к фактическому принятию ультиматума под давлением военной силы. Попытки финской стороны завуалировать этот вынужденный характер перемирия выглядели весьма неубедительными хотя бы потому, что правительство Финляндии приняло все предварительные условия советского руководства. Восстанавливалось действие Мирного договора между СССР и Финляндией от 12 марта 1940 года с изменениями, вытекавшими из Соглашения о перемирии [1; 215–220].
Военные поражения Германии и ее сателлитов к лету 1944 года вызвали «падение морального духа как на фронте, так и в тылу Финляндии» [3; 85–86], о чем свидетельствовали захваченные советской военной разведкой письма финских военнослужащих. Такие выводы содержатся, например, в Информационном докладе начальника штаба УК БТ МВ 32-й армии Карельского фронта подполковника Киселева за июль 1944 года, где целый раздел посвящен анализу «политико-морального состояния войск противника». Вместе с тем в том же документе отмечалось, что «хотя в финских войсках в последнее время и наблюдается значительное снижение политико-морального состояния, в результате чего увеличилось дезертирство и факты неподчинения приказаниям командиров, часть из солдатских писем, а также ряда показаний военнопленных говорят о том, что моральный дух финских войск еще не сломлен, многие продолжают верить в победу Финляндии. Сохранению боеготовности способствует также боязнь того, что русские, мол, варвары, которые стремятся к физическому уничтожению финского народа и его порабощению» [3; 85]. Во многом это состояние финских войск являлось результатом длительной и интенсивной антисоветской и антирусской пропаганды, внушения страха перед «варварами», опасения, что «если Германия и Финляндия проиграют войну, финский народ ожидает физическое истребление».
Не случайно летом 1944 года аналитические и разведывательные службы советской армии на всех уровнях приходили к выводу, что «в результате наступательных действий советских войск политико-моральное состояние финских войск значительно снизилось... Несмотря на это, боевой дух финских частей продолжает оставаться на достаточно высоком уровне, чтобы оказать упорное сопротивление наступлению наших частей» [3; 86]. Таким образом, принимая решение о перемирии с Финляндией на довольно мягких для нее условиях (как бы ни оценивали их сами финны), советское правительство избежало ог- ромных жертв в случае продолжения войны с нею и необходимости оккупации этой страны.
В то же время проводилась определенная пропагандистская подготовка в связи с возможным вступлением советских войск на финскую территорию. Такое вступление предполагалось в случае необходимости «помочь» Финляндии интернировать находящиеся там немецкие войска. Главной установкой при этом для советских солдат и офицеров было «всегда помнить, что это не освобождение Украины и Белоруссии, где наши войска встречал наш освобожденный из-под ига советский народ, а это жители Финляндии, которая ведет против нас не первую войну», быть бдительными, «держать себя с достоинством и честью, как воины армии-победительницы», помнить, что «мы не оккупируем Финляндию, а уничтожаем немцев вместе с финской армией. А поскольку бьем немцев вместе – не допускать столкновений с финской армией, держать себя с достоинством, подчеркивать свое превосходство. Не допускать братания, покончить с добродушием» [2; 306–307]. Однако данный документ является лишь рукописным проектом директивы, которая официально не была утверждена и применена, и отражает возможные, но так и не реализованные планы, которые вместе с тем характеризуют позицию армейских партийно-политических органов в контексте конкретной ситуации сентября 1944 года.
В воспоминаниях о Великой Отечественной войне часто встречаются попытки сравнить поведение финнов в период Зимней войны и в ходе боевых действий на Карельском фронте. Очень показательны в этом плане фронтовые записки К. Симонова о наступлении советских войск на Карельском перешейке летом 1944 года. Рассказывая о стремительном взятии Выборга («В сороковом году, во время финской войны, на все это понадобилось три месяца боев с тяжелейшими жертвами, а теперь всего одиннадцать суток со сравнительно небольшими потерями с нашей стороны...»), он отмечает: «Надо отдать должное финнам – они не переменились, остались такими же стойкими солдатами, какими были. Просто мы научились воевать» [19; 385]. И здесь же упоминает свои беседы с фронтовиками: «Один из офицеров говорит, что финны не привыкли воевать летом. Начинается спор про финнов – те они или не те, какие были тогда. Один говорит, что совсем не те, что были, другой – тоже участник финской войны – говорит, что те же самые, ничуть не хуже воюют, все дело не в них, а в нас. Наверное, правильно...» [19; 389]. Затем К. Симонов приводит мнение генерала Н. Г. Лященко, который «говорит про финнов, что вояки они, как и были, так и есть, храбрые. Но в этих боях выяснилось, что они исключительно чувствительны к обходам. Как проткнул, вышел им в тыл – теряются!» [19; 390].
Но даже эта, отмеченная многими «растерянность», «с каждым днем все большая ошеломленность происходящим» [19; 390], охватившая финскую армию в период успешного советского наступления, не делала финнов менее серьезным противником. По свидетельству Ю. П. Шарапова, в конце июля 1944 года, когда наши войска вышли к государственной границе и перешли ее, углубившись на финскую территорию до 25 км, они получили шифровку Генерального штаба с приказом немедленно возвращаться, так как уже начались переговоры о выходе Финляндии из войны. Но пробиваться обратно им пришлось с упорными боями, так как финны не собирались их выпускать. Сравнивая эту ситуацию с положением на других фронтах, ходом освободительной миссии и последующим насаждением социализма в странах Восточной Европы, Ю. П. Шарапов отмечает: «Мы, те, кто воевал на Севере, относились к этому по-другому. Как только пришла шифровка не пускать нас в Финляндию, мы сразу поняли, что дело пахнет керосином, что нечего нам там делать, – потому что там была бы война до самого Хельсинки. Уж если они в лесу воюют, и надо было стрелять в затылок, чтобы финн из-за этого валуна перестал стрелять, то можете представить, что было бы, когда бы мы шли дальше и прошли еще 240 километров. Тут и Сталин, и его окружение понимали, что с кем с кем, а с финнами связываться не надо. Это не немцы, не румыны, не болгары и не поляки...» [5].
О том, как воспринимали соглашение о перемирии с Финляндией советские военнослужащие, свидетельствуют донесения политотдела 19-й армии Карельского фронта от 25 и 28 сентября 1944 года, где приводятся многочисленные высказывания бойцов на эту тему. Вот наиболее типичные: «Удары Красной Армии заставили финских “завоевателей” сложить оружие», «Финны мечтали о “Великой Финляндии”, но они просчитались и получили по заслугам», «Больше не захотят поживиться за счет русской земли», «Для Финляндии это великодушное соглашение», «Финны слишком медлят и с разоружением немецких войск провозятся долго», «В список преступников надо первым внести Маннергейма, который в начале войны говорил, что не вложит меча в ножны, пока не дойдет до Урала» [7; 174, 176]. Анализируя их, политотдел сделал вывод, что «соглашение с Финляндией вызвало всеобщее одобрение личного состава и расценивается как еще одна большая победа мудрой сталинской политики и показатель мощи Красной армии», что при проведении бесед и политинформаций, а также в частных беседах советские военнослужащие «выражают правильное понимание текущих событий» [7; 174].
Противоречивость ситуации выхода Финляндии из войны, когда эта страна из противника превращалась в нейтральное для СССР государст- во (а в плане интернирования немецких войск – с элементами союзных отношений), отразилась и в пропагандистском ее освещении, и в восприятии массового сознания. На уровне общественных настроений финны оставались враждебны «Советам», да и русским вообще прежде всего вследствие многолетней и интенсивной пропагандистской обработки населения. И факт очередного поражения в войне далеко не сразу привел финское массовое сознание к пересмотру оценок в отношениях с восточным соседом если не в сторону дружелюбия, то хотя бы в сторону реалистичности. Тем более этого невозможно было достичь в ходе непосредственных боевых действий, даже под влиянием очевидного поражения. Такой «трезвый» и вынужденный поворот смогла сделать лишь финская элита. Однако, как впоследствии признавал в своих мемуарах К. Г. Маннергейм, к 1944 году «народ Финляндии... научился думать реалистически. На своем опыте он смог убедиться, что и наша страна была пешкой в политической игре великих государств и что ни одно великое государство не побрезгало использовать малую страну в своих интересах» [16; 482]. Ход и исход войны заставили финнов умерить амбиции и по-иному взглянуть на свои место и роль в мировой геополитике. Однако реваншистские настроения, в 1941 году приведшие Финляндию к союзу с Гитлером, а позднее к вынужденному выходу из Второй мировой войны, сохранялись в финском обществе в течение всех послевоенных десятилетий, несмотря на дружественные отношения с СССР на государственном уровне. Явно или косвенно этому явлению способствовала и пропаганда, в том числе в контексте литературы, искусства и кинематографа.
Драматический опыт военного противостояния СССР и Финляндии в ходе Второй мировой войны весьма существенно повлиял на массовое сознание народов двух стран в контексте их вза-имовосприятия. Однако в отношении русских к финнам – и это весьма интересный социальнопсихологический феномен – никогда не было той массовой ненависти, которая характерна для отношения к немцам в период Второй мировой войны и еще многие годы после ее окончания. Показательно, что из всех союзников Германии, граничивших с СССР, лишь Финляндия не подверглась советской оккупации и «советизации», приобретя уникальный статус «нейтрально-дружественного» государства (в сфере советского влияния) на многие десятилетия холодной войны. И данный статус послевоенной Финляндии, который поддерживался советской пропагандой, оказал сильное воздействие на восприятие в СССР этой страны и ее народа в последующие годы.
Известно, что образ восприятия другой страны существует на нескольких уровнях: официальнопропагандистском, служебно-аналитическом, художественно-обобщенном, личностно-бытовом и др. Пропаганда и средства массовой информации играют весьма существенную роль в формировании этого образа в исторической памяти. Основную информацию о Финляндии простой советский (а позднее российский) человек получал главным образом из учебников, прессы, телевидения, произведений искусства. При этом в послевоенном СССР в учебной литературе и в СМИ эпизоды военного противостояния с Финляндией занимали крайне незначительное место, а то и вовсе замалчивались в угоду политической конъюнктуре, а именно официально дружественному отношению двух стран. Так что для обыденного сознания людей основным источником более адекватной информации по этому вопросу оставались воспоминания непосредственных участников и свидетелей событий – субъектов индивидуальной и коллективной исторической памяти. К ним относились ветераны боевых действий в период Зимней войны и на Карельском фронте, а также жители приграничных территорий, подвергшихся финской оккупации. Именно от них до массового сознания доходили сведения об особой жестокости финнов по отношению к пленным и к гражданскому русскому населению оккупированных областей, об их оккупационной политике, носившей характер геноцида. То есть личностно-бытовой образ оказывался куда более адекватным для формирования исторической памяти о противнике из соседней страны, нежели официально-пропагандистский. Однако доступен он был весьма немногим: лишь незначительная часть людей, преимущественно живших в приграничных районах, была причастна к источникам непосредственной исторической памяти (современники и участники событий и общавшиеся с ними люди). Что касается художественно-обобщенного образа войн с Финляндией, то он в нашей стране фактически так и не был сформирован. Поэтому в советском массовом сознании на протяжении четырех послевоенных десятилетий доминировал официально-пропагандистский образ.
В период перестройки в контексте разоблачения «преступлений сталинского режима» впервые в фокусе внимания историков и публицистов оказалась и «незнаменитая» Советско-финляндская война 1939–1940 годов, при этом основной акцент в ее освещении был сделан на негативных для советской стороны аспектах этого события (якобы немотивированная агрессия великой державы против маленького соседа; неудачное ведение боевых действий и неоправданно высокие потери советской стороны; репрессии против вернувшихся из финского плена красноармейцев и т. д.). Лишь в последние годы акценты в изучении и освещении этого события постепенно смещаются в сторону объективных оценок, а не сосредоточения на внешних его сторонах. Более полно и разносторонне освещается ход войны на Карельском фронте в 1941–1944 годах, роль Финляндии в блокаде Ленинграда и военные преступления финских оккупантов на территории Карелии. Однако и это раскрытие исторической правды не ведет к разжиганию анти-финских настроений в российском обществе.
Иначе формировался образ России в послевоенном финском обществе. Об этом свидетельствует и сравнительный анализ «образа врага», отраженного в финском и российском кинематографе о Второй мировой войне [18]. В Финляндии, несмотря на все договоры о дружбе и сотрудничестве, весьма сильны антирусские и реваншистские настроения, которые на протяжении многих десятилетий активно подогревались пропагандистскими средствами, в том числе кинематографом. Если в СССР образ Финляндии как противника создавался средствами киноискусства лишь в контексте военного противостояния (непосредственно в годы войны), причем это отношение не распространялось на финскую нацию, то в Финляндии образ России-врага культивировался все послевоенные десятилетия, при этом в качестве врага воспринималось не только соседнее государство («исконный враг!»), но и весь русский народ – по своей «низкой природе». В сознании финнов средствами киноискусства закладывалась мысль о «естественных правах» на соседние территории не только потому, что на некоторых из них проживают «родственные» угрофинские народы, прежде всего карелы, но и по причине «природного превосходства» цивилизованных, высокоразвитых финнов над «этими отсталыми, жалкими и презренными рюсси». Даже в период официальной «крепкой советско-финляндской дружбы» в финской литературе и искусстве проскальзывали откровенные антирусские настроения, а также сожаления о том, что экспансионистские планы по созданию Великой Финляндии провалились.
Финский социолог Й. Бэкман, исследовавший общественные настроения в Финляндии, утверждает, что «у русских сформировался слишком положительный образ финнов и политики Финляндии. Во времена советской пропаганды Финляндия представлялась как доброжелательная страна. Но каждый, кто жил в Финляндии в 1990-х, знает, что атмосфера в Финляндии анти-российская. Финские реваншистские настроения имеют скрытый характер, финны знают, что русским не стоит открыто угрожать». Однако «многие представители финской элиты ждут развала России и возвращения Финляндии карельских территорий», на которых планируется провести этнические чистки [8]. В своем выступлении весной 2002 года на военно-историческом сборе в Суоярви, посвященном годовщине окончания Советско-финляндской войны 1939–1940 годов, Й. Бэкман заявил, что «МИД Финляндии начал огромную пропагандистскую кампанию по ускорению возвращения Карелии Финляндии», а сотрудники его российского отдела пишут в своих отчетах о генетической неполноценности русских [22].
Историческая память о Второй мировой войне и участии в ней Финляндии на протяжении ряда десятилетий подвергается вполне сознательному искажению как в публичных оценках правящих кругов этой страны, так и в высказываниях многих представителей ее интеллектуальной элиты, что, безусловно, влияет на массовое сознание финского народа в целом. При этом характерно, что событиям 1939–1940 и 1941–1944 годов, в масштабах мировой войны игравшим малозначимую роль на второстепенном театре боевых действий, в Финляндии придается судьбоносное значение не только для национальной истории этой маленькой северной страны, но и для всей «западной цивилизации и демократии», причем государство, воевавшее на стороне гитлеровской Германии и проигравшее войну, предстает едва ли не как победитель и «спаситель Европы от большевизма». Более того, неуклюже отрицается сам факт, что Финляндия во Второй мировой войне являлась союзницей фашистской Германии: она якобы была всего лишь «военной соратницей». Однако подобная словесная эквилибристика может обмануть лишь тех, кто сам желает обмануться: совместный характер целей и действий, согласованность планов двух «соратников», в том числе по послевоенному разделу СССР, широко известны.
Тем не менее попытки «переписать историю» вопреки очевидным фактам продолжаются. Так, 1 марта 2005 года во время официального визита во Францию президент Финляндии Т. Халонен выступила во Французском институте международных отношений, где «познакомила слушателей с финским взглядом на Вторую мировую войну, в основе которого тезис о том, что для Финляндии мировая война означала отдельную войну против Советского Союза, в ходе которой финны сумели сохранить свою независимость и отстоять демократический политический строй». МИД России вынужден был прокомментировать это выступление руководителя соседней страны, отметив, что «эта трактовка истории получила распространение в Финляндии, особенно в последнее десятилетие», но что «вряд ли есть основания вносить по всему миру коррективы в учебники истории, стирая упоминания о том, что в годы Второй мировой войны Финляндия была в числе союзников гитлеровской Германии, воевала на ее стороне и, соответственно, несет свою долю ответственности за эту войну». Для напоминания президенту Финляндии об исторической правде МИД России предложил ей «открыть преамбулу Парижского мирного договора 1947 года, заключенного с Финляндией “Союзными и Соединенными Державами”» [4]. Вместе с тем не только финские политики, но и ряд историков придерживаются этой скользкой позиции [9], [10].
Однако в последние годы «неудобные» для финской стороны темы преступлений гитлеровского союзника все больше становятся достоянием как научного сообщества, так и общественности. Среди них – не только крайняя жестокость и бесчеловечность обращения с советскими военнопленными, но и общая политика финского оккупационного режима на занятых советских территориях с откровенно расистскими установками в отношении русского населения и ориентация на его истребление. Сегодня опубликовано немало материалов с документальными свидетельствами жертв финских оккупантов, в том числе малолетних узников концентрационных лагерей [11; 14], [13; 47–56], [14; 41–43], [15], [17], [20], [21], [23; 142–151], [24], [25; 37–46], [26; 345– 351]. Однако – в отличие от правительства современной Германии – официальная позиция финской стороны состоит в том, чтобы не признавать эти действия своей армии и оккупационной администрации в качестве преступлений против человечности, а концлагеря в оценках финской историографии предстают едва ли не санаториями.
И вот, наконец, последние новости с «поля битвы» за историческую память. «Граждане Финляндии – особенно старшего поколения – испытывают сейчас настоящий шок, – отмечает в “Независимом военном обозрении” Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР и РФ, руководитель Центра Северной Европы Института Европы РАН Ю. С. Дерябин. – 28 из 37 финских профессоров-историков, опрошенных недавно крупнейшей газетой страны “Хельсингин Саномат”, пришли к выводу, что война 1941–1944 годов против Советского Союза, развязанная тогдашними правителями Суоми, отнюдь не была “войной-продолжением” (Зимней войны 1939–1940 годов) или “отдельной” (от Гитлера) войной, как до сих пор утверждало большинство финских историографов и политиков, в том числе нынешний президент республики Тарья Халонен» [12]. И приводит прозвучавшие в ходе опроса мнения: «Профессор Туомас Хейккиля: “На практике Финляндия была союзницей Германии”. Профессор Пертти Хаапала: “Общественность и политики не готовы рассматривать Вторую мировую войну такой, какой она была на самом деле”. Профессор Юха Силтала: “Общепринятая версия политической, бюрократической и деловой элиты поставлена под вопрос”. Депутат парламента, бывший министр иностранных дел Эркки Туомиойя (социал-демократ) : “Говорить о войне продолжения -напрасное дело”» [12]. И хотя позиции сторонников официальной версии о роли Финляндии во Второй мировой войне продолжают оставаться достаточно сильными, голоса тех, кто не боится исторической правды, звучат все более смело. В какой мере выводы специалистов смогут по- влиять на историческую память граждан Финляндии о Второй мировой войне, формировавшуюся на протяжении многих десятилетий под мощным воздействием пропаганды, начиная со школьных учебников истории, станет известно позднее: процесс переосмысления прошлого в массовом общественном сознании требует значительного времени.
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект № 11-01-00363а.
Список литературы Участие Финляндии во Второй мировой войне в отражении финской и советской пропаганды и в исторической памяти
- Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны. Документы и материалы, 1 января -31 декабря 1944 г. Т. 2. М.: Госполитиздат, 1946. 684 с.
- Выводы Политотдела 19-й армии о партийно-политической работе в войсках в связи с предстоящим вступлением на вражескую территорию. Сентябрь 1944 г.//Центральный архив Министерства обороны РФ (далее -ЦАМО РФ). Ф. 372. Оп. 6570. Д. 58.
- Информационный доклад о боевом использовании противником мотомехвойск и организации противотанковой оборо-ны перед фронтом 32-й армии за июль месяц 1944 г.//ЦАМО РФ. Ф. 387. Оп. 8680. Д. 17.
- Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с вопросом СМИ относительно трактовки Пре-зидентом Финляндии Т. Халонен характера Второй мировой войны. 408-03-03-2005 [Электронный ресурс]. Режим до-ступа://http://www.ln.mid.ru/brp_4.nsf/sps/EC2527949C2E95BDC3256FB9005F21FD
- Личный архив автора. Интервью с Ю. П. Шараповым от 17 мая 1995 г.
- По обе стороны Карельского фронта, 1941-1944: Документы и материалы/Институт языка, литературы и истории Ка-рельского научного центра РАН; Науч. ред. В. Г. Макуров. Петрозаводск: Карелия, 1995. 636 с.
- Политдонесение политотдела 19-й армии от 25.09.1944 и 28.09.1944 г.//ЦАМО РФ. Ф. 372. Оп. 6570. Д. 51.
- Бэкман Й. Финляндия без маски [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://whiteworld.ruweb.info/rubriki/000108/006/02051703.htm
- Вихавайнен Т. Пропаганда и контроль общественного мнения в Финляндии во время войны 1939-1944 годов: До-клад на XVII финско-российском симпозиуме историков. Институт Ренволл, Хельсинкский университет. 25-26 мая 2001 г.
- Вихавайнен Т. Пропаганда во время войны-продолжения: Доклад на Финляндско-российском семинаре «Война-продолжение 1941-44 гг. Взгляд по обе стороны фронта». Институт Финляндии в Санкт-Петербурге, 25 мая 2005 г. 11. Гущин Б. Колючая проволока нашего детства//Лицей. 2002. № 10. С. 14.
- Дерябин Ю. С. Давний миф наконец-то лопнул (Финские историки признали соучастие Хельсинки в гитлеровской агрессии против СССР)//Независимое военное обозрение. 2008. 21 ноября.
- Костин И. А. Воспоминания о жизни в оккупированном Заонежье//Карелия в Великой Отечественной войне. 1941-1945: Материалы конф. Петрозаводск, 2001. С. 47-56.
- Лайне А. Гражданское население восточной Карелии под финляндской оккупацией во Второй мировой войне//Каре-лия, Заполярье и Финляндия в годы Второй мировой войны. Петрозаводск, 1994. С. 41-43.
- Лукьянов В. Трагическое Заонежье. Документальная повесть. Петрозаводск: Тип. им. П. Ф. Анохина, 2004. 252 с.
- Маннергейм К. Г. Мемуары. М.: Вагриус, 2000. 507 с.
- Плененное детство: сборник воспоминаний бывших малолетних узников. Петрозаводск: Фолиум, 2005. 104 с.
- Сенявская Е. С. Русские и финны глазами друг друга: «образ врага» в кинематографе о Второй мировой войне//Вестник РУДН. Сер. «История России». 2005. № 4. С. 13-19.
- Симонов К. Разные дни войны. Дневник писателя: В 2 т. Т. 2: 1942-1945 годы. М.: Мол. гваpдия, 1977. 781 с.
- Судьба. Сборник воспоминаний бывших малолетних узников фашистских концлагерей/Ред.-сост. И. А. Костин. Петро-заводск: ГУ КРБС, 1999. 74 с.
- Сулимин С., Трускинов И., Шитов Н. Чудовищные злодеяния финско-фашистских захватчиков на территории Карело-Финской ССР: Сб. документов и материалов. Петрозаводск: Гос. изд-во Карело-Финской ССР, 1945. 304 с.
- Фарутин А. «Карельский вопрос» под прицелом новых «кукушек»//Независимая газета. 2003. 28 января.
- Чумаков Г. В. Финские концентрационные лагеря для гражданского населения Петрозаводска в 1941-1944 гг.//Вопросы истории Европейского Севера (Народ и власть: проблемы взаимоотношений. 80-е гг. XVIII-XX вв.): Сб. науч. ст. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2005. С. 142-151.
- Шадрова Л. В. Горечь детства, горечь смерти. Книга памяти. Война, плен, концлагеря//Карелия 1941-1944 гг. Под-порожье: Свирские огни, 1998.
- Шляхтенкова Т. В., Веригин С. Г. Концлагеря в системе оккупационной политики Финляндии в Карелии 1941-1944 гг.//Карелия в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: Материалы республиканской науч.-практ. конф. Петрозаводск, 2001. С. 37-46.
- Юсупова Л. Н. Военное детство в памяти поколения, пережившего оккупацию в Карелии//Военно-историческая антропология. Ежегодник, 2003/2004. Новые научные направления. М.: РОССПЭН, 2004. С. 345-351.