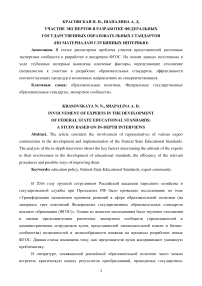Участие экспертов в разработке федеральных государственных образовательных стандартов (по материалам глубинных интервью)
Автор: Красовская Н.Н., Шапалина А.Д.
Журнал: Огарёв-online @ogarev-online
Статья в выпуске: 5 т.5, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрена проблема участия представителей различных экспертных сообществ в разработке и внедрении ФГОС. На основе данных полученных в ходе глубинных интервью выявлены ключевые факторы, определяющие отношение специалистов к участию в разработке образовательных стандартов, эффективности соответствующих процедур и возможных направлениях их совершенствования.
Образовательная политика, федеральные государственные образовательные стандарты, экспертное сообщество
Короткий адрес: https://sciup.org/147249441
IDR: 147249441 | УДК: 37.014.544.3
Текст научной статьи Участие экспертов в разработке федеральных государственных образовательных стандартов (по материалам глубинных интервью)
В 2016 году группой сотрудников Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ было проведено исследование по теме «Трансформация механизмов принятия решений в сфере образовательной политики (на материале трех поколений Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС)». Одним из аспектов исследования было изучение отношения и оценки представителями различных экспертных сообществ (преподавателей и административных сотрудников вузов, представителей законодательной власти и бизнес-сообщества) возможностей и целесообразности влияния на процессы разработки новых ФГОС. Данная статья посвящена тому, как представители вузов воспринимают указанную проблематику.
В литературе, посвященной российской образовательной политике часто можно встретить критическую оценку результатов преобразований, проводимых государством.
Причем авторы нередко подразумевают не столько ошибочность целевых ориентиров этой политики, сколько механизмы ее реализации, которые не позволяют в полной мере задействовать имеющийся интеллектуальный и педагогический потенциал российского высшего образования [1; 2]. Во-вторых, имеющиеся данные об отношении вузовского сообщества к нововведениям, в частности, к новым ФГОС, говорят о серьезном разрыве между декларируемыми задачами преобразований и тем, как трансформируются инновации в процессе их внедрения [3]. Можно предположить, что именно через вовлечение вузовского сообщества в процедуры разработки и внедрения ФГОС могут быть найдены способы преодоления такого разрыва. Понимание того, как проблема выглядит с точки зрения самих сотрудников университетов имеет важное прикладное значение.
В ходе эмпирического этапа исследования был осуществлен опрос экспертов – представителей нескольких профессиональных аудиторий. Для сбора информации был использован метод личного глубинного неформализованного интервью. Участники не были информированы о позициях друг друга.
Все интервьюеры прошли специальное обучение для успешного проведения интервью в рамках данного экспертного опроса. Инструктирование интервьюеров включает в себя разъяснение информации о целях и задачах работ, об особенностях взаимодействия с экспертами. Опрос специалистов-экспертов проводился в формате свободной беседы с использованием аудиозаписи, которая проводилась для повышения качества обработки данных.
Отбор экспертов был осуществлен на основании следующих критериев: статус эксперта; активная позиция и открытость эксперта; практический опыт эксперта; заинтересованность эксперта в обсуждении исследуемых проблем; информированность эксперта в области исследуемых проблем; продолжительность одного интервью составила от 20 до 35 минут.
Всего в ходе опроса было проведено 15 интервью. Данное количество респондентов можно считать оптимальным с точки зрения получения полного спектра мнений по проблематике исследования в целом, а также для кросс-проверки информации внутри каждой целевой аудитории исследования с учетом ее специфики.
Обработка собранной информации в ходе интервьюирования осуществлялась в анонимном формате в четком соответствии с требованиями Кодекса ENSOMAR к практике проведения маркетинговых и социальных исследований.
Анонимность результатов опроса была также анонсирована всем респондентам на этапе формирования договоренностей.
В связи с необходимостью соблюдения вышеперечисленных требований при цитировании указывается принадлежность эксперта к соответствующей целевой аудитории.
Обработка и анализ качественных данных осуществлялся с использованием пакета Atlas.ti. Тексты интервью структурировались, осуществлялся отбор и тематическая группировка цитат в разрезе блоков вопросника, выделялись трактовки (сюжеты). Данные «сюжеты» проанализированы по всему массиву собранных данных: и внутри групп, и в целом по выборке.
Концептуальная аналитическая обработка полученного материала была отражена в сводном аналитическом документе. Она включает в себя: выделение общих мнений в оценках; выделение значимых различий в оценках; выделение ключевых и второстепенных проблем; выделение актуальных задач и направлений решений; систематизацию обоснованных рекомендаций, предложенных экспертами.
Ниже приводятся результаты исследования.
Приоритетная роль государства. Несмотря на тенденции к расширению количества участников и публичности обсуждения проектов стандартов, всем опрошенным экспертам представляется логичным централизованный характер процесса подготовки стандартов:
«… законом установлен государственный орган, который отвечает за государственную политику в области образования. В отношении этого органа выступает Министерство образования и науки Российской Федерации. Ему принадлежит законотворческая инициатива по изменению действующих стандартов. Но, насколько я представляю, скажем, макеты для новых поколений федеральных государственных стандартов, утверждаются на уровне Правительства Российской Федерации, чтобы обеспечить эту межведомственную координацию по введению этих стандартов» (Высшая власть).
Министерство образования и науки оказывается ключевым и центральным субъектом процесса стандартизации, фактически беря на себя функции не только инициирования и контроля результата этого процесса, но и своеобразной творческой лаборатории и координационного центра:
«Макетирование самих стандартов – это обычно такой рабочий процесс. Как правило, в составе Министерства образуются рабочие группы, которые собственно и занимаются этим макетированием. Дальше уже эти макеты поступают в координационные советы различных ведомств и министерств (это то, что раньше называлось УМО, это сейчас вот эти координационные советы). И они уже как бы привязывают эти макеты к тем областям профессиональной деятельности, которые характерны для данного ведомства, для данного направления в прикладном плане. От общих задач идет уже по отдельным направлениям» (Высшая школа).
Важно подчеркнуть, что в такой конструкции вузы оказываются в конце цепочки подготовки документов, определяющих основания образовательной деятельности. Интересно, что в этой ситуации стимулирование государством новых субъектов к участию в работе над стандартами приводит к тому, что аналитическая и прогностическая деятельность этих субъектов до известной степени превращается в угадывание пожеланий заказчика:
«Вопрос набора минимум: что хочет государство? … поспеть за технологиями сложно. Может быть, было бы правильно просто навыки, знания и умения там оставить, количество часов… И там идея была, чтобы профессиональный стандарт сформулировать, но, некий маяк образовательным стандартам, что должны в себя включать компетенции. Мы эту работу тоже вели в АСИ, был создан Совет по квалификациям. Запустили работу по формированию профессиональных стандартов. …И вот уже третий год государство продолжает финансировать» (Общественная организация)
Логика заказа и фактически покупки стандартизированного минимума образования нередко звучит и в более прямой формулировке:
«...стандарт должен быть, по крайней мере, на том уровне, если государство этот процесс финансирует, и решает за счет образования очень много своих задач и проблем. Если это было бы полностью платное у нас образование, тогда роль государства сводилась, может быть, к лицензированию образовательной деятельности. Ну, есть у тебя какие-то минимальные критерии (помещение, оборудование, еще что-то), ну, и занимайся: бери деньги и учи, кого хочешь и как хочешь. Ну, где-то, в каких-то государствах это работает, в каких-то нет. Тут еще менталитет важен, на самом деле» (Высшая школа).
Существенным аспектом «менталитета», предполагающего, что государство в лице Министерства образования и науки, будучи уполномоченным определять образовательную политику должно брать на себя и разработку стандартов является представление опрошенных экспертов об авторстве стандартов:
«Я думаю, что об авторстве говорить здесь очень сложно. Точно так же, как в законотворческой деятельности. Там нет авторства, права авторства. Очень часто где-нибудь в регионе придумают хороший закон, здесь он отклоняется или оппозиционные партии придумали закон, он отклоняется, через некоторое время появляется уже подобный законопроект от партии власти, но поскольку авторства нет, то теперь уже этим пользуются другие. А вот в Соединенных Штатах Америки авторство сохраняется. У нас же такого нет. Может быть, здесь вот эта коллективная ответственность в какой-то степени размазывает их, могут быть отрицательные моменты. Но, в целом, конечно, поскольку министр подписывает стандарт, он несет за все ответственность». (Высшая школа)
Таким образом, в отсутствие авторства, несмотря на расширение вовлеченных в процесс «игроков» и появление современных форм публичности, по сути, ответственным «автором» оказывается лично министр. В контексте нашего исследования чрезвычайно важно, что участие экспертов в разработке стандартов не предполагает с их стороны никакой ответственности ни за содержание, ни, тем более, за эффект от внедрения новых стандартов.
Процедуры разработки ФГОС. Интересно при этом, что, несмотря на введение ряда параметров публичности в процесс разработки стандартов, для многих сотрудников вузов процесс их подготовки остается не вполне ясным:
«Наверное, [Министерство образования взаимодействует] с головными вузами -УМО раньше, сейчас это Координационные советы. Наверное, что-то есть такое» (Высшая школа).
«Как я подозреваю, задание дается тем структурам, которые раньше назывались «учебно-методические объединения», сейчас это называется Координационные советы. Я предполагаю , что им» (Высшая школа).
Принципы, лежащие в основании тех или иных решений не вполне ясны и тем, кто, кажется, хорошо осведомлен о ситуации в самом Министерстве:
«Сейчас у нас ФГОС 3+, и сейчас министерство приняло решение сделать ФГОС 3++. Это значит, что будут существующие стандарты модернизированы, в части того, что будут общие базовые компетенции прописаны в различных стандартах, которые есть. Профессиональные компетенции, которые будут подтягиваться через профстандарт. Ну, это такая идея. Предполагалась разработка стандартов ФГОС 4, буквально этим летом они должны были появиться. Но команда, которая приходила и пыталась их сделать, она просто не успела. Сейчас там немножко поменялись люди» (Высшая школа).
Нестабильность состава ключевых игроков сочетается с ускоряющимися темпами подготовки документов, что негативно сказывается на их качестве:
«Вышел новый закон, потом вышло новое положение, сейчас о государственной аккредитации, соответственно все это требует доработки этих норм, в виде образовательных стандартов. К тому же, к сожалению, нет устойчивых позиций у бывших учебно-методических объединений, их тоже ликвидировали... С одной стороны, а с другой стороны, стандарты готовятся, очень-очень оперативно, в сжатые сроки и естественно, они потом когда читаются внимательнее и соответственно видно те огрехи, вплоть до грамматических ошибок, которые вдруг всплывают». (Законодательная власть)
Вовлечение представителей образовательного сообщества как минимум не носит систематического характера и многие представители вузов считает объем такого вовлечения недостаточным:
«Как бы проводятся совещания, заседания, но все это в таком хаотичном порядке абсолютно. Но последнее время проводятся хотя бы повышения квалификации, куда приглашают представителей разных групп. Насколько я понимаю, делаются пулы из нескольких укрупненных групп, но не учитывается мнение всего образовательного сообщества» (Высшая школа).
Парадоксальным образом, появление процедур внесения рекомендаций не изменило этой оценки, поскольку у экспертов возникло предположение о параллельном возникновении «закрытых» процедур принятия решений, позволяющих не учитывать предложения «извне» узкого круга вовлеченных в эти процедуры:
«...не всегда те предложения, которые мы вносим, они учитывают ... по-видимому, есть еще итоговое какое-то решение, какая-то рабочая группа, которая отвечает за разработчиков. Они, по-видимому, уже там, в данном случае, могут принимать какие-то свои решения. А мы уже вынуждены, получив результаты в виде приказа, решать эти задачи, хотим мы этого или нет» (Высшая школа).
Формирование экспертных коллективов. На фоне этой критики особое значение приобретает вопрос о принципах формировании команд и рабочих групп, участвующих в подготовке стандартов. В этом вопросе довольно характерно расхождение экспертов в оценке прозрачности соответствующих процедур. С одной стороны, вовлечение университетского сообщества может выглядеть вполне «открытым» и зависящим, прежде всего, от добровольного желания самих вузов принимать участие в соответствующей деятельности:
«Сама процедура, сам механизм, он тоже прописан в законодательном органе, то есть все принципиально новые направления (в том числе, и по макетированию новых образовательных стандартов) проходят стадию общественных обсуждений, слушаний, согласований и, в принципе, принимаются широко. Я думаю, те вузы, которые хотят принять участие в предварительных обсуждениях, имеют возможность это сделать» (Высшая школа).
На другом полюсе спектра оценок находится следующее представление:
«хочу отметить, что, конечно, привлекаются, прежде всего, те люди, с которыми министерство в течение многих лет поддерживает дружеские связи. Вообще, принцип кумовства является превалирующим в системе формирования кадров нашей исполнительной власти». (Высшая школа).
Такой подход к формированию команд оценивается гораздо более позитивно экспертами, входящими в круг привлекаемых специалистов:
«… к нам Министерство образования обращается. Знают наших всех людей в Минобре очень хорошо. И частенько мы туда отправляем на эти разные проекты людей, которые помогают разрабатывать все эти вещи». (Высшая школа).
Активность учебно-методических объединений также не меняет принципов формирования рабочих групп:
«Как правило, включаются те люди, которые уже принимали участие в разработке стандартов отраслевых и, как правило, рабочие группы существуют при каждом учебнометодическом объединении. Есть такие коллективчики, которые уже понимают, о чем идет речь» (Высшая школа)
Активность вузов. Сказанное выше, конечно, не означает отсутствие в вузовском сообществе потенциала разработки и апробации новых подходов к организации образовательного процесса. В качестве кейса приведем следующий опыт, описанный одним из респондентов:
«…например, взять, если московский [вуз] МАМИ. … там молодой ректор. Они пропагандируют концепцию STEM-образования. … они очень активно продвигают…Ну, ФГОС, поскольку, рамочный достаточно, они себе могут позволять все это. И они махом на это перешли, потратили очень много ресурсов. И сейчас, если лет 5 назад это был стагнирующий, умирающий университет, то сейчас они в плане инженерного образования попрели, и, в принципе, в некоторых аспектах нам конкуренцию серьезную составляют». (Высшая школа).
Получается, что команда, обладающая собственным представлением о том, как должен быть построен процесс обучения, в том числе и управлением качеством этого процесса (функция, обычно приписываемая образовательному стандарту), действует «поверх» стандартов и высокая оценка последних прямо коррелирует со степенью свободы, которую они такой команде оставляют. Факторам, реально определяющими направление поиска становится ориентация на лучшие международные практики, фактически, на международный стандарт качества для соответствующего типа образования.
Думается, что анализ лучших практик такого рода мог бы стать значимым элементом процесса принятия решений как минимум при обновлении стандартов, в том числе, привести к дифференциации типов стандартов для вузов, осуществляющих принципиально различные подходы к образованию.
Дифференциация вузов. Несмотря на существование официально признанных рейтингов, а также введение в последние годы различных категорий вузов, в восприятии этой проблемы многими экспертами доминирующим признаком вуза, достойного стать площадкой для разработки стандартов оказывается факт международного сотрудничества:
«...поскольку всё-таки в стандартизации профессионального образования очень большая роль принадлежит вообще проблемам государственной политики в области образования, то, в первую очередь, сюда подтягиваются те организации, те вузы, те коллективы, которые с этим связаны. Это, наверняка, коллективы, которые участвуют в различных международных программах, связанных с евроинтеграционными процессами; вузы, которые имеют какой-то опыт взаимодействия с западными образовательными организациями; это ведущие организации страны по всем вопросам профессионального образования, в самом широком смысле.». (Высшая школа).
Понятно, что речь в данном случае идет скорее о констатации регулярно встречающегося совпадения между международной активностью и активным участием в поиске новых решений, в том числе в отношении стандартов, а также о пожелании, чтобы именно такие вузы становились ориентирами в процессе обновления образовательной системы. В действительности неформальные механизмы рекрутирования экспертов могут совпадать или не совпадать с реальным качеством работы вуза. В тех же случаях, когда такое совпадение происходит начинают формироваться и вполне ясные механизмы взаимодействия:
«Есть федеральная целевая программа развития образования. В основном, всякие разные проекты по разработке каких-то нормативных документов, проработке каких-то вопросов - это делается через ФЦПРО. То есть вузам, некоторым вузовским коллективам, которые себя зарекомендовали, выдается грант, и они разрабатывают под ФЦПРО какую-то задачу…. То есть сейчас, пока УМО не было, вот такой механизм. Либо внутри министерства зарождается проект, министерство выдергивает из университетов нормальных, знакомых им экспертов, и они там отрабатывают какие-то вещи. Есть такая схема. Либо потом часть этого проекта отходит университету и дальше он выполняет, и соответственно, дает какие-то результаты». (Высшая школа).
Представляется вполне логичным, чтобы система грантов, а также возможность активно вовлеченным в процесс стандартизации вузам становится площадками для «обкатки» новых стандартов была формализована и узаконена. Это открыло бы возможность конкурсного и конкурентного участия вузов в разработке соответствующих решений, а кроме того, позволило бы сделать планирование и мониторинг процесса внедрения новых стандартов неотъемлемой частью стандартизации. Именно несостыковка процессов разработки и внедрения порождает больше всего проблем в учебном процессе и одним из возможных выходов из этой ситуации видится апробация новых стандартов в статусе «пилотных проектов».
Таким образом, ключевыми проблемами, связанными с участием экспертов, представляющих профессиональное образовательное сообщество оказываются: отсутствие формализованной системы рекрутирования экспертов и формирования рабочих групп; сомнения в возможности влиять через них на принятие решений; продуктивная идея дифференциации вузов не находит механизмов практической реализации; опыт вузов, стремящихся к инновациям в структурных и содержательных аспектах учебных программ, не становится объектом систематического изучения и не учитывается при разработке стандартов; критерии определения «ведущих вузов» нередко совпадают с наличием опыта взаимодействия с лицами, ответственными за подготовку нового поколения стандартов. При этом опрошенные эксперты отмечают готовность и заинтересованность вузовского сообщества в участии. В качестве механизмов – локально уже апробированных – предлагается система грантов и выполнение вузами функций площадок для апробации новых стандартов в качестве «пилотных проектов».
Список литературы Участие экспертов в разработке федеральных государственных образовательных стандартов (по материалам глубинных интервью)
- Беляков С. А., Клячко Т. Л. Российское высшее образование: модели и сценарии развития. - М., 2013. - 104 с.
- Сафронов П. Образование? Как, вы разве ничего не знаете?! // Отечественные записки. - 2014. - № 3. - С. 15-21. EDN: SMGEFT
- Хагуров Т. А., Остапенко А. А. Реформа образования глазами профессионального сообщества: опыт социологического исследования. - М.: Институт социологии РАН, 2014. - 230 с. EDN: TJUSXP