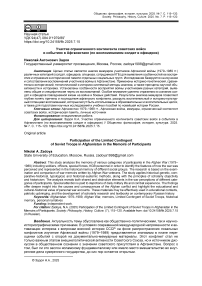Участие ограниченного контингента советских войск в событиях в Афганистане (по воспоминаниям солдат и офицеров)
Автор: Задоя Н.А.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 7, 2025 года.
Бесплатный доступ
Целью статьи является анализ мемуаров участников Афганской войны (1979–1989 гг.) различных категорий (солдат, офицеров, спецназа, сотрудников КГБ) для выявления особенностей ее восприятия и отражения в исторической памяти отдельных социальных групп. Исследование базируется на изучении и сопоставлении воспоминаний участников войны в Афганистане. Применены историкогенетический, сравнительноисторический, типологический и историкосистемный методы анализа, а также принципы научной объективности и историзма. Установлены особенности восприятия войны участниками разных категорий, выявлены общие и специфические черты их воспоминаний. Особое внимание уделено отражению в сознании солдат и офицеров повседневной жизни на войне и боевых действий. Результаты анализа мемуаров позволяют глубже понять причины и последствия афганского конфликта, раскрыть воспитательный и историкокультурный потенциал воспоминаний, которые могут быть использованы в образовательных и воспитательных целях, а также для подготовки научных исследований и учебных пособий по новейшей истории России.
Афганистан 1979–1989 гг., Афганская война, мемуары, ограниченный контингент советских войск, историческая память, личные источники
Короткий адрес: https://sciup.org/149148793
IDR: 149148793 | УДК: 94(47).084.9“1979/89” | DOI: 10.24158/fik.2025.7.15
Текст научной статьи Участие ограниченного контингента советских войск в событиях в Афганистане (по воспоминаниям солдат и офицеров)
Вместе с тем значительная часть архивных материалов по Афганской кампании по-прежнему недоступна для исследователей. В этих условиях особую ценность приобретают источники личного происхождения (письма, дневники, мемуары), которые, несмотря на субъективность, позволяют восполнить информационные лакуны в парадигме микроистории через рефлексию современников и непосредственных участников событий. Они позволяют расширить ракурс анализа, представляя войну не только как военно-политическое событие, но и как социальный, психологический и нравственный опыт, личное восприятие десятков тысяч советских граждан. Обращение к этим материалам особенно важно сегодня в период переосмысления советского прошлого и формирования новой модели исторической памяти (Шарипов, 2019; Кокоулин, 2025).
На сегодняшний день в открытых библиотеках, книжных каталогах и научных электронных базах зарегистрирован большой объем наименований мемуарных публикаций, связанных с участием Ограниченного контингента советских войск в Афганистане (ОКСВ)1. Также существует портал Art Of War, на котором ветераны боевых действий публикуют свои воспоминания, стихи, прозу и фотоматериалы. Здесь выложено более 4 тысяч материалов, посвященных Афганистану2.
Следует сказать, что дневников, в которых описаны относительно недавние события, не так много в открытом доступе, потому что многие ветераны этой войны не готовы представлять общественности свои личные воспоминания. На портале «Прожито» (создан в 2015 г. как площадка для сбора и публикации текстов личных дневников на русском языке) опубликовано около 18 дневников участников событий в Афганистане3.
Эта же проблема касается и писем участников событий – их мало сохранилось, доступ к ним ограничен.
Вместе с тем необходимо учитывать, что степень информативности мемуаров варьируется в зависимости от уровня образования, социального статуса, места в военной иерархии их авторов. Например, солдаты, сержанты, старшины в составе 40-й армии, как правило, описывают свой быт в условиях войны в Афганистане и участие в боевых действиях. Большая часть воспоминаний бойцов подразделений спецназа в составе ГРУ и КГБ затрагивает операцию по штурму дворца Х. Амина – операция «Шторм – 333» и представляет читателям не только более объемную картину оперативно-тактической деятельности советских сил, но и специфику действия агентурных сетей и т.п. (Рукомойникова, Сухарева, 2021; Сулейманов, 2022).
Кроме того, используя мемуары как исторический источник, необходимо учитывать и их субъективность (призма личного восприятия и эмоционального отношения), селективность (автор сознательно или бессознательно отбирает для отображения события, подчеркивая одни и замалчивая другие), зависимость от ретроспективного взгляда (участник описывает прошлое, зная его итоги, что влияет на трактовку событий) и ограниченность информированности (автор воспоминаний знал только то, что происходило в пределах его служебной зоны ответственности и восприятия) (Георгиева, 2012).
Помимо военных, которые служили в Афганистане с 1979 по 1989 гг., мемуары писали жур-налисты4, военные атташе5, специалисты по пропаганде6 и др. Все они так или иначе были связаны с армией, имели воинское звание и являлись субъектами армейской иерархии (Зорькин, 2023).
Типология военных мемуаров . Отобранные для анализа мемуары в совокупности описывают события практически всех этапов Афганской войны – от ввода на территорию республики советских войск в 1979 г. до их возвращения на Родину в 1989 г. Весь комплекс воспоминаний можно разделить на несколько типов в зависимости от статуса авторов в период службы. Имеет значение их должность, вид и род войск, социальный и образовательный уровень.
Выбор конкретных групп мемуаров для анализа обусловлен рядом объективных факторов. Прежде всего это воспоминания военных ОКСВ, сотрудников спецподразделений Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (ГРУ) и Комитета государственной безопасности (КГБ), которые предоставляют наиболее полную картину именно боевых действий, оперативной работы и особенностей повседневной службы. Также они наиболее точно соответствуют анализируемым в данном исследовании темам, среди которых: формирование боевого братства и осмысление причин и целей ввода советских войск в Афганистан, что обусловлено возможностью анализа этих проблем с позиции непосредственных участников событий. Что касается пограничников, разведчиков, советников МВД и других категорий участников рассматриваемого конфликта, то, несмотря на значимость, их мемуарные источники отличаются особым содержанием и требуют детализированного анализа, выходящего за пределы объема настоящей работы. Высший командный состав, генералы, как правило, находились на другом уровне восприятия событий, что отражалось в их воспоминаниях иного характера: они чаще анализировали политико-стратегические решения, давали оценку ситуации на уровне армейских и государственных руководителей1, при этом менее подробно отражали повседневный опыт войны, боевые действия и отношения внутри подразделений. В будущем изучение мемуаров данных категорий позволит дополнить и углубить понимание специфики восприятия Афганской войны разными социальными и профессиональными группами. В рамках настоящей работы нас интересуют рядовые срочной службы, офицеры армейских подразделений и спецназа в составе ГРУ и КГБ как субъекты воспоминаний.
Группу, условно обозначенную «Мемуары рядовых срочной службы», представляют воспоминания В.Н. Емолкина2, размещенные в сборнике «Афганистан в рассказах участников». Выходец из села в Мордовии, до призыва в армию автор мемуаров успел лишь закончить школу. Во время срочной службы (1985–1987 гг.) был отправлен в Афганистан3, где полтора года воевал снайпером в 350-м гвардейском парашютно-десантном полку 103-й дивизии ВДВ.
Еще один участник афганских событий и автор воспоминаний «Звезды над Кишимом»4 – Ш.А. Асанов. Он окончил Ташкентский техникум коммунального хозяйства в 1986 г., был призван в армию, проходил срочную службу в Файзабаде в третьем МСБ (мотострелковом батальоне) 860-го ОМСП (отдельного мотострелкового полка).
Условную группу «воспоминания офицеров Советской армии» представляют мемуары М.М. Пашкевича, который окончил с отличием в 1978 г. Высшее общевойсковое Командное училище имени М.В. Фрунзе в Омске и служил в Афганистане в качестве командира войсковой части (1986–1988 гг.)5.
К ней же можно отнести воспоминания О.А. Коренченко – офицера-танкиста, окончившего Ташкентское высшее танковое командное училище. Он воевал в Афганистане командиром танкового взвода в 181-м мотострелковом полку 108-й мотострелковой дивизии ОКСВ (1985–1986 гг.)6.
Воспоминания офицеров подразделений спецназа в составе ГРУ и КГБ представлены мемуарами В.Н. Курилова («Мы были первыми»7), Б.Л. Пономарева («Мои три командировки на войну»8). В.Н. Курилов закончил Высшую школу КГБ, КУОС (курсы усовершенствования офицерского состава) в 1978 г., работал в органах контрразведки и внешней разведки. В Афганистане участвовал в операции «Шторм-333», далее – учеба в разведшколе в Москве, шесть лет работы в отделе собственной безопасности в Кабуле (Управление «К» Первого главного управления КГБ СССР. Б.Л. Пономарев (в 1974 г. окончил юридический факультет ВГУ (Воронежский государственный университет), сотрудник КГБ – с 1975 г. (Высшие курсы КГБ СССР, г. Минск). Направлялся в Афганистан трижды: июль – сентябрь 1979 г. (г. Кабул); ноябрь – декабрь 1979 г. (г. Баграм, г. Кабул, участник штурма Дворца Тадж-Бек, 27.12.1979 г.); январь – июль 1981 г. (командир группы спецназа «Каскад», г. Меймене).
Мемуары, анализируемые в каждой условной группе, представляются нам наиболее типичными и характерными. На основании анализа отобранных для исследования текстов мы выделили в них «пересекающиеся» темы: осмысление целей присутствия советских войск в Афганистане, отношения между сослуживцами, «боевое братство». Они представляются нам значимыми для понимания личной мотивации ветеранов и особенностей восприятия войны ее непосредственными участниками, что отражает антропологический подход в современной исторической науке. Другие тематические направления, представленные в мемуарной литературе, не стали предметом нашего специального анализа в связи с ограниченным объемом статьи.
Осмысление мемуаристами присутствия советских войск в Афганистане . Большинство авторов воспоминаний пытается ответить на ключевой вопрос о том, зачем нужна была
Афганская война. Анализ источниковой базы показывает, что не всем было достаточно для мотивации концепции официальной пропаганды, заключавшейся в указании на «интернациональный долг». Достаточно типичные настроения в этом отношении отражены в воспоминаниях М.М. Пашкевича: «Не смог бы ответить, если бы серьезно спросили, за что мы воюем, кому нужна эта война и кто её начал»1.
Анализ мемуаров выявляет, что важную роль для участников событий 1979–1989 гг. играло чувство ответственности перед товарищами (не поехать в Афганистан было стыдно перед со-служивцами)2. Также присутствие в горячих точках практически гарантировало успешный карьерный рост для кадровых военных, но об этом авторы мемуаров не упоминают. Даже те, кто должен был мотивировать и разъяснять причины ввода войск, в официальной прессе со страниц газеты «Правда» не давали полной картины происходящего: «Помню, как много тогда возникло вопросов и как мало было на них ответов»3.
Вместе с тем проанализированные источники все же позволяют сделать вывод об отношении спецназовцев к вводу войск: «Задача спецназа – выполнять приказы, не вдаваясь в политические тонкости»4. Тем не менее пропагандистской «заряженности» не было и у них: война осознавалась как «никому не нужная, а может быть, нужная (черт их разбери!)»5. Таким образом, участие в данном вооруженном конфликте, ставшее неожиданностью для попавших в Афганистан призывников, воспринималось кадровыми военными как выполнение профессионального долга перед Родиной.
Восприятие участниками войны штурма дворца Х. Амина . Важная тема для ветеранов ГРУ и КГБ – штурм дворца Х. Амина – в 1979 г. генерального секретаря Центрального Комитета Народно-демократической партии Афганистана (ЦК НДПА). Данная военная операция получила кодовое название «Шторм – 333». Оценка ее в мемуарах представлена в двойственном ключе: с одной стороны, первоначальный план назывался авантюрным: «стыдно было за то, что его спустили сверху»6, с другой – готовность выполнить приказ любой ценой: «Неизвестно, чем бы кончилась эта авантюра… Готовы были выполнить приказ, даже если понимали, что нас ждет смерть»7. Судя по контексту мемуаров В.Н. Курилова и Пономарёва, на момент прибытия служащие КГБ были не в курсе предстоящих задач и отношения советского руководства к новой верхушке НДПА в лице Хафизуллы Амина. Однако постфактум рефлексия присутствует у В.Н. Курилова. В сущности, проведение Амином политических чисток в его понимании – все та же форма государственной деятельности, В.Н. Курилов не видит в ней ничего критичного8. По его мнению, финансирование победившей в политической борьбе фракции было бы «гораздо дешевле и действеннее» чем военное вмешательство что было предпринято в конце концов9.
Итак, более глубокая рефлексия характерна для сотрудников КГБ и бойцов спецназа, что связано, как правило, с их более высоким уровнем осведомленности и образования по сравнению с рядовым составом.
«Боевое братство» – взаимоотношения в армии . В 1989 г. вышла книга «Цинковые мальчики» С. Алексиевич об Афганской войне. В крайне негативном ключе известным писателем поднималась тема неуставных отношений – «дедовщины» в армии10. В воспоминаниях солдат и офицеров преобладают иные оценки особенностей неуставных отношений. «Дедовщина» описывается как воспитательная мера по отношению к новобранцам, что в корне противоречит точке зрения С. Алексиевич. Солдатами «избиения от старослужащих» нередко оправдывались, воспринимались как форма «обучения» или инициации, в то время как обращение к уставу ассоциировалось с риском формального наказания и отчужденностью от группы11 . Ш.А. Асанов рассказывает о случае во время прохождения курса молодого бойца, в ходе которого в нарушение всех санитарно-эпидемиологических норм его сослуживец пронес в казарму еду. Ему «объяснили», что так нельзя. В итоге пострадавший доложил об этом начальству, а «воспитателей» отправили на гауптвахту12.
С позиции офицерского состава недопустимым являлось проявление любых форм внеустав-ных взаимоотношений, включая бытовые принуждения в повседневной службе. Так, согласно воспоминаниям одного из офицеров, во время службы на опорных пунктах солдаты должны были выполнять некоторые обязанности в соответствии с установленным графиком: мыть посуду и заступать на дежурства. Однако старослужащие («деды») систематически нарушали этот порядок, перекладывая обязанности на новобранцев. Автор мемуаров фиксировал подобные случаи около пяти раз в течение двух лет и неизменно пресекал подобную практику1. Аналогичная ситуация наблюдалась с распределением караулов: утренние смены, более комфортные из-за прохладной температуры воздуха, оставлялись за старослужащими, в то время как дневные дежурства под палящим солнцем передавались младшему призыву. С такими случаями автор воспоминаний сталкивался дважды и также принимал меры по восстановлению дисциплины2.
В мемуарных свидетельствах неоднократно подчеркивается негативное отношение личного состава к тем военнослужащим, которые не принимали участия в военных операциях. Причины отказа от участия в боевых выходах варьировались: от объективной физической неподготовленности или проблем со здоровьем3 до элементарного страха. Подобные случаи становились поводом для применения неформальных санкций со стороны сослуживцев, включая физическое насилие. Особенно резко осуждались так называемые «самострелы» – умышленное нанесение военнослужащим себе огнестрельных ранений с целью избежания участия в активных операциях4. Такие действия рассматривались как предательство боевого товарищества и резко осуждались внутри подразделений. Наряду с этим в среде военнослужащих формировалась устойчивая норма, согласно которой даже внешний вид солдата, его опрятность и аккуратность рассматривались как маркер боевой и моральной состоятельности, пренебрежение к этим нормам также могло вызывать санкции неуставного характера5.
В воспоминаниях бойцов спецназа ГРУ или КГБ неуставные отношения не упоминаются. Это связано с тем, что задачи, которые они выполняли, заметно отличались от того, чем занимались обычные солдаты. К ним относилось создание агентурных сетей, расширение советского влияния на территории Демократической Республики Афганистан (ДРА)6. Б.Л. Пономарёв пишет о том, что всячески оберегал своих подопечных в Афганистане: «Золотой принцип был – сохранить людей»7. Командуя группой специального назначения «Каскад-2», автор мемуаров считал нерациональным использовать такие ценные кадры в прямых боевых столкновениях, на острие атаки8.
Заключение . Анализ мемуарной литературы, созданной участниками Афганской войны 1979–1989 гг. из различных социальных и профессиональных групп, позволяет выявить разнообразие форм восприятия конфликта. Исследование показало, что солдаты, офицеры, сотрудники спецслужб и военные корреспонденты по-разному интерпретировали цели, значение и повседневные реалии войны, что связано с их образовательным уровнем, служебным положением и опытом. Мемуары являются не только личной формой осмысления пережитого, но и отражением исторической памяти, формирующей общественное представление о войне. В них содержатся важные сведения о мотивации бойцов, проявлениях неуставных отношений, структуре повседневности, восприятии командования и идеологии.
Таким образом, мемуары служат не только средством сохранения индивидуальной памяти, но и важным инструментом осмысления реальности для выявления особенностей восприятия войны и ее отражения в исторической памяти отдельных социальных групп. Они дают материал для реконструкции участия ограниченного контингента советских войск в Афганистане, позволяют глубже понять внутренние противоречия, переживания и мотивацию ветеранов боевых действий.