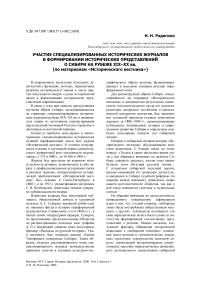Участие специализированных исторических журналов в формировании исторических представлений о Сибири на рубеже XIX-XX вв. (по материалам «Исторического вестника»)
Автор: Родигина Н.Н.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.5, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14736730
IDR: 14736730 | УДК: 947.081/.083(571)+002.5(09)
Текст статьи Участие специализированных исторических журналов в формировании исторических представлений о Сибири на рубеже XIX-XX вв. (по материалам «Исторического вестника»)
О СИБИРИ НА РУБЕЖЕ XIX–XX вв.
(по материалам «Исторического вестника»)
В напряженных дискуссиях последних десятилетий о функциях, методах, перспективах развития исторического знания в числе прочих обсуждается вопрос о роли исторической науки в формировании исторических представлений современников.
В связи с этим нам кажется продуктивным изучение образа Сибири, моделировавшегося на страницах специализированных исторических журналов рубежа XIX–XX вв. и являвшегося одним из источников конструирования представлений читающей России о прошлом и настоящем ее восточной окраины.
Одним из наиболее популярных и многотиражных специализированных исторических изданий пореформенной эпохи был журнал «Исторической вестник». О степени популярности издания в изучаемый период свидетельствует динамичный рост численности подписчиков с 2 375 в 1880 г. до 10 460 в 1904 г. 1
Журнал был рассчитан на широкую читательскую аудиторию, включающую в себя наряду с профессиональными историками также и рядовых граждан, интересующихся исторической проблематикой. «Исторический вестник» был основан в Санкт-Петербурге в 1880 г. и до 1913 г. редактировался историком С. Н. Шубинским, известным своими умеренно либеральными взглядами.
Издателем журнала был популярный публицист, общественный деятель и успешный издатель А. С. Суворин, являвший собой одну из знаковых фигур в истории пореформенной журналистики. Символично, что в 1860-х гг., в начале своей литературной карьеры, Суворин, по предложению председательницы Общества по распространению полезных книг графини А. П. Строгановой, написал цикл популярных брошюр «Рассказы по русской истории». Там, в частности, был помещен рассказ «Ермак Тимофеевич, покоритель Сибири». Таким образом, издатель рассматриваемого нами специализированного журнала непосредственно принимал участие в создании культурно-гео- графического образа региона, функционировавшего в массовом сознании россиян пореформенной эпохи.
Для реконструкции образа Сибири, смоделированного на страницах «Исторического вестника» и являющегося результатом совместного интеллектуального труда его издателя, редактора, авторского коллектива и представителей цензурного ведомства, был предпринят сплошной просмотр годовых комплектов журнала за 1880–1904 гг., проанализированы публикации, посвященные истории и современному развитию Сибири и определены наиболее популярные сюжеты «из сибирской жизни».
Интерес к сибирской истории авторов «Исторического вестника» обусловливался многими причинами. С. Уманец писал по этому поводу: «Только в самое последнее время стали у нас обращать внимание на далекую Сибирь, спавшую, казалось, долгие годы непробудным сном богатыря русской сказки… С открытием сибирской железной дороги, весьма оживившей это громадное захолустье, и введением в Сибири судебной реформы эта окраина начала понемногу привлекать взоры нашего интеллигентного общества, так как о ней стали появляться газетные и журнальные статьи» 2 .
Не обращая внимания на дискуссионность приведенного утверждения, зафиксируем идею о том, что, с одной стороны, «сибирская тема» была востребована общественным мнением, с другой – публицисты осознавали, что сама периодическая печать была одним из институтов формирования коллективных представлений о регионе. Можно выделить следующие факторы обращения исторической периодики к «сибирской тематике»: изменение места региона в геополитических имперских стратегиях; строительство железной дороги, упростившей внутриимперские коммуникации; массовое переселенческое движение, рост регионального самосознания сибирской
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2006. Том 5, выпуск 1 © Н. Н. Родигина, 2006
интеллигенции и его активную презентацию посредством разных институтов формирования общественного мнения; популярность исторической науки в изучаемую эпоху, представления интеллектуального сообщества историков об истории как об «учительнице жизни», способной преобразить «отсталую окраину» и показать поучительные примеры «из жизни далекой страны» власти и обществу.
Интерес к жизни различных провинции империи, к истории ее краев и областей поддерживался редактором издания С. Н. Шубин-ским, убежденным, что «знание родины, “оте- чествоведение” должно составлять… необходимую принадлежность каждого образованного человека» 3. В данном случае важно, что Сибирь была в сфере научных интересов С. Н. Шубинского, написавшего серию статей о пребывании в крае Бирона, Остермана, Головкина, Левенвольде и др. 4
Статистический метод предоставляет исследователю следующую информацию о жанрах исторического повествования о Сибири на страницах «Исторического вестника» (табл. 1).
Таблица 1
Жанры публикаций о Сибири, помещенных в журнале «Исторический вестник» в 1881–1904 гг.*
|
Вид публикаций |
Кол-во публикаций |
|
Публицистические статьи о реалиях современной сибирской жизни |
7 |
|
Научно-популярные статьи по истории и этнографии Сибири |
18 |
|
Рецензии на книги о Сибири |
43 |
|
Дневники, мемуары о пребывании в сибирских губерниях |
7 |
|
Информационные сообщения о событиях в научной и общественной жизни региона |
25 |
|
Отклики читателей на публикации о Сибири |
4 |
|
Итого |
101 |
* Составлено на основе сплошного просмотра годовых комплектов журнала «Исторического вестника» за 1881–1904 гг.
Из данной таблицы очевидно, что наибольшее число публикаций об изучаемом нами регионе представлено было рецензиями на книги о Сибири. Предпринятый нами анализ содержания публикаций раздела «Критика и библиография» подтверждает наблюдение М. П. Мохначевой о том, что к 1870-м гг. в журналах происходила трансформация информационно-библиографических материалов в критико-библиографические и собственно историографические рецензии, что свидетельствует о переводе данного жанра историопи-сания с внешней (информационной) орбиты повествования на внутреннюю (литературоведческую и науковедческую) 5 .
В подавляющем большинстве случаев авторы рецензий «Исторического вестника» не только информировали своих читателей о выходе в свет работ по истории Сибири, о ее современном социально-экономическом, культурном развитии, но и подробно анализировали достоинства и недостатки сибиреведческой литературы, определяя ее соответствие собственным представлениям о структуре, методах, задачах, правилах оформления «историческо- го письма». Типичными можно назвать замечания рецензента книги Н. В. Латкина «Енисейская губерния, ее прошлое и настоящее»: «К сожалению, в ней совершенно отсутствуют точные указания, откуда и что заимствовано автором, т. е. из каких книг и статей, посвященных той же Енисейской губернии… Это отсутствие указаний и ссылок на литературу исследуемого предмета ставит почти неодолимые препятствия для определения того, какое именно место принадлежит данному очерку в ряду других трудов, описывающих также Енисейскую губернию» 6. Рецензии и статьи по сибирской истории, опубликованные в «Историческом вестнике», свидетельствуют об убеждении их авторов в научности истории, в возможности беспристрастной реконструкции прошлого.
Профессиональные авторские суждения транслировались на многочисленную читательскую аудиторию журнала, формируя коллективные историографические представления о специфике историко-краеведческих исследований, популяризируя идею социальной и научной востребованности подобных сочине- ний. В данном случае можно говорить о воспитательных функциях исторической периодики, которая, с одной стороны, знакомила с современным состоянием сибиреведческой литературы, с другой – соотносила ее с бытовавшими в то время научными стандартами структуры и представлениями о содержании исторического исследования.
Примечательно, что в отдельных случаях даже предлагались алгоритмы организации работы исследователя по истории Сибири. С. А. Андрианов так обозначал требования к «писателю истории Сибири»: «Прежде всего, он должен подвести итог тому, что дает сибирская археология в современном ее состоянии, и принести посильную лепту для разрешения представляемых ею вопросов; затем необходимо выяснить состояние Сибири и главнейшие моменты из ее истории до русского вторжения. Переходя к послеермаковскому периоду, следует собрать весь материал не только изданный, но и неизданный, как обозначенный в разных указателях, так и совершенно еще не разобранный (последнего должно быть немало в сибирских архивах). Полученный таким образом материал необходимо, конечно, проверить критически, сопоставить его с выводами, к которым пришли прежние ученые, потрудившиеся на том же поприще, и только после этих предварительных работ, представляющих, несомненно, огромные трудности, но, во всяком случае, необходимых, можно приступать к изданию сибирской истории» 7 .
Поиски совершенной модели историописа-ния, размышления историков о том, как нужно писать «реальную историю», отразились и в их оценках работ по сибирской истории. «Книга Буцинского интересна в том именно отношении, что является чуть ли не первою попыткою в русской литературе писать историю так, как ее вряд ли писали до сих пор. Это есть похвальный опыт писать историю страны на самом деле, а не канцелярскую оду казовым сторонам событий. Правда, неподготовленному или незаинтересованному читателю такая книга покажется скучною, однообразною, в ней нет эффектных картин, блестящих сражений, выдающихся героев, этого ничего нет, в ней все просто, обыденно, это сама серенькая, повседневная жизнь такая, какая существует на самом деле. А между тем невольно чувствуется, что на этих ординарных страничках, скучно повторяющих одно и то же, и написана настоящая история страны», – так обозначал свое видение сути исторического исследования один из рецензентов журнала 8 .
При анализе статей и рецензий изучаемого специализированного издания создается впечатление, что его позитивистски ориентированные авторы представляли историю Сибири как результат продолжительного, поступательного коллективного интеллектуального труда коллег, каждый из которых своими трудами заполняет определенные тематические (содержательные) пробелы в мозаике знаний о прошлом края.
Материалы библиографического отдела подтверждают вывод Б. Г. Могильницкого о своего рода культе исторического факта, существовавшего в сознании историков XIX в. Считалось, что факты в готовом виде присутствуют в исторических источниках, и основная задача историка заключается в том, чтобы их обнаружить и сделать достоянием заинтересованной публики 9 . В соответствии с данным убеждением одной из приоритетных задач исторической науки изучаемой эпохи авторы анализируемого издания считали именно публикацию исторических источников, рассматривая ее как необходимый первоначальный этап накопления исторических знаний о Сибири. Так, профессор Казанского университета Д. А. Корсаков, сообщая о публикации своим коллегой новых документов по истории региона и оценивая значение его трудов, писал: «С нетерпением ожидаем дальнейших изысканий К. Б. Газенвинкеля в области сибирской истории и, прежде всего, подробного свода биографических сведений о воеводах и других “государевых служивых людях” в Сибири за XVII–XVIII века. Каждый научно занимающийся русской историей с благодарностью обратится к подобным документальным пособиям при изучении важного вопроса о распространении и укреплении русской власти от Урала до Тихого океана» 10 .
О том, что деятельность журнала побуждала сибиряков к сбору архивных материалов и устных источников по истории края, свидетельствуют многочисленные письма читателей в редакцию «Исторического вестника». Корреспондентами редакции были провинциальные учителя, чиновники, офицеры казачьего войска 11. Типично следующее обращение к С. Н. Шубинскому офицера Н. Г. Путинцева из Омска: «Имеющиеся у меня материалы ясно характеризует наши пограничные сношения с соседями китайцами, бухарцами… Располагая этим материалом, я бы желал поделиться им с русской читающей публикой, а в особенности с той ее частью, которая интересуется прошлым нашей обширной и малоизвестной родины Сибири, и поместить на страни- цах Вашего многоуважаемого журнала все то, что, конечно, позволяет его программа» 12.
Судя по содержанию раздела «Смесь», журнал активно реализовал свою информационную функцию, сообщая своим читателям из разных губерний империи о событиях научной и культурной жизни Сибири. Традиционными для издания были заметки о юбилеях сибирских городов, учебных заведений, научных организаций. Одним из актуальных и дискуссионных для современников вопросов было определение даты присоединения Сибири к русскому государству. Можно предположить, что историки и общественные деятели понимали договорной характер и относительность определения одной из знаковых дат «сибирской хронологии». Тем не менее обозреватель «Исторического вестника» сетовал на ученых за то, что они не предлагают однозначного ответа на вопрос о том, когда же праздновать 300-летие Сибири. Как отмечается в заметке «Трехсотлетний юбилей Сибири», заинтересованные сибиряки обсуждали две даты: «Сибирская газета» утверждала, что юбилей приходится на 23 октября 1881 г. (после сражения на урочище «Чувашский нос» возле Тобольска именно 23 октября 300 лет назад была решена судьба царства Кучума); по мнению газеты «Сибирь», праздник должен отмечаться 26 октября – в день взятия Ермаком столицы Сибири – Искера 13.
С. Максимов писал по этому поводу: «Нельзя не сознаться, что сибирский юбилей захватил нас врасплох, не подготовленными. Мы, отнесясь недоверчиво к летописным указаниям года, числа и месяца, для дня празднества не успели еще определить самого верного и бесспорного срока. В то же время готовые праздновать и чествовать страну за ее прошлое когда угодно, мы не успели выяснить себе, с кем имеем дело и, положившись на веру и на чужое слово, отнеслись к событию с изумительным равнодушием и досадной холодностью» 14 .
Значимо то, что авторами «Исторического вестника» подчеркивался общественно-поли- тический пафос «трехсотлетнего юбилея культурной жизни Сибири». «Три века минуло, как там началась русская колонизация, а за нею занялась заря просвещения туземцев. И что же мы видим? Сибирь – страна взятки, страна ссылки, хотя и золотое дно лишь для всевозможных видов “ташкентцев”. Прискорбна история этой страны, занимающей две трети территории Российской империи», – начинает свои размышления об истории Сибири как о бесконечной череде злоупотреблений местной администрации ведущий рубрики «Смесь» 15.
Перечень коренных преобразований сибирской жизни, предлагаемых публицистом, даже текстологически совпадает с требованиями либеральных и либерально-народнических журналов: введение земства, судебных учреждений, борьба с излишней бюрократизаций местного управления, облегчение условий переселения крестьян, уничтожение ссылки, облегчение быта инородцев, проведение железной дороги. Очевидная либеральная подоплека подобных текстов, посвященных реалиям «сибирской жизни», заставляет усомниться в правомерности выводов отдельных исследователей об однозначно консервативном характере «Исторического вестника» 16 .
При этом заметим, что наряду с текстами либерального содержания «сибирские материалы» «Исторического вестника» содержат немало изъявлений верноподданнических чувств и монархических симпатий авторов. Так, в сообщении об открытии Томского университета основной акцент делается на инициативу «державного Покровителя народного просвещения в России», игнорируются усилия сибирской общественности в борьбе за первый сибирский университет 17 .
Содержательный анализ разножанровых публикаций о регионе позволяет выявить исследовательские приоритеты рассматриваемого издания в области истории Сибири (табл. 2).
Таблица 2
Количество публикаций, посвященных «сибирской тематике», на страницах журнала «Исторический вестник» в 1881–1904 гг.
|
Область исследования |
Число статей и рецензий |
|
1 |
2 |
|
Жизнеописания и материалы для биографий сибирских административных и общественных деятелей |
15 |
|
Статьи и сообщения, посвященные отдельным историческим явлениям, фактам и событиям |
8 |
Окончание табл. 2
|
1 |
2 |
|
Публикации по археологии и этнографии |
9 |
|
Публикации источников и рецензии на изданные исторические источники |
22 |
|
Рецензии на сочинения по истории Сибири |
6 |
|
Разножанровые материалы о современном развитии региона |
35 |
|
Публикации по истории раскола |
5 |
|
Итого |
100 |
Публицистические статьи, посвященные злободневным вопросам эпохи, свидетельствуют о понимании редакцией издания социальных функций научно-популярной исторической периодики. В статьях, посвященных истории переселенческого движения, отмене ссылке, истории раскола, истории местной администрации, «инородческому вопросу», исторические сюжеты выступают как средство привлечения внимания к современным проблемам края 18 .
Привлеченные в качестве «текста-источника» разножанровые публикации «Исторического вестника» позволяют сделать следующие выводы об участии данного издания в формировании исторических представлений о Сибири в общественном мнении России рубежа XIX–ХХ вв.: 1) «сибирская тема» была популярна в интеллектуальном сообществе историков; 2) большинство публикаций о регионе имело выраженную социальную направленность, исторический материал использовался для поиска ответов на запросы современной жизни имперской окраины; 3) редакция издания регулярно информировала о событиях в культурной и научной жизни региона, поддерживала деятельность общественных организаций научного и просветительского характера; 4) журнал посредством научно-популярных статей, рецензий способствовал привлечению к изучению прошлого и настоящего Сибири историков-любителей и профессионалов, формируя у читателей представления о направлениях, методах, источниках краеведческих исследований.
Материал поступил в редколлегию 06.12.2005
-
1 ИРЛИ. Ф. 343 (С. Н. Шубинский). Д. 115. Л. 18 об.
-
2 Уманец С. Общественные заботы о народном просвещении в Сибири // Ист. вестн. 1899. № 8. С. 614.
-
3 Кельнер В. Е. «От Древней и Новой России» к «Историческому вестнику» (С. Н. Шубинский и становление исторических научно-популярных изданий в России в 1870-е гг.) // Книжное дело в России во второй половине XIX – начале ХХ в. Л., 1988. С. 158.
-
4 ОР РНБ. Ф. 874 (С. Н. Шубинский). Оп. 2. Д. 43; ИРЛИ. Ф. 343 (С. Н. Шубинский). Д. 42.
-
5 Мохначева М. П. Журналистика и историческая наука. М., 1999. Кн. 2. С. 198.
-
6 А. О. [Рецензия] // Ист. вестн. 1893. № 7. С. 234. Рец. на кн.: Латкин Н. В. Енисейская губерния, ее прошлое и настоящее. СПб., 1892.
-
7 А-в С. [Андрианов С. А.] // Там же. 1891. № 9. С. 742. Рец. на кн.: Андриевич В. К. История Сибири; Исторический очерк Сибири; Сибирь в XIX столетии. СПб., 1889.
-
8 Б-в А . [Быков А. А.] // Там же. 1889. № 10. С. 208. Рец. на кн.: Буцинский П. Н. Заселение Сибири и быт первых ее насельников. Харьков, 1889.
-
9 Могильницкий Б. Г. История исторической мысли ХХ в. Томск, 2001. Вып. 1. С. 10.
-
10 Корсаков Д. [Рецензия] // Ист. вестн. 1893. № 5. С. 512. Рец. на кн.: Газенвинкель К. Б. Книги разрядные в официальных списках, как материал для истории Сибири в XVII в.; Государево жалованье послужникам сибирским. Казань, 1892.
-
11 См., напр.: ОР РНБ. Ф. 874 (С. Н. Шубин-ский). Оп. 1. Д. 79. Л. 139; Д. 77. Л. 100, 170–170 об., 191; Д. 29. Л. 143 и др.
-
12 Там же. Д. 37. Л. 287.
-
13 Трехсотлетний юбилей // Ист. вестн. 1881. № 9. С. 210.
-
14 Максимов С. В немшоной стране. (Из воспоминаний) // Там же. 1884. № 2. С. 300.
-
15 Трехсотлетний юбилей. С. 208.
-
16 См., напр.: Кельнер В. Е. Указ. соч. С. 156.
-
17 Открытие Томского университета // Ист. вестн. 1888. № 9. С. 665.
-
18 См., напр.: Ладвинский М. [Суперан-ский М. Ф.] Переселенческое движение в России // Там же. 1892. № 5. С. 449–465; Г. Л. И. [Глинский Б. Б.] Ссылка в Сибирь // Там же. 1900. № 4. С. 276–291; и др.