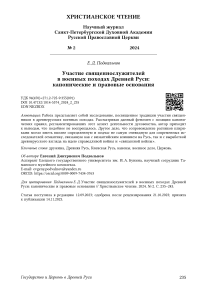Участие священнослужителей в военных походах Древней Руси: канонические и правовые основания
Автор: Подвальнов Е.Д.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Государство и церковь в Древней Руси
Статья в выпуске: 2 (109), 2024 года.
Бесплатный доступ
Работа представляет собой исследование, посвященное традиции участия священников в древнерусских военных походах. Рассматривая данный феномен с позиции канонических правил, регламентировавших этот аспект деятельности духовенства, автор приходит к выводам, что подобное не воспрещалось. Другое дело, что сопровождение ратников клириками могло иметь вполне определенную и подчас не самую очевидную для современных исследователей семантику, связанную как с византийским влиянием на Русь, так и с выработкой древнерусского взгляда на идею справедливой войны и «священной войны».
Дружина, древняя русь, киевская русь, каноны, военное дело, церковь
Короткий адрес: https://sciup.org/140306830
IDR: 140306830 | УДК: 94(470)+271.2-725-9:355(091) | DOI: 10.47132/1814-5574_2024_2_235
Текст научной статьи Участие священнослужителей в военных походах Древней Руси: канонические и правовые основания
В отечественной истории принятие христианства — событие судьбоносное, а новая вера со временем стала без преувеличений «национальным критерием» (по выражению У. Мейдлина [Medlin, 1952, 45]). Уже в первый век после Крещения Руси древнерусские неофиты осознали и утвердили себя новым богоизбранным народом. Но вместе с этим признанием накладывались и особые обязанности, поскольку: «И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут» (Лк 12:48). С другой стороны — неотъемлемой частью истории Руси были войны: «Миръ стоитъ до рати, а рать до мира» — как гласит известная летописная формула (ПСРЛ II, 1908, стб. 364, 444). Иначе говоря, на плечи князей ложилась колоссальная ноша, в том числе связанная с ведением справедливых войн. Один из отцов Церкви — свт. Василий Великий — утверждал, что «Бог в войнах насылает казни на достойных наказания» (Василий Великий, 2008, 947). Святитель же Григорий Богослов обращал внимание на законные основания войн: «Хотя должно наблюдать время войны и мира, а иногда, по закону и слову Соломона, хорошо вести и войну» (Симфония, 2008, 289). Действительно, ведение незаконной — несправедливой — войны не могло быть поддержано Господом, а значит, сторона, виновная в этом, должна была неминуемо потерпеть крах.
В свете изложенного умозаключения логичным шагом стало церковное благословение воинов и князей на ратные дела. Среди вариантов выражения этого одобрения было и непосредственное вовлечение священников в походы. Феномен участия клириков в войнах уже не единожды затрагивался в отечественной историографии, как на домонгольском материале [Артамонов, 2019, 106–109; Артамонов, 2018, 6–7], так и на казусах после сер. XIII в. [Мусин, 2005, 42, 52–62; Кузьмина, 2008, 70-72; Грачев, 2015а, 43-47; Грачев, 2015б, 153-159]. Другое дело, что авторов интересовали или факты подобного рода сами по себе, или, если говорить о послемонголь-ском периоде, случаи реального участия духовенства в сражениях. К сожалению, следует констатировать тот факт, что ими не был поставлен вопрос о правомерности участия древнерусских клириков в войнах в целом, о границах дозволенного и о запретах, на что мы обращаем отдельное внимание в этой работе. В западноевропейской историографии изучаемый вопрос гораздо лучше разработан: от общего анализа проблемы и до частных примеров в отдельных регионах (Англия, Норвегия, Испания и т. д.) [Between, 2018; Conedera, 2015; Gerrard, 2016; Kotecki, 2016, 341–369; Craig, 2016; Taylor, 2016, 1–23]. Не в последнюю очередь так произошло потому, что феномен воинствующих клириков вроде епископа Гозлена, или Петра Пустынника, или рыцарско-монашеских орденов — визитная карточка западноевропейских Средних веков. Однако, говоря о периоде после Великой схизмы 1054 г., следует учитывать, что западноевропейские нормы и реалии кардинальным образом отличались от положения восточноевропейских ортодоксов. Таким образом, опыт «латинян», как и зарубежная историография об этом, может послужить здесь лишь в качестве материала для сравнений. В конечном итоге, на данный момент существует потребность в отдельном специализированном исследовании феномена соучастия церковных служителей в воинских кампаниях Древней Руси.
Канонические правила на Руси XI–XII вв.
Безусловной основой, регулирующей данный аспект деятельности клириков, были канонические правила. На Руси они существовали в составе отдельных сборников, адаптированных под местные условия. Среди главных предписаний можно назвать 83-е Апостольское правило, известное нам по Кормчей XIV титулов (издание В. Н. Бенешевича), в основе которого лежит Ефремовский список XI-XII вв. (Древнеславянская Кормчая, 1906, I): «Епископъ ли попъ, ли диаконъ воиньства дьржася и хотя обое имѣти: мирьскоую власть и святительское строение, да изьвержеться, кесарева бо кесареви, а Божия богову» [Древнеславянская Кормчая, 1906, 80]. Это правило имеет определенную связь с 81-м Апостольским правилом, где указан запрет на занятие «людских» (светских) должностей епископами и «попами» (Древнеславянская Кормчая, 1906, 79).
Исходя из понимания 83-го Апостольского правила может сложиться мнение, что имелся фактический запрет на участие священников в воинских походах, ибо оно в теории мешало вести духовную деятельность. В конце концов, едва ли возможно совмещать служение Богу с участием в войнах (даже в священническом статусе). Однако толкования обозначенного правила в кон. XI-XII вв. византийскими богословами говорят об ином понимании. Например, Иоанн Зонара, греческий монах-богослов XI–XII вв., считал, что под военным делом, упоминаемым в правиле, следует понимать управление гражданскими институциями, связанными с армией: выдачу жалования солдатам и необходимых вещей для содержания воинов, призвание их на службу и т. д. (см.: (Σύνταγμα, 1852, 107)). В схожем ключе понимает правило и Феодор Вальсамон — «ромейский» канонист 2-й пол. XII в. (XuvTaypa, 1852, 107). Исключением выступает Алексей Аристин, также византийский богослов 1-й пол. XII в., который, не вдаваясь в подробности того, что следует понимать под военной деятельностью в конкретном случае, посчитал, что в принципе священникам нельзя отвлекаться от своего непосредственного дела служения Богу (Σύνταγμα, 1852, 108), даже если иная деятельность прямо не запрещена каноническим правилом.
Отдельным источником восприятия и трактовки канонических правил могут послужить антилатинские послания. Византийский экзегет и полемист Константин Стильб, начавший свою деятельность, возможно, при Луке Хрисоверге (см.: [Луховицкий, 2014, 502–504]), среди прочего включил в свой труд «Обвинения против Латинской Церкви в том, что касается ее учения, писаний и многого иного» (после 1204 г.) пункт о критике латинских заблуждений, связанных с участием духовенства в войнах (см.: (Darrouzès, 1963, 61, 70–71)). Более того, Анна Комнина обращала на это внимание: «Представление о священнослужителях у нас совсем иное, чем у латинян. Мы руководствуемся канонами, законами и евангельской догмой. <…> Но варвар-латинянин (имеется в виду священник. — Е. П. ) совершает службу, держа щит в левой руке и потрясая копьем в правой, он причащает Телу и Крови Господней, взирая на убийство, и сам становится „мужем крови“, как в псалме Давида. Таковы эти варвары, одинаково преданные и Богу, и войне. Так и этот, скорее воин, чем священнослужитель…» (Анна Комнина, 1996, 282). Однако заметим, что здесь идет противопоставление со священником-«латинянином», который непосредственно носит оружие во время служб и использует его в бою.
В антилатинских посланиях 2-й пол. XI — нач. XII вв. часто встречается критика феномена воинствующих представителей Церкви. Она могла выражаться в лапидарной форме, как в «Послании о вере латинской» кн. Изяславу Ярославичу от игумена Киево-Печерской лавры Феодосия: «И епископы их… и на войну ходят» (Понырко, 1992, 22). И в этом случае возможно сделать ложный вывод о том, что критикуется само право участвовать в войнах, а не то, что в этих походах священники служили в роли воинов, носили оружие и убивали людей. В «Послании Владимиру Мономаху о вере латинской» митр. Никифора (нач. XII в.) присутствует тот же пункт, но в уточняющем — развернутом — виде: «Епископы и попы на войну ходят и руки свои кровью оскверняют, а этого Христос не повелел» (Понырко, 1992, 88). В «Стязании с латиною» митр. Георгия (60-е гг. XI в.) тоже есть данный пункт в схожей формулировке (см.: [Голубинский, 1881, 714]). Надо отметить, что у Михаила Керулария, константинопольского патриарха сер. XI в., читается точно такая же критика в аналогичной формулировке: «Их епископы ходят на войну, обагряют свои руки кровью и еще более души» (цит. по: [Лебедев, 1878, 243]). Вполне вероятно, что русские богословы эту формулу позаимствовали у него.
В самом пространном виде это замечание читается также у митр. Никифора в «Послании князю Ярославу Святополчичу о вере латинской»: «Епископы их во время войны воюют вместе с другими людьми, не понимают, что одно дело епископское, святительское, другое — воинское. Ведь Господь, когда Петр во время Его предания вытащил нож, запретил ему, сказав: „Вложи нож свой в ножны“; и также сказал апостолам: „Тому, кто ударит вас в правую щеку, подставь левую“. И никак не повелел Господь апостолам ни участвовать в бранях, ни оказывать сопротивление» (Понырко, 1992, 89). Разделение святительского и воинского дела наводит на мысль о том, что митр. Никифор ссылается как раз на 83-е Апостольское правило. Помимо прочего, обоснованием критики выступают апелляции к Новому Завету и словам самого Христа.
Другим каноническим текстом, регламентирующим деятельность священников в военном деле, является 7-е правило IV Вселенского (Халкидонского) Собора: «Единою въчиненыимъ въ причьтъ ли инокыимъ, оуставихомъ: ни въ воиньство, ни въ санъ мирьскыи приходити, аште ли дьрзижть и не раскаються, яко възврати-тися на то же Бога ради преже изволиша, да проклятии боудоутъ» (Древнеславянская Кормчая, 1906, 115). В данном случае духовенству запрещалось поступать на воинскую службу или вступать в мирские должности под угрозой быть преданным анафеме. Иоанн Зонара относительно тяжести наказания в данном случае отмечал, что не было необходимости преступивших канон клириков лишать сана, поскольку самим фактом поступления на воинскую службу или вступления в мирскую должность они сами с себя сложили священничество (XvvTaYpa, 1852, 232-233). В схожем ключе строятся рассуждения 12-го правила I Вселенского (Никейского) собора, утверждавшего, что принимать христианство следует, «отъложьше (воинские. — Е. П. ) поясы» (Древнеславянская Кормчая, 1906, 89). Однако это правило распространялось на всех неофитов, а не только на духовенство.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, согласно церковным установкам домонгольской Руси, строгий запрет был только на непосредственное участие в боях и на ношение оружия. Сопровождение ратников в походах, богослужение и благословение во время его оставалось в рамках допустимого.
Византийские нормы:
«право прецедента» или «прецедент права»
А. Гийу отмечал, что все византийцы «были верующими (pistoi), и вера у них проявлялась в любые мгновения жизни» [Гийу, 2005, 377]. С другой стороны — греческая держава практически постоянно вела тяжелые войны на разных своих границах. Подобное сочетание, конечно же, требовало и религиозного основания, и церковной поддержки войн. И если обратиться к византийским военным трактатам, то в них с самого раннего времени указывается необходимость привлечения священников к участию в военных кампаниях. Уже в «Стратегиконе» императора Маврикия (рубеж VI-VII вв.) — по сути, в официальном руководстве византийской армии того времени — констатируется, что священники в походах участвуют для молитв и утверждения Господней благосклонности: «Однако каждый день, особенно в период войны, в фоссате, прежде чем выйти из ворот, должна производиться молитва, в ходе которой все вместе под руководством священников, стратига и остальных архонтов должны многократно восклицать: „Господи, помилуй!“, а затем, в надежде на благоприятный исход дела, каждая мера, покидающая фоссат, должна троекратно возглашать „С нами Бог!“» (Стратегикон Маврикия, 2004, 97). Причем сам совет описан так, что не вызывает удивления: его характер подразумевает, что духовенство принимало регулярное и активное участие в воинских кампаниях.
В «Тактике Льва» императора Льва VI (нач. X в.) в главе «О дне сражения» дан следующий наказ военачальникам: «Итак, мы предписываем тебе, стратиг, чтобы войско в день сражения было прежде всего здоровым. Следует еще до ночи провести усердную молитву и всем получить благословение священников, чтобы благодаря этому все должны быть убеждены словами и делами в благоволении
Бога, а потому шли в бой просветленными и уверенными» (Лев VI, 2012, 211–212). В данном случае присутствие священников в войске мотивировано двумя моментами: воодушевлением ратников перед боем и также утверждением идеи о заступничестве Господа.
В «Стратегике» Никифора II Фоки (X в.) есть пространное предписание: «Следует же командиру люда заранее постановить стратигам, начальникам и остальной армии, чтобы в лагере, в котором все войско разместилось, во время славословия и в вечерних, и утренних гимнах священники армии совершали после исполнения гимнов усердные молитвы, а все войско восклицало „Господи, помилуй!“ вплоть до сотни раз со вниманием и страхом Божиим и со слезами» (Никифор II, 2005, 38-39). При этом, согласно тексту, священники должны были воодушевлять ратников. В другом месте Никифор II дает совет, что «за один день до боя следует священникам совершить бескровные жертвоприношения и, совершив обычную службу, удостоить все войско участия в Божественных и незапятнанных таинствах» (Никифор II, 2005, 39). Не совсем ясно, правда, о каких священниках идет речь: были ли они приставлены к воинским отрядам, были ли это местные священники, личные духовники военачальников или императора.
Богатый византийский военный опыт, выкристаллизованный в трактатах, явственно показывает культурно-правовую норму привлечения духовенства к ратным походам. А если учесть, что в числе тех «даров», что Русь получила от греков, были, помимо прочего, «ромейские» законы и взгляд на жизнь (см.: [Sumner, 1947, 178]), то не исключено, что и в случае с феноменом соучастия клириков в военных кампаниях есть толика византийского влияния. Следует зафиксировать, что хоть греческие императоры и полководцы видели в духовенстве инструмент воодушевления воинов, сами священники во время военных кампаний, даже согласно текстам из трактатов, должны были заниматься богослужениями.
Эпизоды из истории домонгольской Руси
Хрестоматийными стали слова В. В. Амельченко о том, что после Крещения Руси «греческий священник с крестом стал сопутствовать дружине в походах и ее ратных делах» [Амельченко, 1992, 138]. Эта фраза стала эпиграфом к работам и А. Ю. Грачева, и А. Е. Мусина [Мусин, 2005, 42; Грачев, 2015б, 153]. Действительно, в военных кампаниях домонгольской Руси фигура священника часто обнаруживается среди участников. Святой князь Борис Владимирович, посланный отцом с дружиной на печенегов, при себе имел священника, который проводил богослужения (см.: (БЛДР, 1997, 334)). Формально первым походом, хоть и не чисто военным, где рать сопровождали клирики, было возвращение как раз отца св. кн. Бориса, св. Владимира Крестителя, из Корсуня в Киев (ПСРЛ II, 1908, стб. 101).
Представляет особый интерес поход Яна Вышатича за данью в белоозерский край, который в процессе трансформировался в военную кампанию по подавлению бунта волхвов и купированию «учения дьяволова», «бесовского учения» (ПСРЛ II, 1908, стб. 165-171). Во время конфликта был убит сопровождавший Яна Вышатича священник (ПСРЛ II, 1908, стб. 166). Меж тем обратим внимание, что клирик, очевидно, находился изначально в отряде по сбору дани, а не был привлечен непосредственно к тем силам, что подавляли восстание.
В описании похода на волжских булгар 1164 г. упоминаются священники, несшие икону Богородицы и крест, а сама процессия называется воинским «обычаем» кн. Андрея Боголюбского (Сказание о чудесах Владимирской иконы, 2011, 20), что очень похоже на обозначенные выше византийские постулаты.
В 1181 г. кн. Святослав Черниговский на Вленском стоянии послал своего священника в качестве посла к кн. Всеволоду Большое Гнездо (ПСРЛ II, 1908, 619). Важен сам факт присутствия клирика в войске, притом включавшем в себя «поганых» — половцев.
О ветхозаветном паттерне
Отдельного внимания заслуживает поход 1111 г., зачастую сравниваемый с западноевропейскими или напрямую именуемый в историографии «русским крестовым» [Moroz, 1999, 48]. Упоминание священников в антиполовецкой кампании кн. Владимира Мономаха (см.: (ПСРЛ VII, 1856, 220; [Шахматов, 1916, 338, прим.]) имело огромное значение для современников. Ведь половцы были обозначены как одно из племен измаильтян (подразумеваются мадианитяне), изгнанных Гедеоном Иеро-ваалом в Етривскую пустыню (ПСРЛ II, 1908, стб. 222-224). Здесь подразумевается четкий антагонизм Руси и половцев, богоизбранного народа и измаильтян. И именно при учете этого факта становится ясным основной замысел кн. Владимира Мономаха и летописца, записавшего эту формулу. Дело в том, что подобное, как в кампании 1111 г., присутствие священников в войске — одно из обязательных условий для «священных войн» в Ветхом Завете [Кашкин, 2013, 172-175]. Это дополняет уже имеющееся мнение историков о кампании 1111 г. как о «священной войне» [Moroz, 1999, 49–52]. Обращение летописца именно к ветхозаветным сюжетам не должно удивлять, поскольку отражает состояние древнерусского общества и его «идеологический» ответ на внешние угрозы: «Космос Нового Завета — маргинальный, а решения, в нем предлагавшиеся, не могли быть использованы в качестве рецептов повседневной жизни. Эта книга возвещала конец истории. Но история и не думала кончаться. Евангелие учило думать о горнем, но суровая жизнь средневекового человека обращала его мысли к дольнему» [Иванов, 2003, 12].
Также можно отметить совпадения нарративных деталей похода 1111г. и традиций именно византийской армии. К примеру, в текстах Льва Диакона присутствуют сюжеты, сходные с теми, что читаются в сообщении этой антиполовецкой кампании: «Никифор... приказал вынести вперед (перед войском. — Е.П. ) знамя с изображением креста»; «император тотчас поднял крестное знамя и стал спешить [с походом] на тавроскифов» (Лев Диакон, 1988, 9, 68). Более того, сам Лев Диакон в чине диакона сопровождал греческих воинов в походе императора Василия II на болгар: «Был там и я, рассказывающий с горечью об этом: на беду мою я сопровождал правителя, неся службу диакона» (Лев Диакон, 1988, 89–90).
Обращение древнерусских неофитов к ветхозаветной истории в контексте описания военных кампаний, помимо прочего, может иметь и совершенно другое — не самое очевидное — значение. Еще в «Стратегиконе» Кекавмена отмечалось, что «почти весь Ветхий Завет — военная книга» (Памятники, 1969, 159). И если для летописцев ветхозаветные сюжеты были образчиком для сравнений и параллелей между русской и библейской историями, то для князей, военачальников это вполне мог быть материал для постижения военного искусства и поведенческих практик на войне.
Участие священников в походах древнерусских дружин имело под собой не только канонические и библейские основания, но и восприятие византийских традиций. Сведения книжников можно расценивать как полисемантичные: они не только отражали греческие военные нормы, но и были тесно связаны с рецепцией ветхозаветных сюжетов, маркировавших статус Руси и ее противников. Более того, подобные действия были очень важны для развития идеологии и утверждения покровительства Божия. Это был символический акт, призванный свидетельствовать о том, что Бог через Своих служителей дарует поддержку и благословение, а в связи с этим и провидение будущей победы. Для древнерусских элит, чьи владения находились в буквальном кольце врагов — «латинян» и язычников — подобная поддержка была необходима. Однако важно подчеркнуть, что и в Византии, и на Руси священники в походах, хоть и выполняли чисто инструменталистскую функцию для светских властей, но непосредственно исполняли прямые свои обязанности, т. е. проводили богослужения.
Список литературы Участие священнослужителей в военных походах Древней Руси: канонические и правовые основания
- Анна Комнина (1996) — Анна Комнина. Алексиада. СПб.: Алетейя, 1996. 704 с. (Сер.: «Византийская библиотека. Источники»).
- БЛДР (1997) — Библиотека литературы Древней Руси / ИРЛИ РАН; под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. СПб.: Наука, 1997. Т. 1: XI-XII века. 543 с.
- Василий Великий (2008) — Святитель Василий Великий, Архиепископ Кесарии Каппадо-кийской. Творения: в 2 т. Т.1: Догматико-полемические творения. Экзегетические сочинения. Беседы. М.: Сибирская Благозвонница, 2008. 750 с.
- Древнеславянская Кормчая (1906) — Древнеславянская Кормчая XIV титулов без толкований. Труд В. Н. Бенешевича. Т. I. СПб.: Тип. Императорской Академии наук, 1906. 837 с.
- Лев Диакон (1988) — Лев Диакон. История. М.: Наука, 1988. 237 с.
- Лев VI (2012) — Лев VI Мудрый. Тактика Льва. СПб.: Алетейя, 2012. 368 с.
- Никифор II (2005) — Никифор II Фока. Стратегика. СПб.: Алетейя, 2005. 288 с.
- Памятники (1969) — Памятники византийской литературы IX-XIV вв. М.: Наука, 1969. 463 с.
- Понырко (1992) — Понырко Н.В. Эпистолярное наследие Древней Руси XI-XIII вв. Исследования, тексты, переводы. СПб.: Наука, 1992. 214 с.
- ПСРЛ II (1908) — Полное собрание русских летописей. Т. 2: Ипатьевская летопись. Изд. 2-е. СПб.: Тип. М. А. Александрова, 1908. 938 стб.
- ПСРЛ VII (1856) — Полное собрание русских летописей. Т. 7: Летопись по Воскресенскому списку. Изд. 1-е. СПб.: Тип. Эдуарда Праца, 1856. 358 с.
- Симфония (2008) — Симфония по творениям святителя Григория Богослова. М.: Даръ, 2008. 609 с.
- Сказание о чудесах Владимирской иконы (2011) — Сказание о чудесах Владимирской иконы Божией Матери // История философии. 2011. № 16. С. 19-34.
- Стратегикон Маврикия (2004) — Стратегикон Маврикия. СПб.: Алетейя, 2004. 256 с.
- Darrouzès (1963) — Darrouzès J. Le mémoire de Constantin Stilbès contre les Latins // Revue des études byzantines. 1963. T. 21. P. 50-100.
- Xûvxay^a (1852) — Xûvxay^a xwv ©eîwv Kal 'Iepwv Kavôvwv xwv te Aylwv ка1 тху£ифг|фют AnoorôXwv, Kal iàv 'Iepwv OIkou^evikwv Kal ToniKwv XuvôSwv, Kal iàv Kaxà ^époç Aylwv naxépwv. Tô^oç Aeûxepoç. A9^v^aiv, 'Ek x^ç Tmoypaylaç Г. XapxoyûXaKoç. 1852.
- Амельченко (1992) — Амельченко В.В. Дружины Древней Руси. М.: Воениздат, 1992. 152 с.
- Артамонов (2018) — Артамонов Т.Ю. К вопросу об участии духовенства Древней Руси в военных походах (XI-XIII вв.) // III Свято-Владимирские чтения. Материалы международной научной конференции, посвященной 1030-летию Крещения Руси. 2018. С. 6-7.
- Артамонов (2019) — Артамонов Т.Ю. К вопросу об участии духовенства Древней Руси в военных походах (XI-XIII вв.) // Альманах мировой науки. 2019. № 4 (30). С. 106-109.
- Гийу (2005) — Гийу А. Византийская цивилизация. Екатеринбург: У-Фактория, 2005. 552 с.
- Голубинский (1881) — Голубинский Е.Е. История русской церкви. Т. I: Период первый, киевский и домонгольский. Вторая половина тома. М., 1881. 791 с.
- Грачев (2015а) — Грачев А.Ю. К вопросу о роли и месте духовенства в военной организации Древней Руси // Псковский военно-исторический вестник. 2015. № 1. С. 43-47.
- Грачев (2015б) — Грачев А.Ю. «Церковь воинствующая»: к вопросу о взаимоотношении дружины и духовенства в Древней Руси // Университетский научный журнал. 2015. № 14. С. 153-159.
- Иванов (2003) — Иванов С. А. Соотношение новозаветных и ветхозаветных цитат в византийской литературе: к постановке вопроса // Одиссей: Человек в истории. 2003. С. 9-12.
- Кашкин (2013) — Кашкин А.С. Концепция священной войны в Книге Второзаконие // Христианское чтение. 2013. № 2. С. 170-189.
- Кузьмина (2008) — Кузьмина О.В. Республика Святой Софии. М.: Вече, 2008. 448 с.
- Лебедев (1902) — Лебедев А.П. Очерки внутренней истории Византийско-восточной церкви в IX, X и XI веках (От конца иконоборческих споров, 842 г., до начала крестовых походов — 1096 г.). Изд. 2-е, доп. М.: Печатня А. И. Снегирева. 388 с.
- Луховицкий (2014) — Луховицкий Л.В. Кирилл // Православная энциклопедия. 2014. Т. 34. С. 502-504.
- Мусин (2005) — Мусин А.Е. Milites Christi Древней Руси. Воинская культура русского средневековья в контексте религиозного менталитета. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2005. 368 с.
- Шахматов (1916) — Шахматов А.А. Повесть временных лет. Т.1: Вводная часть. Текст. Примечания. Пг.: Издание Императорской Археографической комиссии, 1916. 403 с.
- Craig (2016) — Craig M.N. Warrior churchmen of medieval England 1000-1250. Theory and reality. Woodbridge: The Boydell Press, 2016.
- Gerrard (2016) — Gerrard D. The Church at War: The Military Activities of Bishops, Abbots and Other Clergy in England, c. 900-1200 (Church, Faith and Culture in the Medieval West). 1st ed. London; New York: Routledge, 2016.
- Kotecki (2016) — Kotecki R. With the Sword of Prayer, or How Medieval Bishop Should Fight // Quaestiones Medii Aevi Novae. 2016. No. 21. P. 341-369.
- Taylor (2019) — Taylor L. Bishops, War, and Canon Law // Scandinavian Journal of History. 2016. No. 45 (2). P. 1-23.
- Medlin (1952) — Medlin W.K. Moscow and East Rome. A Political Study of Church and State in Muscovite Russia. Geneve: E. Droz, 1952.
- Moroz (1999) — Moroz I. The Idea of the Holy War in the Orthodox World (On Russian Chronicles from the Twelfth-Sixteenth Century) // Questiones medii aevi novae. 1999. Vol.4. P. 45-67.
- Conedera (2015) — Conedera S. Z, SJ. Ecclesiastical Knights: The Military Orders in Castile, 1150-1330. New York: Fordham University Press, 2015.
- Sumner (1947) — Sumner B.H. Survey of Russian history. Duckworth: Henrietta Street London, 1947.