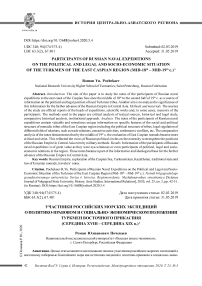Участники российских морских экспедиций о политико-правовом и социально-экономическом положении туркмен Восточного Прикаспия (середина XVIII - середина XIX в.)
Автор: Почекаев Роман Юлианович
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: История Центрально-Азиатского региона
Статья в выпуске: 5 т.25, 2020 года.
Бесплатный доступ
Целью статьи является исследование записок участников российских морских экспедиций к восточному побережью Каспийского моря как источника сведений о политико-правовом и социально-экономическом положении туркменских родов и племен, населявших этот регион, а также анализ значения этих сведений для продвижения России в Среднюю Азию. Источниками являются официальные отчеты руководителей экспедиций, научные сочинения участников, подготовленные по итогам экспедиций, в некоторых случаях - также и воспоминания участников. Для исследования используются методы критического анализа текстов, историко-правовой, сравнительно-исторический и институциональный методы. Демонстрируется значение этих экспедиций в формировании и реализации среднеазиатской политики Российской империи, анализируются сведения участников экспедиций об особенностях политического и правового положения туркмен Восточного Прикаспия с середины XVIII до второй половины XIX века. Рассмотрены особенности социально-политической организации туркмен, вопросы правового регулирования отдельных сфер отношений - в первую очередь торговли, а также промысловой деятельности, порядок разрешения споров. Автор приходит к выводу о высокой ценности сведений участников российских морских экспедиций, поскольку они являлись непосредственными наблюдателями, а нередко и участниками политико-правовых и социально-экономических отношений среди прикаспийских туркмен. Сравнительный анализ записок участников экспедиций показывает, что ближе к середине XIX в. оценки туркмен становились все более жесткими и критическими, что отражало взгляды российских политических кругов о необходимости укрепления положения Российской империи в регионе решительными мерами, в том числе и путем прямого военного завоевания.
Российская империя, изучение каспийского моря, туркмения, казахстан, традиционное государство и право кочевников евразии, записки путешественников
Короткий адрес: https://sciup.org/149131759
IDR: 149131759 | УДК: 340, | DOI: 10.15688/jvolsu4.2020.5.4
Текст научной статьи Участники российских морских экспедиций о политико-правовом и социально-экономическом положении туркмен Восточного Прикаспия (середина XVIII - середина XIX в.)
DOI:
Цитирование. Почекаев Р. Ю. Участники российских морских экспедиций о политико-правовом и социально-экономическом положении туркмен Восточного Прикаспия (середина XVIII – середина XIX в.) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2020. – Т. 25, № 5. – С. 42–51. – DOI:
Введение. Роль российского военноморского флота в присоединении Средней Азии к России в последнее время становится весьма актуальным направлением в исследованиях среднеазиатской политики Российской империи. Однако большинство специалистов сосредоточивается преимущественно на деятельности Аральской и Амударьинской флотилии в середине XIX – начале XX века. Эта тематика нашла отражение как в отдельных статьях [5; 6; 12; 13; 21], так и в монографических трудах [14; 15, с. 182–208] и диссертационных исследованиях [24]. Деятельность же морских исследовательских экспедиций на восточном берегу Каспийского моря, имевших место с середины XVIII в. и в течение столетия вносивших существенный вклад в расширение представлений российских властей и научной общественности о Восточном Прикас-пии, до сих пор привлекала внимание лишь специалистов по истории науки и географических открытий [16, с. 23–24, 24–25, 184; 17, с. 22–26, 32–33, 43–47; 18, с. 20, 22, 40–41].
Между тем в записках руководителей и участников морских экспедиций к восточному берегу Каспийского моря содержатся сведения о самых различных сторонах жизни местных туркмен. В рамках данной статьи автор намерен сосредоточиться на исследо- вании информации об особенностях политического положения и правового регулирования социальных и экономических отношений прикаспийских туркмен. Ценность анализируемых сведений заключается в том, что их авторы являлись свидетелями, а в ряде случаев – и непосредственными участниками политических, правовых и социально-экономических отношений в регионе. Их информация позволяет существенно расширить, в ряде случаев подтвердить, а в ряде – и скорректировать представления о политическом устройстве и правовых отношениях туркмен Прикаспия, основанные на письменных источниках, материалах этнографических исследований и пр. Кроме того, автор намерен оценить значение сведений участников морских экспедиций о туркменах для дальнейшего продвижения России в Среднюю Азию.
Методы и материалы. Источниками, анализируемыми в настоящем исследовании, являются официальные отчеты начальников морских экспедиций середины XVIII – середины XIX в., научные труды и сообщения, а в ряде случаев – и воспоминания участников. В частности, исследуются журнал инженер-майора Ладыжинского, члена экспедиции капитана Толмачева 1764–1765 гг., журнал ученого К.И. Габлица – участника экспедиции капитана 2-го ранга М.И. Войновича 1781– 1782 гг., записки дипломата и государственного деятеля Н.Н. Муравьева (Карского) об экспедиции 1821 г., труды ученого Г.С. Карелина об экспедициях 1832 и 1836 гг. и ряд работ его спутника по экспедиции 1836 г. капитана И.Ф. Бларамберга, воспоминания морского офицера К. Петриченко об экспедиции 1852 г., рапорты полковника Главного штаба В.Д. Дандевиля и журнал его спутника титулярного советника М.Н. Галкина об экспедиции 1859 г., наконец, сообщение контр-адмирала Н.А. Ивашинцева о промежуточных результатах его многолетних экспедиций в регионе 1856–1871 годов. Естественно, сбор сведений о государственности и праве прикаспийских туркмен не являлся главной целью экспедиций, которые основное внимание уделяли географическим, биологическим, геологическим изысканиям, интересовались возможностью развития торговых путей в Центральную Азию. Поэтому сведения политико-правового характера являются краткими и разрозненными, информации же о социально-экономическом положении туркмен в данных материалах имеется несколько больше. Их систематизация и сравнительный анализ позволяют сформировать достаточно целостное представление о некоторых сторонах политико-правовой жизни туркменских родов и племен, населявших восточный берег Каспийского моря.
Поставленная цель исследования и специфика изучаемых материалов обусловили применение ряда общих и специальных методов. Прежде всего используются метод критического анализа исследуемых текстов и синтез их сведений. Также используется историко-правовой метод, позволяющий извлечь информацию правового характера из неюридических источников. Институциональный подход помогает провести предметный анализ отдельных политических и правовых институтов у туркмен Восточного Прикаспия – социально-политическая структура, регулирование заключения торговых соглашений, порядок разрешения споров и т. д. С помощью сравнительного анализа, во-первых, прослеживается эволюция в регулировании тех или иных сфер отношений (в том числе с учетом усиления российского присутствия в регионе), во- вторых, выявляются изменения в самих оценках прикаспийских туркмен, которые давали им участники морских экспедиций в разное время. Анализ сведений о политико-правовом и социально-экономическом положении туркмен Восточного Прикаспия осуществляется с позиций правового плюрализма, в рамках которого признается значимость и ценность любых правовых систем вне зависимости от их принадлежности к «европейским» или «традиционным» правовым семьям.
Анализ. Российские морские экспедиции к восточному берегу Каспия начались еще в первой четверти XVIII в. и были связаны с активизацией политики Петра I в Прикаспийском регионе в целом. Однако разгром хивинцами экспедиции кн. А. Бековича-Черкасско-го в 1717 г. произвел настолько шокирующее впечатление на имперские властные круги, что исследовательская деятельность в Восточном Прикаспии прервалась на несколько десятилетий [9, с. 319]. Лишь с 1760-х гг. морские экспедиции вновь стали отправляться в Восточный Прикаспий и с этого времени периодически осуществлялись в течение целого столетия, до начала 1870-х гг., когда они фактически утратили актуальность в связи с завоеванием Средней Азии и возможностью организации «сухопутных» экспедиций под патронажем руководства вновь созданного Туркестанского генерал-губернаторства.
Ценные наблюдения делают участники морских экспедиций по поводу социально-политического устройства туркмен. Прежде всего они отмечают раздробленность туркменских племен, в результате которой не только племена, но даже и отдельные роды в их составе нередко вели самостоятельную политику и, более того, признавали подданство разных государств. Так, родовые подразделения туркменских племен теке, гокланов, эр-сари признавали власть персидских шахов, хивинских ханов, либо же являлись независимыми [4, с. 79, 107].
Представители имперской администрации, привыкшие взаимодействовать с казахскими ханами и султанами, единолично выступавшими от имени своих многочисленных подданных, с удивлением узнавали, что звание ханов у туркмен ничего не значит. В результате по тем или иным вопросам приходи- лось договариваться не то что с каждым племенем или родом, но даже с каждым отдельным аулом [7, с. 71; 19, с. 599]. Уже инженер-майор Ладыжинский в середине XVIII в. отмечал, что у туркмен нет правителей, и все решения принимают родовые старшины [10, с. 786]. Именно старшины представляли интересы туркменских племен и родов в отношениях с Россией в XVIII в., выступая в том числе и посредниками между Россией и среднеазиатскими ханствами по дипломатическим и торговым вопросам [11, с. 94–95]. Но И.Ф. Бларамберг в 1830-х гг. отмечал, что и старшины не пользовались значительным влиянием, и туркмены признавали власть лишь семейных старейшин-аксакалов и в особенности собственных отцов [4, с. 109; 19, с. 599]. Впрочем, при отправлении в набег или же снаряжении каравана туркмены выбирали себе предводителей, которым подчинялись: согласно К. Петриченко, любое решение такого «начальника отряда» выполнялось беспрекословно [19, с. 598–599].
Неудивительно, что наиболее энергичные и амбициозные туркменские лидеры старались изыскивать разные средства для повышения авторитета среди соплеменников. Наиболее распространенным среди них являлась демонстрация покровительства со стороны иностранных правителей. Некоторые туркменские ханы и старшины носили хивинские или персидские титулы, другие же старались заручиться наградами от русских. И.Ф. Бларамберг вспоминал о встрече с туркменом, имевшим благодарственное письмо еще от М.И. Войновича, «засвидетельствованное» также Н.М. Муравьевым [2, с. 75]. М.Н. Галкин также упоминает, что некоторые старшины еще и в середине XIX в. гордились «свидетельствами», полученными от Войновича [7, с. 86]. Г.С. Карелин сам в рапортах оренбургским властям рекомендовал наградить нескольких туркменских старшин, оказавших ему содействие, которые в конечном счете получили от имперской администрации золотые или серебряные медали и серебряные сабли [23, № 181–182, с. 269, № 184, с. 270].
В некоторых случаях поддержка России оказывалась и более эффективной. Так, в 1821 г. Н.Н. Муравьев призвал туркмен признать власть вышеупомянутого Кият-хана, в результате чего тому удавалось в течение нескольких десятилетий контролировать значительную часть многочисленных и обычно разрозненных туркменских родов и племен Восточного Прикаспия и обеспечивать мирные отношения с Россией [8, с. 416–417; 22, с. 182– 183] 2. Его сын Язши-Мурад даже получил европейское образование в Тифлисе [3, с. 6; 22, с. 204]. Неудивительно, что впоследствии участники русских экспедиций сожалели, что после смерти Кият-хана между туркменами вновь начались междоусобицы, что ухудшило и их отношения с Россией [23, № 351, с. 481].
Большую ценность представляют сведения участников морских экспедиций об отношениях с туркменами в сфере торговли, поскольку позволяют оценить уровень развития тех или иных сфер правоотношений и правовых институтов у прикаспийских кочевых племен. Поскольку туркмены Восточного При-каспия вели активную торговлю с соседними государствами, у них значительное развитие получили договорные отношения. Так, М.Н. Галкин вспоминает, что во время переговоров о предоставлении экспедиции Данде-виля верблюдов туркмены весьма скрупулезно обсуждали цену найма животных и вознаграждения их погонщикам [7, с. 107–108].
Еще более подробно описывается регулирование отношений в сфере рыбной ловли и торговли рыбой (в первую очередь осетриной), которая для большинства кочевников восточного берега Каспия являлась единственным источником дохода [10, с. 784; 23, № 351, с. 479] 3. В XVIII – начале XIX в., согласно запискам участников морских экспедиций, речь шла просто о ловле рыбы и ее продаже русским или персидским торговцам, в том числе и просто проезжавшим через их владения [3, с. 42]. Для отправки в Персию рыбакам приходилось нанимать суда [11, с. 94; 22, с. 294]. Но уже в первой трети XIX в. отношения в этой сфере существенно усложняются: туркмены заключают с российскими и персидским партнерами договоры о передаче им в аренду своих рыболовных владений на откуп на определенный срок [22, с. 237–238]. Согласно И.Ф. Бларамбергу первым из русских такой договор с туркменами заключил астраханский купец А. Герасимов [4, с. 105], но затем права на аренду перекупил другой астра- ханец М.-А. Багиров, перс по происхождению, являвшийся к тому же купцом первой гильдии [20, с. 127]. Однако впоследствии Багиров, как сообщает Г.С. Карелин, не поладил с владельцами рыболовных мест, и Герасимов восстановил с ними договор. Этот договор, согласно Карелину, был заключен с соблюдением всех необходимых формальностей: оформил его казий – мусульманский судья, Герасимов и туркменские старшины поставили свои подписи, затем договор был заверен самим Карелиным как представителем российских властей [3, с. 21; 22, с. 276, 292– 293, 297, 322–323].
Впрочем, нельзя не отметить, что отношения, связанные с рыбной ловлей, нередко страдали из-за аламанов – традиционных набегов с целью захвата добычи и рабов: туркмены совершали самые настоящие морские пиратские набеги на русских рыбаков (доходя даже до западного берега Каспия), захватывая суда и пленников. По сведениям Г.С. Карелина, из 1 500 лодок, имевших официальное разрешение («билет») на рыбную ловлю от астраханских властей, за два года более 200 было захвачено туркменами [8, с. 394–395; 22, с. 154, 157]. Со временем русские рыбопромышленники, стремясь уменьшить риск захвата их работников, стали комплектовать экипажи наполовину русскими, наполовину – представителями мусульманских народов, в частности, татарами. Однако последние, как сообщает тот же Карелин, порой сами же захватывали собственных православных спутников и продавали их туркменам [22, с. 157–158]. Подобные случаи существенно подрывали рыболовную промышленность в Каспийском море и снижали эффективность экономических связей российских рыбопромышленников с прикаспийскими туркменами.
Еще одним источником дохода местных кочевников являлась нефть, богатые запасы которой путешественники отмечают на о. Челекен [19, с. 579]. По сообщению Н.Н. Муравьева, ежегодно до 20 тыс. пудов нефти продавалось в персидский Мазандеран [8, с. 239– 240]. Поначалу, как и в торговле рыбой, туркмены не располагали транспортом для доставки нефти, и этим пользовались российские и персидские торговцы. Но уже в 1830-е гг., как отмечает Г.С. Карелин, туркмены обза- велись собственными кораблями – «киржима-ми», что существенно снизило прибыли русских судовладельцев [22, с. 232, 460]. В периоды обострения отношений с Персией туркмены пытались продавать нефть русским, но при этом, как сообщает тот же Карелин, требовали по 2 реала за пуд, хотя она стоила всего 1,5, так что сделки не осуществлялись [22, с. 342].
Право собственности на нефтяные месторождения у туркмен не было четко регламентировано. И.Ф. Бларамберг сообщает, что «главные колодцы принадлежат трем хозяевам и переходят из рода в род». При этом никакими документами их права не подтверждались и основывались лишь на «изустных преданиях». Более того, любой желающий также имел право вырыть колодец на острове, не встречая ни от кого противодействия [4, с. 70] 4.
Сходная ситуация складывалась и в сфере соляного промысла. Н.Н. Муравьев в 1821 г. сообщает о наличии больших залежей соли на том же Челекене, но, поскольку у персов в Астрабаде имеются собственные соляные озера, эту соль туркменам продавать не удается [8, с. 239]. Однако вскоре ситуация изменилась, и уже в 1830-е гг., по свидетельству Г.С. Карелина, туркмены доставляли соль, как и нефть, кораблями в Мазанде-ран, где персидские купцы покупали ее оптом и потом в розницу продавали по всей Персии. Развитие соляной промышленности привело к тому, что некоторые туркменские вожди, по примеру персов, стали собирать «десятинную пошлину» с привозной соли [22, с. 235, 294]. Однако на самом Челекене право собственности на соляные копи также было весьма неопределенным: М.Н. Галкин упоминает, что прииски принадлежали некоему Менглы-Дур-ды-хану, однако тут же отмечает, что сами местные жители могут добывать соль и пользоваться ею совершенно бесплатно [7, с. 74]. Все это позволяет сделать вывод, что институт частной собственности на природные ресурсы у туркмен не получил широкого развития, и они зачастую рассматривались как общинная собственность 5.
Тем не менее, если страдали имущественные интересы туркмен, то существовали различные способы разрешения противоречий. Г.С. Карелин упоминает, что один тур- кмен-йомуд, не получив долг с астраханского торговца-перса, захватил его, севшее на мель, судно с четырьмя моряками. Он же описывает, как вышеупомянутый сын Язши-Мурад одолжил персидскому сановнику 3 000 реалов, а тот попытался вернуть ему лишь 300 реалов, а также всучить саблю и нож, вместе не стоившие и 40 реалов. Несмотря на свою «европейскую образованность», сын Кият-хана повел себя как истинный туркмен: с презрением отказался и пообещал отомстить [22, с. 205, 266]. Вообще же, как писал И.Ф. Бла-рамберг, многие подобные споры кончались ударами кинжала [2, с. 64].
Энергично защищая свои интересы, прикаспийские туркмены не считали зазорным посягать на чужое имущество, поскольку это, как и аламан, считалось проявлением удальства. Бларамберг вспоминал, что во время переговоров о торговле несколько туркменских старшин попытались украсть несколько шкур, на которых сидели, когда же их задержали и уличили, они всего лишь заявили, что «пошутили» [2, с. 62; 3, с. 20]. Также, в отличие от других кочевых народов, у туркмен не был развит закон гостеприимства: как сообщает Г.С. Карелин, они были готовы ограбить любого своего постояльца [22, с. 301].
Подобные проявления особенностей правосознания туркмен находили отражение и в торговле, где они всячески старались надуть «чужих». Г.С. Карелин описывает, как владелец рыбных заводей, желая получить большую выгоду по договору с А. Герасимовым, потребовал выплатить ему причитающуюся сумму (4 000 руб.) не русскими деньгами, а персидскими реалами, которых он был готов подождать еще год – при условии увеличения суммы на 50 %. И лишь когда Карелин его «припугнул», тот согласился принять русское серебро [22, с. 301–302]. К. Петриченко сообщает, что когда один туркмен пообещал продать рыбу другому, но продал ее русскому торговцу, предложившему более высокую цену, несостоявшийся покупатель стал жаловаться – но не на продавца, а на русского торговца [19, с. 599]. Согласно рапорту В.Д. Дан-девиля, туркменские старшины поставили ему верблюдов, однако ночью шайка туркмен напала на его лагерь, захватила пленников и отогнала табун, причем среди нападавших были даже и несколько продавцов верблюдов [23, № 351, с. 480]. К «чужим» туркмены относили и представителей других туркменских же племен. Так, инженер-майор Ладыжинский вспоминал, что когда прибрежные туркмены попытались начать торговлю с экспедицией, взятый на корабль проводник из другого племени отговорил ее участников от ведения дел с этими туркменами, заявив, что «они все плуты» [10, с. 787].
Подобные примеры формировали не слишком хорошее представление о личных качествах и правовых представлениях туркмен у российских путешественников. Н.Н. Муравьев характеризовал население Мангышлака как «воровское поколение» [8, с. 247]. И.Ф. Бларамберг отмечал, что со времени Муравьева они к лучшему не изменились, оставшись по-прежнему алчными и способными на «всякого рода низости», а мягкое к ним отношение считают за слабость [4, с. 110]. Последующие российские экспедиции учли этот опыт и стали весьма жестко реагировать на грабительские действия туркмен. Особенно ярко это проявилось во время экспедиции В.Д. Дандевиля, который не только с оружием отбивал нападения грабителей, но и сам предпринимал карательные рейды на их селения за их «неслыханную дерзость» [23, № 352, с. 482]. Н.А. Ивашинцев также давал понять, что пришла пора действовать более решительно, поскольку, по его словам, неудачи экспедиций А. Бековича-Черкасского и М.И. Войновича «произошли от одной причины, а именно от доверчивости русских к азият-цам, происходящей конечно от малого знакомства с характером народа, с которым они имели дело» [9, с. 319]. Все чаще поднимался в записках участников экспедиций вопрос о целесообразности возведения российского укрепления в Красноводском заливе (которое в результате и было возведено в 1869 г.).
Вообще, нельзя не отметить, что по мере расширения знаний о туркменских родах и племенах Восточного Прикаспия члены морских экспедиций в своих записках все более настойчиво проводили мысль о необходимости более решительных действий российских властей в регионе, тогда как оценка политико-правового и социально-экономического положения туркмен, особенностей их отно- шения к России становилась все более критической. Думаем, не случайно эта тенденция стала проявляться в то же время, когда Россия начала активизировать свою политику на среднеазиатском направлении. Именно к этому периоду относятся походы оренбургского губернатора В.А. Перовского на Хиву в 1839–1840 гг. и Ак-Мечеть в 1852 г., действия оренбургских и западносибирских властей по формированию пограничной линии на границах с Хивинским и Кокандским ханствами, а также принятие киргизов в российское подданство в 1850-е гг. и т. д.
В то же время в записках 1830–1860-х гг. все чаще обращается внимание на перспективность Восточного Прикаспия в качестве торгового маршрута в Среднюю Азию, пагубность контроля караванных дорог кочевниками, неэффективность использования ими своих природных богатств. Тут нельзя не вспомнить, что именно в этот период представителями и властных структур, и предпринимательских кругов разрабатывалось большое число проектов организации русской торговли в Средней Азии, так что и акцентирование путешественниками внимания на таких вопросах также вряд ли можно счесть совпадением.
Таким образом, участники экспедиций (многие из которых совершались по распоряжению как раз пограничных властей империи) в своих записках выражали общие настроения ряда российских властных и общественных кругов, подкрепляя их рекомендации собственными практическими наблюдениями.
Результаты. Анализ сведений участников российских морских экспедиций к восточному берегу Каспийского моря о политикоправовом и социально-экономическом положении туркменских племен позволяет сделать следующие выводы.
Во-первых, особенности социально-политического устройства туркмен, отмеченные участниками морских экспедиций, предполагали существенные изменения в формате взаимоотношений с ним, которые раньше строились по образу и подобию отношений с другими кочевниками – в частности, с казахами. Отсутствие у туркмен института верховной власти, номинальное главенство их ханов и старшин заставляло представителей Российской империи расширять круг партнеров по переговорам со стороны туркмен, изыскивать новые средства заинтересовать их в мирных и дружественных отношениях с Россией, договариваясь с отдельными родами, предоставляя льготы в торговле и пр.
Во-вторых, у туркмен Прикаспия были достаточно четко регламентированы частноправовые отношения, в особенности в таких сферах, как торговля и добыча полезных ископаемых, а также порядок решения имущественных споров. Однако при взаимодействии с ними в этих сферах российским представителям приходилось все время адаптироваться к особенностям «традиционного» правосознания и правопонимания, любые же попытки русских путешественников и торговцев действовать в соответствии с принципами и нормами «европейских» частноправовых отношений оказывались неэффективными.
Наконец, в-третьих, ближе к середине XIX в. цели экспедиций все более смещались от научно-исследовательских к военным. Соответственно, реакция на враждебные действия прикаспийских туркмен со стороны экспедиций становилась все более жесткой, а в отчетах и записках их участников критика кочевников, их неуправляемости, «разбойничьего» образа жизни и враждебности по отношению к России становится все более жесткой, все чаще говорится о необходимости стабилизации положения в Восточном При-каспии военными методами. Такой подход был напрямую связан с тем, что определенные круги Российской империи – в первую очередь, пограничные администрации Кавказского наместничества и Оренбургского края, а также руководившее ими Военное министерство – все более настойчиво выступали за активизацию российского продвижения в Среднюю Азию. Учитывая вышеупомянутую подчиненность руководства и участников морских экспедиций пограничным властям и, соответственно, принадлежность к военному ведомству, не приходится удивляться, что они и в своих записках старались отражать соответствующую позицию.
Таким образом, можно утверждать, что сведения участников морских экспедиций к восточному берегу Каспийского моря о политико-правовом и социально-экономическом положении местных туркменских племен, с одной стороны, являются важным источником по истории государственности и права кочевников региона, с другой же – представляют ценность и как отражение идеологии сторонников решительной среднеазиатской политики Российской империи, которая активно стала реализовываться как раз с середины XIX века.
Список литературы Участники российских морских экспедиций о политико-правовом и социально-экономическом положении туркмен Восточного Прикаспия (середина XVIII - середина XIX в.)
- Аминов, И. И. Организационно-правовые основы становления и развития российско-туркменских отношений (1714-1917 гг) / И. И. Аминов. -М. : Юрлитинформ, 2017. - 344 с.
- Бларамберг, И. Ф. Воспоминания / И. Ф. Бларамберг. - М. : Изд-во вост. лит., 1978. - 357 с.
- Бларамберг, И. Ф. Журнал, веденный во время экспедиции для обозрения восточных берегов Каспийского моря в 1836 г. / И. Ф. Бларамберг // Записки Императорского Русского географического общества. - 1850. - Т. 4. - С. 1-48.
- Бларамберг, И. Ф. Топографическое и статистическое описание восточного берега Каспийского моря от Астрабадского залива до мыса Тюк-Караган / И. Ф. Бларамберг // Записки Императорского Русского географического общества. - 1850. -Т. 4. - С. 49-120.
- Васильев, А. Д. Амударьинская флотилия и ее роль в истории Центральной Азии / А. Д. Васильев // Восточный архив. - 2015. - № 2 (32). - С. 14-16.
- Васильев, А. Д. Участие морского ведомства в Ахал-текинской экспедиции / А. Д. Васильев // Восточный архив. - 2014. - № 1 (29). - С. 15-18.
- Галкин, М. Н. Этнографические и исторические материалы по Средней Азии и Оренбургскому краю / М. Н. Галкин. - СПб. : Изд. Я. А. Исакова, 1868. - V + 336 с.
- Записки Н.Н. Муравьева-Карского, 1821 год, вторая поездка в Закаспийский край // Русский архив. - 1888. - Кн. 1. - С. 235-258, 393-432.
- Ивашинцев, Н. А. Сообщение о восточном береге Каспийского моря по отношению к торговым путям, ведущим в Среднюю Азию / Н. А. Ива-шинцев // Известия Императорского Русского географического общества. - 1869. - Т. 5. - С. 317-320.
- Извлечение из журнала инженер-майора Ладыжинского, посыланного в 1764 году для осмотра восточных берегов Каспийского моря // Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. - Т. 6, ч. 2. - Тифлис : Типография главного управления Наместника кавказского, 1875. - С. 783-797.
- К. Г. [Габлиц, К. И.] Исторический журнал бывшей в 1781 и 1782 годах на Каспийском море российской эскадры под командою флота капитана второго ранга графа Войновича / К. И. Габ-лиц. - М. : Типография С. Селивановского, 1809. -XXVIII + 120 c.
- Кадырбаев, А. Ш. Материалы Российского государственного архива Военно-Морского флота об изучении и освоении Аральского моря российскими военными моряками / А. Ш. Кадыр-баев // Восточный архив. - 2003. - № 10. - С. 63-71.
- Кадырбаев, А. Ш. Народы Приаралья в середине XIX века (по письмам А. И. Бутакова 18481849 гг.) / А. Ш. Кадырбаев // Восточный архив. -2006. - № 14-15. - С. 65-71.
- Каторин, Ю. Ф. Андреевский флаг над барханами. Участие российских моряков в завоевании Средней Азии / Ю. Ф. Каторин. - СПб. : Гангут, 2018. - 208 с.
- Кучирь, А. Г. Каспийское мореходство - дело государево. История борьбы за Каспий / А. Г. Кучирь. - СПб. : Балтийская книжная компания, 2015. -216 с.
- Материалы для истории экспедиций Академии наук в XVIII и XIX веках. Хронологические обзоры и описание архивных материалов / сост. В. Ф. Гнучева. - М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1940. -312 с.
- Обзор русских путешествий и экспедиций в Среднюю Азию / сост. О. В. Маслова. - Ч. 1. 17151856. - Ташкент : Изд-во САГУ, 1955. - 84 с.
- Обзор русских путешествий и экспедиций в Среднюю Азию / сост. О. В. Маслова. - Ч. 2. 18561869. - Ташкент : Изд-во САГУ, 1956. - 102 с.
- Петриченко, К. Рассказы каспийского моряка / К. Петриченко // Русский вестник. - 1857. -Т. 9. - С. 575-600.
- Пирова, Р. Н. Персидское купечество и астраханская таможня в первой половине XIX века / Р. Н. Пирова // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - 2016. - № 12 (74), ч. 3. - С. 126-128.
- Почекаев, Р. Ю. А.И. Бутаков и Аральская флотилия в конце 1840-х - начале 1860-х гг / Р. Ю. Почекаев // Вопросы истории. - 2015. - № 4. - С. 142-150.
- Путешествия Г. С. Карелина по Каспийскому морю // Записки Императорского Русского географического общества по общей географии. -1883. - Т. 10. - VI + 497 с.
- Русско-туркменские отношения в XVIII-XIX вв. (до присоединения Туркмении к России). -Ашхабад : АН Туркменской ССР, 1963. - 585 с.
- Сулайманов, С. А. История Аральской и Амударьинской флотилий (1847-1920 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сулайманов Саламат Ареп-баевич. - Нукус, 2010. - 25 с.