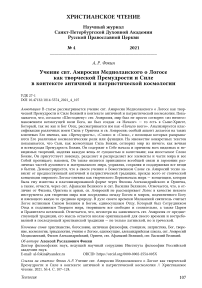Учение свт. Амвросия Медиоланского о Логосе как творческой Премудрости и Силе в контексте античной и патристической космологии
Автор: Фокин Алексей Русланович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 4 (99), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается учение свт. Амвросия Медиоланского о Логосе как творческой Премудрости и Силе Божией в контексте античной и патристической космологии. Показывается, что, согласно «Шестодневу» свт. Амвросия, мир был не просто сотворен «из ничего» мановением всемогущей воли Бога, но был создан «в Начале» - то есть в Сыне-Христе, Который, так же как и Бог Отец, рассматривается им как «Начало всего». Анализируется классификация различных имен Сына у Оригена и св. Амвросия; особый акцент делается на таких ключевых Его именах, как «Премудрость», «Слово» и «Сила», с помощью которых раскрываются Его различные космологические роли или функции. На множестве конкретных текстов показывается, что Сын, как всемогущая Сила Божия, сотворил мир из ничего; как вечная и всеведущая Премудрость Божия, Он содержит в Себе начала и причины всех видимых и невидимых творений, наделяя каждую вещь ее сущностью и качествами; как ипостасное Слово Божие, Он присутствует повсюду, разделяет и распределяет все элементы и части мира и все Собой проницает; наконец, Он также является принципом всеобщей связи и гармонии различных частей духовного и материального мира, управляя, сохраняя и поддерживая все вещи в бытии. Демонстрируется, что в своем учении о Божественном Слове св. Амвросий тесно зависит от предшествующей античной и патристической традиции, прежде всего от стоической концепции мирового Логоса-пневмы как творческого Первоначала мира - концепции, которая была ему известна в платонизированной форме через Филона Александрийского и Оригена, а также, отчасти, через свт. Афанасия Великого и свт. Василия Великого. Отмечается, что, в отличие от Филона, Оригена и ариан, св. Амвросий не рассматривает Логос в качестве некоего инструмента для творения мира или посредника между Богом и миром, подчиненного Богу и имеющего какую-то среднюю природу. В духе своего времени Миланский святитель считает Логос истинным Сыном Божиим и Богом, единосущным Отцу, Который был Сотрудником Отца и подлинным Творцом мира, творившем все свободно и сознательно, а также Царем и Правителем вселенной. Отмечается, что, несмотря на зависимость свт. Амвросия от предшествующей традиции, его мысль остается вполне оригинальной для своего времени и востребованной в последующей христианской традиции - не только латинской, но и греческой.
Христианство, богословие, античная философия, стоицизм, патристика, бог, творение, космология, триадология, учение о логосе, единосущие, александрийская школа, свт. амвросий медиоланский, филон александрийский, ориген, свт. афанасий великий, свт. василий великий
Короткий адрес: https://sciup.org/140290116
IDR: 140290116 | УДК: 27-1 | DOI: 10.47132/1814-5574_2021_4_107
Текст научной статьи Учение свт. Амвросия Медиоланского о Логосе как творческой Премудрости и Силе в контексте античной и патристической космологии
E-mail: ORCID:
E-mail: ORCID:
Учение свт. Амвросия Медиоланского о Сыне Божием как Божественном Логосе — творческой Премудрости и Силе, сотворившей мир, управляющей им и сохраняющей его в бытии, нечасто становилось предметом специальных исследований. Ему отводится совсем немного места в монографиях, посвященных богословию свт. Амвросия в целом1 или его тринитарной доктрине в частности, которая, как правило, рассматривается современными учеными в контексте истории арианских споров и борьбы за Никейское учение о единосущии2. На этом фоне выделяются монографии двух французских исследователей — Эрве Савона и Франсуа Чабý. Первый ученый между прочими влияниями со стороны Филона Александрийского на экзегезу и мысль свт. Амвросия кратко рассматривает также и его влияние на учение о творении мира и Божественном Слове3. Второй ученый внес самый важный вклад в интересующую нас тему: он посвятил целых две главы, т. е. бóльшую часть своего исследования, вопросу о роли Божественного Слова в творении мира, его управлении, сохранении и спасении4. Вместе с тем в исследовании французского ученого космологические аспекты учения свт. Амвросия о Логосе часто смешиваются с сотериологическими, а философские влияния — с библейскими; кроме того, Ф. Чабу учитывает далеко не все возможные античные и патристические источники учения свт. Амвросия о Логосе (автор упоминает стоиков, Филона, Оригена, реже — свт. Афанасия и свт. Василия), а также практически не рассматривает параллели с его учением в современной ему и последующей христианской мысли. В настоящей статье мы попытаемся восполнить эти пробелы, а также предложить свою собственную систематизацию учения Миланского святителя о Логосе как Творце и Промыслителе мира в контексте античной и патристической космологии.
В своих Беседах на «Шестоднев», написанных под несомненным влиянием аналогичного сочинения свт. Василия Великого5, свт. Амвросий противопоставляет различным античным концепциям происхождения мира библейское учение о его творении «из ничего» по воле всемогущего Бога:
Познай, что Бог существовал прежде начала мира, и Он есть Начало всего (initium uniuersorum)… Он даровал начало бытия [всем] вещам, которым предстояло возникнуть (gignendi rebus initium), и Он есть [настоящий] Творец мира (creatorem mundi), а не просто подражатель (imitatorem), руководимый некоей идеей, [и воплощающий ее] в материи, создавая из нее свои творения не по своему собственному желанию, а по предложенному образцу (ad speciem propositam)6.
Бог… силой Своего краткого повеления (momento imperii sui) привел столь прекрасно устроенный мир, который ранее не существовал, из ничего в бытие (ex nihilo fecit esse), и без каких-либо ранее существовавших вещей и причин даровал [ему] обладание сущностью7.
При дальнейшем изложении свт. Амвросий показывает, что мир был не просто сотворен «из ничего» мановением всемогущей воли Бога, но был создан «в Начале» (in principio) — то есть, по мнению Миланского святителя, в Сыне , или во Христе , Который, так же как и Бог Отец, есть «Начало всего» (initium omnium):
В этом Начале , то есть во Христе (in hoc principio, id est in Christo), Бог сотворил небо и землю, ведь все через Него было создано, и без Него ничто не было создано, что было создано в Нем (ср. Ин 1:3), ибо в Нем все существует (in ipso constant omnia, ср. Кол 1:17)8.
В своем толковании библейского выражения «В начале…» свт. Амвросий близко следует Оригену, который сам, в свою очередь, зависел от предшествовавшей ему александрийской экзегетической традиции9. Действительно, хотя его пространный «Комментарий на Бытие» не сохранился, в «Гомилиях на Бытие», дошедших до нас в латинском переводе Руфина, Ориген прямо отождествляет творческое «начало» мира с Сыном:
Что же является Началом всего (omnium principium), если не Господь наш и Спаситель всех, Иисус Христос, рожденный прежде всякой твари (Кол 1:15)? Следовательно, в этом Начале , то есть в Слове Своем (in uerbo suo), Бог сотворил небо и землю (Быт 1:1), как и евангелист Иоанн говорит в начале своего Евангелия: В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть (Ин 1:1‒3). Стало быть, [Моисей] не говорит здесь о некоем временном начале (temporale aliquod principium), но говорит, что в Начале , то есть в Спасителе, были сотворены небо и земля , и все, что начало быть 10.
В каком же смысле свт. Амвросий называет Сына «Началом всего», в Котором или посредством Которого все было создано? Как выясняется из других текстов Миланского святителя, он имеет в виду Сына как Логос — Слово и Разум Божий, творческую Премудрость и Силу, с помощью которой Бог сотворил мир, сохраняет его и управляет им. Действительно, во второй Беседе на «Шестоднев» свт. Амвросий поясняет, в каком смысле Сын является Творцом мира:
Это [т. е. повеление возникнуть небесной тверди, см. Быт 1:6] говорит Бог, досто-поклоняемый по природе, непознаваемый в величии, беспредельный в воздаяниях, непостижимый в деяниях, высоту Чьей Премудрости (altitudinem sapientiae) кто может легко исследовать? Он говорит [это] Сыну, то есть говорит Своей Мышце (brachio suo), говорит Своей Силе (uirtuti suae), говорит Своей Премудрости (sapientiae suae), говорит Своей Праведности (iustitiae suae). И Сын творит как [все]могущий (quasi potens), творит как Сила Божия (quasi uirtus Dei), творит как Премудрость Божия (quasi sapientia Dei), творит как Божественная Праведность (quasi iustitia diuina)11.
Хотя в данном фрагменте не упоминается имени Слова Божия, в раннем анти-арианском трактате «О вере» Миланский святитель сводит воедино все имена Сына, показывающие Его роль в творении мира:
Отец ничего не сотворил без Своей Силы и Премудрости (ср. 1 Кор 1:24), ведь Он сотворил все в Премудрости, как написано: Все сотворил Ты в Премудрости (Пс 103:24). Итак, Бог Слово (Deus Verbum, ср. Ин. 1:1) не сотворил ничего без Отца12.
Несомненно, что все вышеприведенные имена — Слово, Сила и Премудрость — свт. Амвросий относит к Сыну на основании предшествующей библейской и патристической традиции13. Однако при их истолковании он нередко прибегает к понятиям и категориям античной философской традиции. Рассмотрим эти ключевые имена Сына подробнее, начав с понятия Премудрости Божией, которую Миланский святитель осмысливает в свете библейских толкований Филона, Оригена и свт. Афанасия Великого, отчасти восходящих к платоновскому представлению о Демиурге и вечных идеях-образцах14. Так, используя антиарианский аргумент свт. Афанасия Великого15, свт. Амвросий замечает, что именно Сын, а не Отец, есть Премудрость Божия (sapientia Dei filius est), которая обладает всемогуществом (omnipotens), неизменным бытием (permanens) и благостью (bona)16. Премудрость Божия рассматривается им как самостоятельная и вечная реальность, обладающая всемогущей творческой силой17 и всеве-дением18; она кардинально отличается от мудрости человеческой, которая есть лишь качество или навык разумной души, приобретенный человеком в процессе жизни и познания. Так, в «Толковании на Евангелие от Луки» Миланский святитель пишет:
Сын есть Премудрость Божия — Премудрость по природе (sapientia per naturam), а не по преуспеянию (per profectum). Одна есть Премудрость — Сила Бога Отца (Dei patris uirtus), а другая мудрость — навык души (uirtus animae): первая — рожденная, вторая — сотворенная; одна Премудрость — Создатель творений (auctor operum), а другая — творение19.
Сходным образом у Оригена Премудрость Божия20 рассматривается не как творение Божие21, но как непосредственный Творец мира (δημιουργός):
Христос в определенном смысле есть Творец (δημιουργός πως ἐστί), Которому Отец говорит: Да будет свет , и Да будет твердь (Быт 1:3, 6). Христос есть Творец как Начало , сообразно чему Он является Премудростью (δημιουργὸς… ὡς ἀρχή καθ’ ὃ σοφία ἐστί), называемый Началом по причине того, что Он есть Премудрость… Бог, создав, так сказать, одушевленную Премудрость (ἔμψυχον σοφίαν, ср. Прем 8:22), повелел ей по содержащимся в ней образцам (ἀπὸ τῶν ἐν αὐτῇ τύπων) придать всем сущим и материи форму, виды и, как я полагаю, даже сущности (τὴν πλάσιν καὶ τὰ εἴδη… καὶ τὰς οὐσίας)22.
Хотя свт. Амвросий, в отличие от Оригена, не разъясняет, в каком именно смысле он называет Сына Премудростью Божией, приводя лишь ее Божественные характеристики и отличия от человеческой тварной мудрости, в одном месте своего «Шестодне-ва» он утверждает, что «Божественный Ум» (mens diuina) — понятие, весьма близкое к Божественной Премудрости23 — «содержит в себе начала, сущности и причины всех видимых и невидимых вещей» (uisibilium atque inuisibilium substantias, origines et causas rerum)24. Как представляется, это утверждение Миланского святителя весьма близко к мнению Оригена о Божественной Премудрости как Демиурге, содержащем в себе начала и причины всех творений и представляющем собой некую всеобъемлющую «систему Божественного умозрения и замыслов [Бога] о всех вещах» (τὴν σύστασιν τῆς περὶ τῶν ὅλων θεωρίας καὶ νοημάτων)25.
Кроме того, учение свт. Амвросия об именах Сына также весьма сходно с классификационным подходом Оригена, который разделял эти имена на первичные, или «абсолютные» (τὰ ἀπόλυτα), которые относятся к предвечному бытию Логоса (τὰ αὑτῷ), и вторичные, или «относительные» (τὰ ἑτέροις), которые относятся к Его участию во временном домостроительстве спасения26. Так, в трактате «О вере» свт. Амвросий, подобно Оригену и следовавшему за ним свт. Григорию Богослову27, перечисляет множество имен или признаков (indicia) Сына, среди которых есть те, которые ясно указывают на Его Божество (proprietatem deitatis), такие как Рождение (generatio), Бог, Сын, Слово; есть также те, которые указывают на сходство (similitudinem) Отца и Сына, такие как Сияние (splendor), Начертание (character), Отражение (speculum) и Образ (imago); наконец, есть те, которые указывают на единство Божественного могущества и власти (divinae maiestatis unitatem), такие как Премудрость, Сила, Истина и Жизнь28. В другом месте того же трактата св. Амвросий ставит в один ряд такие важнейшие имена Сына, принадлежащие к классу абсолютных или первичных, как Слово, Сын, Сила и Премудрость29.
Миланский святитель нередко сближает эти имена по смыслу, усваивая Премудрости Божией те же творческие функции, что и Слову Божию и Силе Божией30. На основании библейской и патристической традиции он рассматривает «Слово Божие» (Verbum Dei) в качестве одного из важнейших имен Сына, указывающих на Него как Творца мира31. При этом он, по всей вероятности, опирается и на античную философскую традицию — не только на платоновское понятие Ума-Демиурга, но и на стоическое понятие мирового Логоса, воспринятое им через Филона и Оригена32. Так, в своих «Толкованиях на Псалмы» свт. Амвросий характеризует Слово Божие как разумную Силу или способность Бога — rationabile Dei 33, что, конечно, сразу адресует нас к греческому понятию логоса (λόγος) — одновременно и разума , и слова , разделявшегося на ментальное и вербальное слово (речь)34. Действительно, для характеристики Божественного Слова свт. Амвросий использует восходящую к Филону Александрийскому и раннехристианским апологетам35 антропологическую аналогию, указывающую как на сходства, так и на отличия человеческого слова от Божественного:
Сын как Слово исполняет волю Отца. Хотя это наше слово является произнесенным (uerbum prolatiuum), состоит из слогов (syllabae) и есть звук (sonus), однако оно весьма согласно с нашим умом (sensu) и духом (mente); ведь то, что мы содержим внутренним чувством (interiori affectu), то мы обозначаем словно бы свидетельством действующего слова (operantis uerbi). Однако на самом деле наша речь (sermo) не обладает [своим собственным] действием, но таково одно лишь Слово Божие (Verbum Dei), Которое не есть ни произнесенное (prolatiuum), ни то, которое называют внутренним (ἐνδιάθετον), но то, которое само действует (operatur), живет (uiuit) и исцеляет. Хочешь знать, каково это Слово? Послушай [апостола], говорящего: Ибо Слово Божие есть живое, и сильное, и действенное (ualidum atque operatorium, ср. Евр 4:12)»36. «Вечное Слово вечного Бога (Verbum aeternum aeterni Dei) — не то, которое произносится (quod profertur), но то, которое действует (quod operatur), рожденное от Отца, а не произнесенное голосом (ex Patre genitum, non voce editum)37.
Таким образом, свт. Амвросий, в полном согласии с предшествующей патристической традицией, представляет Слово Божие в качестве не просто безличной творческой Силы Бога или Его ментально-речевой способности, но как самостоятельно действующего агента и живого субъекта — uiuum et operatorium uerbum («живое и действенное Слово»)38, uerbum operans («действующее Слово»)39, sermo operatorius («действенное Слово/Речь»)40 — и определяет Его как substantiuum uerbum («самосущее Слово»)41, поскольку Оно, в отличие от наших слов, обладает самостоятельным существованием и всемогущей творческой силой42. Кроме того, важно отметить, что свт. Амвросий, в отличие от Филона, Оригена и ариан, не рассматривает Божественный Логос в качестве посредника между Богом и миром, подчиненного Богу и имеющего некую среднюю природу43, но в духе своего времени учит о Его единосущии с Отцом44.
Наряду со Словом и Премудростью в качестве одного из имен Сына свт. Амвросий часто использует имя «Сила Божия» (uirtus Dei) или «Божественная Сила» (diuina uirtus)45. При этом, помимо традиционного для предшествующей патристической традиции места 1 Кор 1:24, где Сын называется Силой и Премудростью Божией, свт. Амвросий видит указание на это и в Рим 1:20:
Апостол говорит, что есть вечная Сила Божия (Dei sempiterna uirtus) и Божество (Рим 1:20). Сила Божия — это Христос, ведь написано: Христа, Божию силу и Божию премудрость (1 Кор 1:24). Стало быть, если Христос есть Сила Божия, а Сила Божия вечна, следовательно, Христос вечен…46
Христос существует не во времени, но [произошел] от Отца прежде времени, как Бог [и] истинный Сын Божий; и как вечная Сила (uirtus sempiterna) выше времени (supra tempora) Тот, Кого не ограничивает никакой временной предел; и как Жизнь выше времени Тот, для Кого никогда не настанет день смертный47.
Помимо библейских текстов, в своем учении о Сыне как творческой Силе Божией свт. Амвросий опирается на Филона Александрийского. Действительно, как показал Жан Пепен48, использованное свт. Амвросием по отношению к Божественному Слову понятие operatoria uirtus Dei («действенная Сила Бога»)49 было заимствовано им напрямую из трактата Филона «О бегстве и нахождении», который рассматривал здесь «высочайший Божественный Логос» (τὸν ἀνωτάτω λόγον θεῖον) как «источник премудрости» (σοφίας πηγή) и «творческую Силу (τὴν ποιητικὴν δύναμιν), которую Моисей называет Богом (θεόν), поскольку посредством нее была установлена и благоустроена вся вселенная» (δι’ αὐτῆς ἐτέθη καὶ διεκοσμήθη τὰ σύμπαντα)50.
В качестве синонима творческой Силы Божией как имени Сына свт. Амвросий, в полном согласии с предшествующей патристической традицией51, часто использует понятие «Рука Божия» (dextera Dei, manus Dei) или «мышца Божия» (brachium Dei)52. Так, в шестой Беседе на «Шестоднев» он говорит:
Рука [Божия]… есть та, которая совершает и распределяет тайны Божии (diuina mysteria), и этим именем соблаговолил называться Сын Божий, как сказал [пророк] Давид: Десница Господня (dextera Domini) сотворила силу, Десница Господня вознесла меня (ср. Пс 117:16). Это та Рука , которая сотворила все (manus est quae fecit omnia), как сказал всемогущий Бог: Не Рука ли Моя все это соделала? (ср. Ис 66:2)53.
Более того, в трактате «О девах» Миланский святитель применительно к Сыну Божию прямо сближает понятия Руки, Слова, Силы и Премудрости Божией, сотворившей мир:
Он есть Тот, Кого Отец родил прежде денницы , как вечного, и родил из чрева , как Сына (ср. Пс 109:3). Его Он излил из сердца , как Слово (uerbum, ср. Пс 44:2).
Он есть Тот, о Ком благоволил Отец (ср. Мф 17:5). Он есть Мышца Отца (Patris brachium), ибо Он — Творец всего (creator omnium). Он есть Премудрость Отца (Patris sapientia), ибо исшел из уст Божиих. Он есть Сила Отца (Patris uirtus), ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно (Кол 2:9)54.
Таким образом, свт. Амвросий чаще всего совместно и нераздельно использует такие имена Сына, как Премудрость, Слово, Сила и Рука Божия, для описания творческого присутствия Сына в мире. При этом он был убежден, что Слово Божие, вечно существовавшее в Отце как Его Сила и Премудрость, служило Ему не просто в качестве некоего инструмента при творении мира, но было Его «Сотрудником» (cooperator), «Соучастником творения» (consors operationis) и «Творцом» (creator), Который творит все свободно и сознательно55. В связи с этим Миланский святитель выражает открытое несогласие с пониманием роли Слова и Премудрости Божией в творении как чисто инструментальной, что было характерно для раннехристианских апологетов и алек-сандрийцев56, а в его эпоху — для ариан. Так, разбирая аргументы последних в трактате «О вере», он пишет:
Каким же образом, по вашему мнению, все это сотворил Сын Божий? Неужели словно бы некая печать (quasi anulum), которая не чувствует того, что она отпечатывает? Но Отец все сотворил в Премудрости (Пс 103:24), то есть все сотворил через Сына (per Filium), Который есть Сила Божия и Премудрость (1 Кор 1:24). Премудрости же подобает, чтобы она знала свойства и причины своих деяний (suorum operum et uirtutes norit et causas). Стало быть, Творец всего (creator omnium) не мог оставаться в неведении о том, что Он сотворил, и не знать о том, что Сам даровал57.
Против этих аргументов ариан свт. Амвросий развивает общее для всех «прони-кейцев» учение о единой творческой воле Отца и Сына58:
Если ты говоришь, что [все это, т. е. Рим 11:36, сказано] об Отце, то это потому [ все ] из Него (ex ipso), что из Него [родилась] творящая Премудрость (operatrix sapientia), Которая по Своей собственной и Отчей воле (ex sua et patris uoluntate) даровала бытие всему, что ранее не существовало; и [ все ] через Него (per ipsum), поскольку все было создано посредством Его Премудрости (per sapientiam eius); наконец, [ все ] в Нем , поскольку Он есть Источник животворящей Сущности (uiuificatoriae fons substantiae), и в Нем мы живем, и существуем, и движемся (ср. Деян 17:28)59.
Таким образом, по мысли свт. Амвросия, Божественное Слово как творческая Премудрость и Сила Божия не просто служило Отцу инструментом творения мира, но и само действовало как полноправный Творец мира, исполняя как Свою собственную волю, так и волю Отца. В этом учение Миланского святителя о Божественном Логосе существенно отличается от учения Филона Александрийского, Оригена и раннехристианских апологетов, поскольку в нем учитывается развитие тринитарного богословия в IV в. в полемике с арианами. Более того, свт. Амвросий не раз повторяет мысль свт. Афанасия и свт. Василия Великих60 об участии всей Святой Троицы в творении мира, который был сотворен единым действием всех трех Лиц:
Пусть же в создании мира (in constitutione mundi) будет ясно видно [единое] действие Троицы (operatio Trinitatis). В самом деле, после того, как было предпослано [учение о] том, что в начале Бог сотворил небо и землю (Быт 1:1), то есть Бог сотворил [это] во Христе, [так что] или Сын Божий [и] Бог [Сам] сотворил, или Бог [Отец] сотворил [это] через Сына, — ибо все через Него было создано, и без Него ничто не было создано (ср. Ин 1:3), — сверх этого оставалось еще [сказать и о] полноте действия (plenitudo operationis), [достигаемой] в Духе, как написано: Словом Господа утверждены небеса, и Духом уст Его — вся сила их (ср. Пс 32:6)61.
Для того, чтобы подробнее раскрыть роль Божественного Слова в творении мира и управлении им, свт. Амвросий прибегает к философскому понятию о «Логосе-разделителе» (λόγος τομεύς), восходящему к огненному Логосу Гераклита62 и переосмысленному в библейском смысле Филоном Александрийским63. Действительно, согласно последнему,
Бог, [словно бы] заточив Разделителя всех вещей — Свой Логос (τὸν τομέα τῶν συμπάντων αὑτοῦ λόγον), разделил [с Его помощью] бесформенную и бескачествен-ную сущность всех вещей, а также выделенные из нее четыре мировые стихии и образованные посредством них животные и растения64.
Сходным образом Миланский святитель усваивает Слову Божию не только творческую роль в творении мира, но и универсально-космическую функцию по упорядочиванию мира и распределению различных элементов, частей и свойств как в мировом целом, так и внутри человеческих душ и тел65. Так, в трактате «О жалобе Иова и Давида» он, подобно Филону, называет Слово Божие «разделителем» (diuisor); при этом в качестве библейских оснований он ссылается на Евангелие от Луки и Послание к Евреям, где Слово Божие уподобляется остро отточенному мечу:
Христос разделил землю [за] Иорданом. Послушай, как Он разделяет: И сквозь саму твою душу пройдет меч, чтобы открылись помышления многих сердец (ср. Лк 2:35), по той причине, что Он есть разделитель наших душ (nostrarum diuisor animarum), Который нисходит в самые тайники [нашего] сердца и обнаруживает помышления умов. И этот меч есть живое Слово Бога (uerbum Dei uiuum). В самом деле, в [Послании] к Евреям ты читаешь вот что: Слово Божие есть живое и сильное; Оно острее всякого острейшего меча и проникает до разделения души и духа, составов и мозгов (ср. Евр 4:12)… Сын Божий… поистине есть Разделитель земного и небесного (terrestrium atque caelestium diuisor), Который дал [нашим пра]отцам разделенное наследие (possessionem diuiduam): одно — то, которое приобретается здесь на земле, а другое — то, которое сохраняется для воздаяния в будущей жизни66.
Для пояснения этой разделительной или, скорее, упорядочивающей и распределительной роли Божественного Слова в сотворенном мире свт. Амвросий прибегает к представлению о множестве присущих Ему действий, или энергий (operationes), которым соответствует множество «слов» (multa uerba), собранных воедино в ипоста-сном Слове Божием как их Главе (caput omnium)67:
Тот, кто познал единое Слово (unum uerbum), знает и много слов (multa uerba). Ведь в едином суть многие, а во многих — единое (in uno enim multa sunt, et in multis unum est). Итак, следует объяснить, каким образом многие суть одно Слово и одно Слово есть многие слова (unum uerbum multa sint, et multa uerba unum uerbum sit). Это нетрудно понять, ведь апостол сказал, что Он есть Образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; в Нем создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, — все через Него и в Нем создано (ср. Кол 1:15–16). Итак, есть единое Слово, Которое действует в каждой отдельной [вещи] (operatur in singulis). И когда Оно действует во всех, то производит все во всех (operatur omnia in omnibus). Это Слово, единственное у Отца, распространяет Себя во множество (se diffudit in plurima), ведь мы все получили от Его полноты. Поэтому, если ты посмотришь на каждое отдельное из всего, что было Им создано (singula omnium quae creata sunt in ipso), то увидишь, что в отдельных [вещах] есть единое Слово всех (in singulis unum verbum esse omnium), причастниками Которого мы становимся в меру нашей способности. Во мне есть человеческое слово (uerbum humanum), но апостол приходит на помощь и говорит: Думаю, что и я имею Духа Божия (1 Кор 7:40). В другом есть слово небесное (uerbum caeleste), и во многих — слово ангельское (uerbum angelorum). Есть те, кто имеют слово господств и властей, слово праведности (uerbum iustitiae), слово целомудрия (uerbum castitatis), слово благоразумия (uerbum prudentiae), слово благочестия (uerbum pietatis) и слово добродетели (uerbum uirtutis). Так многие суть единое Слово, и единое [Слово] есть многие слова68.
Как представляется, в данном месте под множеством различных «слов» свт. Амвросий понимает не только и не столько различные виды речи, свойственные разным творениям, сколько логосы творений — рациональные принципы или сущностные смыслы всех вещей, в то числе и человеческих добродетелей. В этом Миланский святитель вновь опирается на предшествующую традицию — прежде всего на Филона и Оригена69. Так, у Филона единый Логос как бы дробится на множество творческих идей (αἱ ἰδέαι, ὁ ἐκ τῶν ἰδεῶν κόσμος), или «духовных и бестелесных сил» (νοηταὶ δυνάμεις, ἀσώματοι δυνάμεις), проницающих мир и объединяющихся в едином Логосе как их общем месте или носителе70. Согласно Оригену, Премудрость Божия является своего рода идеальным замыслом, или планом, мира (см. выше), в котором заключены логосы, или идеи, всех вещей, поскольку «все вещи возникли согласно рациональным принципам будущих вещей, которые были прежде замыслены Богом в Премудрости» (κατὰ τοὺς ἐν τῇ σοφίᾳ προτρανωθέντας ὑπὸ θεοῦ τῶν ἐσομένων λόγους)71. Все это множество логосов вещей (οἱ περὶ ἑκάστου λόγοι) относится к единому Божественному Логосу как части к содержащему их целому, или как виды к роду (ὡς ἐν ὅλῳ μέρη ἢ ὡς ἐν γένει εἴδη)72. При этом, по мысли Оригена, Логос хотя и имеет в Себе множество аспектов, имен и логосов, это множество никак не затрагивает единство Его сущности (οὐσία) и ипостаси (ὑποκείμενον ἕν ἐστιν)73. Нечто подобное, как мы показали, утверждает и свт. Амвросий, при этом указывая, что Слово Божие всегда сохраняет Свое единство и уникальность по Своей Божественной природе и ипостаси, не рассеиваясь на множество отдельных «слов» или «сил»74.
Наконец, помимо уникальной роли Слова Божия как творческой Премудрости и Силы в творении мира, Миланский святитель не менее ясно говорит о Его роли в Божественном Промысле и сохранении мира. В Беседах на «Шестоднев» он говорит, что Сын «Своей силой сохраняет все» (maiestate sua continentem omnia), что от Него исходит «действие, которое связывает и сочетает вселенную» (operatio quae ligauit atque constrinxit uniuersa), что «Его силой все вещи пребывают и существуют (omnia eius uirtute manent atque consistunt)75; наконец, что Само «Слово Божие (sermo Dei) есть Сила природы (uirtus naturae) и долговечность сущности» мира (diuturnitas substantiae)76, ибо «посредством Него (per ipsum) всем вещам сообщается их устройство и сохранение» (constitutio et perseverantia omnibus)77. Тем самым, как подчеркивает Миланский святитель, Сын Божий не только является Творцом мира, но и его Царем и Правителем, Который непосредственно управляет им, сохраняя установленную в нем гармонию и не давая ему распасться на отдельные элементы. С другой стороны, у св. Амвросия Слово Божие, подобно стоической пневме , связующей разные части космоса (πνεῦμα δεσμός)78, присутствует повсюду, все проницает и наполняет Собою, связывая воедино все творение79:
Узами Слова (uinculo uerbi) все вещи связаны воедино (constricta sunt omnia), Его силой содержатся (eius continentur potentia) и в Нем существуют (in ipso constant), ведь в Нем созданы все вещи и в Нем обитает полнота всего (omnis plenitudo). И все вещи неизменно пребывают потому, что Оно не позволяет разрушиться тому, что Само связало, так как Его волей все вещи существуют. Ведь все, что пожелает, Оно сдерживает и управляет, и связывает естественной гармонией (naturali concordia ligat)80.
Это представление о Божественном Логосе как связующем начале мироздания свт. Амвросий также почерпнул у Филона Александрийского. Действительно, согласно Филону,
Логос Сущего есть связь всех вещей (ὁ τοῦ ὄντος λόγος δεσμὸς ὢν τῶν ἁπάντων), Он содержит и скрепляет все части [мироздания] (συνέχει τὰ μέρη πάντα καὶ σφίγγει), препятствуя их расторжению и распадению81.
Вечный Логос вечного Бога (λόγος ὁ ἀίδιος θεοῦ τοῦ αἰωνίου) есть крепчайшая и прочнейшая опора всех сущих (τὸ ὀχυρώτατον καὶ βεβαιότατον ἔρεισμα τῶν ὅλων). Распространяясь от середины к краям и от пределов к середине, он совершает неколебимый бег природы, сводя и скрепляя воедино все [ее] части, ведь родивший [его] Отец делает его неразрывной связью вселенной (δεσμὸν ἄρρηκτον τοῦ παντός)82.
Однако не исключено, что источником представления об этой универсально-космической сохраняюще-связующей функции Божественного Слова для свт. Амвросия был также свт. Афанасий и свт. Василий Великий. По мнению первого, Бог, зная, что все творение по своей природе, в основе которой лежит небытие, текуче и разрушимо, для того, чтобы вселенная не пришла в беспорядок и не возвратилась опять в небытие, сотворил ее Своим вечным и неизменным Словом (Логосом); тем самым Бог не позволил тварному миру увлекаться своей собственной природой, но поддерживает его в бытии и управляет им тем же самым Своим Словом: под руководством, Промыслом и устроением Слова (τῇ τοῦ λόγου ἡγεμονίᾳ καὶ προνοίᾳ καὶ διακοσμήσει) мир твердо пребывает в бытии и не разрушается (βεβαίως διαμένειν)83.
Сходное представление о царящей в мире всеобщей гармонии (ἁρμονία) или симпатии (συμπάθεια), установленной Богом в сотворенном мире, встречается и в «Шесто-дневе» свт. Василия Великого, согласно которому Бог весь мир, составленный из неравных частей, «сопряг неким неразрывным любовным союзом в единое общение и гармонию» (ἀρρήκτῳ τινὶ φιλίας θεσμῷ εἰς μίαν κοινωνίαν καὶ ἁρμονίαν συνέδησεν), так что даже далеко отстоящие друг от друга части мироздания тесно связаны между собой посредством природной «симпатии» (ἡνῶσθαι διὰ τῆς συμπαθείας)84. Так или иначе, если говорить о свт. Амвросии, то он распространяет это связующее и сохраняющее действие Слова Божия на всю материальную и духовную вселенную, включая христианскую Церковь, в которой разные люди связываются в единое
«сообщество верующих и мыслящих (corpus fidelium et sapientium) благодаря разумной гармонии Слова» (per harmoniam rationabilem uerbi, ἀρμονίᾳ τοῦ λόγου, ср. Еф 4:16)85. Христос есть «Глава всех (caput omnium), от Которой происходит все Тело (totum corpus) и соединяется с само собой посредством взаимной связи (mutua connexione), получая свое приращение в созидании любви (ср. Еф 4:15‒16)»86. Таким образом, можно сказать, что у свт. Амвросия Христос есть «связь вселенной как Глава Своего Тела (сообщества верующих); и Он же возглавляет все, даже материальную вселенную, через людей»87.
Миланский святитель также подчеркивает, что Сын Божий как Царь и Правитель мира находится повсюду и наполняет все его части Своей силой (uirtute). Так, в «Толковании на Евангелие от Луки» он пишет:
Посмотри на небо: Иисус там; погляди на землю: [и здесь] Иисус присутствует; взойди словом на небо, сойди словом в преисподнюю, [и там] присутствует Иисус… Проникни мысленно в бездну, и там ты увидишь действие Христа… Итак, где же еще нет Того, Кто наполняет небесные, преисподние и земные [области]? Поистине велик Тот, чья сила наполнила мир (cuius uirtus mundum repleuit), Кто присутствует повсюду (ubique est) и будет всегда, ибо Царствию Его не будет конца (Лк 1:33)88.
При этом для описания этого вездеприсутствия Слова Божия свт. Амвросий нередко прибегает к философскому языку, характерному для описания присутствия в мире и его частях Логоса-пневмы как его внутренней первоосновы в философии стоиков89. Так, он уподобляет действие и присутствие Божественного Слова во всем творении пронизыванию его лучами солнца, несущими миру свет и тепло, притом что само солнце остается высоко в небе:
Ты не сомневаешься относительно солнца, что оно сияет повсюду, неужели ты будешь сомневаться относительно Бога в том, что повсюду блистает Сияние Его славы и Образ Его сущности ? (ср. Евр 1:3). И чтó вообще не проницает Слово Божие? … Оно проницает [человеческую] душу и просвещает ее как Сияние вечного света (ср. Прем 7:26), и Его власть распространена через всех, и во всех, и над всеми (diffusae per omnes et in omnes et supra omnes potestatis)90.
В связи с этим свт. Амвросий также использует восходящее к Филону толкование Логоса как Первосвященника, Чьи одежды символизируют различные элементы и части мироздания, в которые Он как бы облекается91:
Это есть Слово Божие, Которому принадлежит великое священство (magnum sacerdotium), Чье духовное одеяние (indumenta intelligibilia) описал Моисей на примере одежд первосвященн ика (см. Исх 28‒29). В самом деле, Своей силой
Он погружается в мир (uirtute sua induit mundum) и, будучи словно бы облечен в него, сияет во всех (eo amictus fulget in omnibus)92.
Подведем итоги. Как мы показали, свт. Амвросий в своем учении о Слове Божием как творческой Премудрости и Силе Божией, сотворившей мир, управляющей им и сохраняющей его в бытии, тесно зависит от предшествующей античной и патристической традиции, прежде всего от стоической концепции мирового Логоса-пнев-мы как творческого Первоначала мира — концепции, которая была ему известна в платонизированной форме через Филона Александрийского и Оригена, а также, отчасти, через свт. Афанасия Великого и свт. Василия Великого, чей «Шестоднев», как мы видели, лег в основу аналогичного труда Миланского святителя. Однако, в отличие от Филона, Оригена и современных ему ариан, свт. Амвросий не рассматривает Логос в качестве некоего инструмента для творения мира или посредника между Богом и миром, подчиненного Богу и имеющего некую среднюю природу. В духе своей эпохи Миланский святитель считает Логос истинным Сыном Божиим и Богом, единосущным Отцу, Который был Сотрудником Отца и подлинным Творцом мира, творившим все свободно и сознательно, а также Царем и Правителем вселенной. В связи с этим свт. Амвросий говорит о разных космологических ролях, или функциях, Божественного Слова: как всемогущая Сила Божия, Оно сотворило мир из ничего; как вечная и всеведущая Премудрость Божия, Оно содержит в Себе начала и причины всех видимых и невидимых творений, наделяя каждую вещь ее сущностью и качествами; как Слово Божие, Оно присутствует повсюду, разделяет и распределяет все элементы и части мира и все Собой проницает; наконец, Оно также является принципом всеобщей связи и гармонии различных частей духовного и материального мира, управляя, сохраняя и поддерживая все вещи в бытии. При этом, несмотря на зависимость свт. Амвросия от предшествующей традиции, его мысль остается вполне оригинальной для своего времени и востребованной в последующей христианской традиции — не только латинской93, но и греческой94.
Список литературы Учение свт. Амвросия Медиоланского о Логосе как творческой Премудрости и Силе в контексте античной и патристической космологии
- Ambrosius Mediolanensis. Exameron, De paradiso, De Cain et Abel, De Noe, De Abraham, De Isaac, De bono mortis // CSEL. Vol. 32/1 / Ed. K. Schenkl. Vindobonae, 1896-1897.
- Ambrosius Mediolanensis. De Iacob, De Ioseph, De patriarchis, De fuga saeculi, De interpellatione Iob et David, De apologia David, Apologia David altera, De Helia et ieiunio, De Nabuthae, De Tobia // CSEL. Vol. 32/2 / Ed. K. Schenkl. Vindobonae, 1897.
- Ambrosius Mediolanensis. Expositio Evangelii secundum Lucan // CSEL. Vol. 32/4 / Ed. K. Schenkl. Vindobonae, 1902.
- Ambrosius Mediolanensis. Expositio psalmi CXVIII // CSEL. Vol. 62 / Ed. M. Petschenig, M. Zelzer. Vindobonae, 1913.
- Ambrosius Mediolanensis. Explanatio psalmorum XII // CSEL. Vol. 64 / Ed. M. Petschenig, M. Zelzer. Vindobonae, 1919.
- Ambrosius Mediolanensis. Explanatio symboli, De sacramentis, De mysteriis, De paentientia, De excessu fratris, De obitu Valentiniani, De obitu Theodosii // CSEL. Vol. 73 / Ed. O. Faller. Vindobonae, 1955.
- Ambrosius Mediolanensis. De fide // CSEL. Vol. 78 / Ed. O. Faller. Vindobonae, 1962.
- Ambrosius Mediolanensis. De Spiritu Sancto libri tres, De incarnationis dominicae sacramento // CSEL. Vol. 79 / Ed. O. Faller. Vindobonae, 1964.
- Ambrosius Mediolanensis. Epistulae et acta: Epistularum libri I-VI // CSEL. Vol.82/1 / Ed. O. Faller. Vindobonae, 1968.
- Ambrosius Mediolanensis. Epistulae et acta: Epistularum libri VII-IX // CSEL. Vol. 82/2 / Ed. O. Faller, M. Zelzer. Vindobonae, 1990.
- Адамов (2006) — АдамовИ.И. Свт. Амвросий Медиоланский. Сергиев Посад, 1915; 20062.
- Диллон (2002) — Диллон Дж. Средние платоники. 80 г. до н. э. — 220 н. э. СПб., 2002.
- Столяров (1995) — Столяров A.A. Стоя и стоицизм. М., 1995.
- Фокин (2014) — ФокинА.Р. Формирование тринитарной доктрины в латинской патристике. М., 2014.
- Фокин (2016) — Фокин А. Р. Премудрость Божия как Ars Dei у блж. Августина: между неоплатонизмом и христианством // Вестник ПСТГУ. Сер. II: История. История Русской Православной Церкви. 2016. Вып. 5 (72). С. 9-19.
- Фокин (2019) — ФокинА.Р. Ориген // Православная Энциклопедия. М., 2019. Т.53. С. 219-227.
- Ayres (2005) — Ayres L. Nicaea and its Legacy: An Approach to Fourth-Century Trinitarian Theology. Oxford, 2005.
- Bargeliotes (1972) — Bargeliotes L. Origen's Dual Doctrine of God and Logos // Theologia. 1972. No. 43. P. 202-212.
- Bruns (2013) — Bruns Ch. Trinität und Kosmos. Zur Gotteslehre des Origenes. Münster, 2013.
- Crouzel (1985) — Crouzel H. Origène. Paris, 1985.
- Dassmann (1965) — Dassmann E. Die Frömmigkeit des Kirchenvaters Ambrosius von Mailand: Quellen und Entfaltung. Münster, 1965.
- Dudden (1935) — Dudden H. The Life and Times of St Ambrose. Oxford, 1935. Vol. 1-2.
- Förster (1884) — Förster Th. Ambrosius, Bischof von Mailand. Halle, 1884.
- Herrmann (1954) — Herrmann L. Ambrosius von Mailand als Trinitätstheologe. Dargestellt in Konfrontation mit der illyrischen Theologie und im Blick auf das neu auftauchende christologische Problem. (Diss.). Heidelberg, 1954.
- Ihm (1890) — Ihm M. Philon und Ambrosius // Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik. 1890. Bd. 141. S. 282-288.
- Madec (1974) — Madec G. Saint Ambroise et la philosophie. Paris, 1974.
- Markschies (1995) — Markschies Chr. Ambrosius von Mailand und die Trinitätstheologie. Kirchen- und theologiegeschichtliche Studien zu Antiarianismus und Neunizänismus bei Ambrosius und im lateiniscchen Westen (364-381). Tübingen, 1995.
- Orbe (1961) — Orbe A. La unción del Verbo. Roma, 1961.
- Pepin (1964) — Pepin J. Théologie cosmique et théologie chrétienne (Ambroise, Exam. I 1, 1-4). Paris, 1964.
- Rowe (1987) — RoweJ.N. Origen's Doctrine of Subordination. A Study in Origen's Christology. Bern, 1987.
- Savon (1977) — Savon H. Saint Ambroise devant l'exégèse de Philon le Juif. Paris, 1977. Vol. 1-2.
- Savon (1984) — Savon H. Physique des philosophes et cosmologie de la Genèse chez Basile de Césarée et Ambroise de Milan // Philosophies non chrétiennes et christianisme. (Annales de l'Institut de philosophie et de sciences morales). Bruxelles, 1984. P. 57-72.
- Schenkl (1896-1897) — Schenkl K. Praefatio // CSEL 32.1. Vindobonae, 1896-1897. P. I-LXXXIV.
- Szabó (1967) — Szabó F. Le rôle du Fils dans la création selon Saint Ambroise // Augustinianum. 1967. No. 7. P. 258-305.
- Szabó (1968a) — Szabó F. Le Christ et le deux créations selon Saint Ambroise // Augustinianum. 1968. No. 8. P. 5-39.
- Szabó (1968b) — Szabó F. Le Christ et le monde selon Saint Ambroise // Augustinianum. 1968. No. 8. P. 325-360.
- Szabó (1968c) — Szabó F. Le Christ Créateur chez saint Ambroise. Roma, 1968.
- Van Winden (1962) — Van WindenJ.C.M. St. Ambrose's Interpretation of the Concept of Matter // Vigiliae Christianae. 1962. No. 16. P. 205-215.
- Van Winden (1963) — Van Winden J. C. M. "In the Beginning". Some observations on the Patristic Interpretation of Genesis 1, 1 // Vigiliae Christianae. 1963. No. 17. P. 105-121.
- Verbeke (1945) — Verbeke G. L'evolution de la doctrine du Pneuma du Stoicimse à saint Augustin. Paris; Louvain, 1945.
- Williams (1995) — WilliamsD.H.Ambrose of Milan and the End of the Nicene-Arian Conflicts. Oxford, 1995.