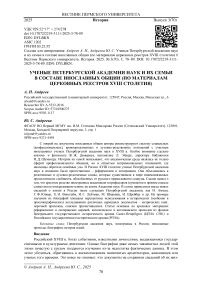Ученые Петербургской академии наук и их семьи в составе инославных общин (по материалам церковных реестров XVIII столетия)
Автор: Андреев А.Н., Андреева Ю.С.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Российская империя: страницы истории
Статья в выпуске: 3 (70), 2025 года.
Бесплатный доступ
С опорой на документы инославных общин авторы реконструируют систему социальных (конфессиональных), кровнородственных и духовно-родственных отношений с участием иностранных ученых Петербургской академии наук в XVIII в. Особое внимание уделено анатому и физиологу Ж. Ж. Дювернуа, математику Л. Эйлеру, директору библиотеки И. Д. Шумахеру. Истории их семей показывают, что академическая среда являлась не только сферой профессионального общения, но и областью матримониальных отношений, где иноземцы обретали семейные узы. В России XVIII столетия ученые Петербургской академии наук в основном были протестантами – реформатами и лютеранами. Они объединялись в родственные и духовно-родственные кланы, которые существовали в мире взаимосвязанных протестантских сообществ, обособленных от русского православного социума. Сделан вывод о том, что крестное родство иностранных академиков и профессоров (кумовство в прямом смысле слова) могло опосредованно влиять на жизнь Академии наук. В статье приводится масса новых сведений о жизни в России таких служащих Петербургской академии, как И. Амман, Г. Ф. Юнкер, Х. Н. Винсгейм, И. Г. Лейтман, М. Шванвиц, И. Шрейбер и др. На примере изучения их биографий показаны перспективы использования в исторических (особенно в просопографических) исследованиях различных церковных документов – метрических книг, перечней прихожан, списков причастившихся. Статья основана на архивных материалах реформатских и лютеранских церквей, католического и англиканского приходов из фондов Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб.) и Российского государственного исторического архива (РГИА).
Петербургская академия наук, иностранцы в России, инославные приходы, биографии, история семей
Короткий адрес: https://sciup.org/147252183
IDR: 147252183 | УДК: 929.52“17” + 274/278 | DOI: 10.17072/2219-3111-2025-3-78-89
Текст научной статьи Ученые Петербургской академии наук и их семьи в составе инославных общин (по материалам церковных реестров XVIII столетия)
Российский XVIII в. богат событиями, известными личностями, выдающимися государственными и культурными деятелями. Однако биографии даже самых знаменитых людей этой эпохи зачастую с трудом поддаются изучению из-за недостатка фактических данных. В этом легко убедиться, обратившись к жизнеописаниям знаменитых архитекторов, живописцев или ученых того времени. Это вовсе не означает, что документы не сохранили сведений об их жиз-
ни и трудах: бюрократическая машина империи работала на полную мощность и фиксировала будни каждого специалиста, как фиксировала стоимость гвоздей в заборе или дров для отопления «камор» в академии наук. Дело в том, что чиновные люди не интересовались личностями, а только их работоспособностью. Документы редко рассказывают нам о семье, вероисповедании, дружеских привязанностях, чертах характера того или иного человека. Кроме того, работа бюрократической машины в XVIII столетии не была отлажена, отличалась хаотичностью и непоследовательностью, из-за чего сведения о людях обычно рассыпаны мелкими крупицами по архивам самых разных учреждений так, что их не под силу собрать ни одному историку. Поэтому важны любые источники, способные уточнить биографические факты и тем более могущие показать нам исторических личностей в новом ракурсе.
Для всех, изучающих жизнь и деятельность иноземных специалистов в России, таким ценным и до сих пор малоизвестным источником выступают реестры инославных общин – метрические книги католических и протестантских церквей, списки причастившихся и перечни прихожан. Они дают возможность определить временные рамки пребывания человека на службе, выявляют состав семьи и косвенным образом позволяют судить о ее материальных потребностях, свидетельствуют о вероисповедании лица, а иногда и о его религиозной активности, характеризуют круг родственников и знакомых (среду повседневного общения). Дореволюционные историки не успели раскрыть потенциал таких документов, а в советское время поиски в церковных фондах считались недостойными ученого пролетарской генерации. Сегодня историки широко используют метрические книги в демографических и генеалогических исследованиях [ Шнайдер , 2021; Винник , 2012], но по-прежнему мало привлекают их для решения просопо-графических задач. Данная статья призвана частично восполнить этот пробел и показать возможности церковных реестров на примере биографических реконструкций иностранных служителей Петербургской академии наук. Ее цель состоит в уточнении биографических данных, относящихся к ученым и членам их семей, в воссоздании на базе церковных книг системы социальных и духовно-родственных отношений с участием иноземцев.
Социальные и бытовые аспекты жизни ученых в Петербурге историки анализируют крайне редко. Чуть ли не единственной работой, в которой раскрывается ближайшее окружение иностранных (конкретно – швейцарских) ученых Академии наук и где специально рассматриваются семейные и религиозные взаимоотношения с их участием, остается монография цюрихского исследователя Рудольфа Мументалера [ Мументалер , 2009]. Однако он не пользовался фондами петербургских церквей, источниковую базу его книги составляют документы личного происхождения (главным образом переписка швейцарских академиков) и делопроизводственные бумаги академического архива. Между тем документы инославных приходов Петербурга XVIII столетия (лютеранских церквей Св. Петра, Св. Анны и Св. Екатерины, реформатских кирок голландцев, французов и немцев, а также англиканской конгрегации и католического костела) содержат массу не введенных в научный оборот сведений о служителях Академии наук. Например, ценной представляется информация об известных ученых – академике кафедры зоологии и анатомии Жане Жорже (Иоганне Георге) Дювернуа, математике Леонарде Эйлере, его коллеге Николае Бернулли и о многих других профессорах и адъюнктах, не столь знаменитых научными открытиями. Трехсотлетний юбилей Российской академии наук, отмечаемый в 2024 г., вновь заостряет внимание общества на их судьбах.
Доктор Жан Жорж Дювернуа и его родственники в Петербурге
Ж. Ж. Дювернуа, гугенот из Монбельяра (область Франш-Конте), прибыл в Петербург вместе с семьей 6 (17) декабря 1725 г. (по другим сведениям, в начале 1726 г.) [Иностранные специалисты…, 2019, с. 259]. Состав семьи исследователям оставался неизвестным. Метрики немецкой лютеранской общины Васильевского острова (будущей церкви Св. Екатерины) сообщают, что во второй половине 1730-х гг. в Петербурге проживали сестра академика Маргарита и дочь Сибилла Франциска (Сесиль-Франсуаза). Маргарита Дювернуа, по первому мужу Шарфенштейн, овдовела еще в Монбельяре около 1722 г. и первые десять лет петербургской жизни жила с братом. В праздник Пасхи 27 апреля 1736 г. она сочеталась браком с секретарем
Коммерц-коллегии Иоганном Остервальдом, лютеранином из Гамбурга, тоже вдовцом (ЦГИА СПб. Ф. 1010. Оп. 1. Д. 242. Л. 131 об.). Остервальд, принятый на русскую службу в июне 1718 г., начал свой карьерный путь с должности секретаря Ревизион-коллегии [ Поленов , 1869, с. 1749]. Первый брак он заключил с дочерью вице-президента Коммерц-коллегии Генриха фон Фика, вместе с которым в марте 1731 г. был арестован по делу кн. Д. М. Голицына за попытку ограничения абсолютизма в России (Дипломатические документы…, 1870, с. 425). Однако, в отличие от своего тестя, Остервальд, по-видимому, избежал ссылки в Сибирь. В конце декабря 1734 г. он овдовел1, но имел от первой жены сына Христиана Дитриха (по-русски Тимофея Ивановича), 1729 года рождения, который впоследствии стал литератором и театральным деятелем и был известен как учитель великого князя Павла [ Степанов , 1999]. В отношении сестры Дювернуа было подозрение, что ее супруг Шарфенштейн жив, так что пастору Лудольфу Отто Трефурту в опровержение слухов понадобилось наводить справки на родине академика (ЦГИА СПб. Ф. 1010. Оп. 1. Д. 242. Л. 131 об.–132).
В метрических книгах не удалось найти сведений о жене самого профессора Дювернуа, Элеоноре Шарлотте Хайнрих2, однако упоминается их дочь Сибилла Франсуаза, которая 28 мая 1739 г. вышла замуж за профессора Петербургской академии наук Фридриха Генриха Штрубе де Пирмонта (Там же. Л. 138). Штрубе де Пирмонт, уроженец Ганновера, занимал кафедру юриспруденции и политических наук и еще до женитьбы входил в круг знакомых семьи Дювернуа. Он был реформатом [ Muralt , 1842, S. 29] (Erik Amburger Datenbank, № 52254), не раз становился крестным отцом для детей голландских и французских кальвинистов (ЦГИА СПб. Ф. 40. Оп. 1. Д. 1. Л. 49), но при этом посещал также богослужения немецкой лютеранской церкви Васильевского острова. Дювернуа мог знать его не только по службе в академии, но и по общим собраниям верующих, поскольку профессор зоологии, в свою очередь, находился в тесном контакте с немецкими протестантами (как кальвинистами, так и лютеранами). Это было обусловлено, во-первых, петербургскими традициями сотрудничества между протестантами разных конфессий [ Алакшин , 2006, с. 150–158], во-вторых, личным опытом жизни и работы Дювернуа в Германии. Неудивительно, что семья ученого породнилась с лютеранским семейством Остервальдов. До сих пор еще бытует ложное мнение, что Дювернуа исповедовал не кальвинизм, а лютеранскую веру (Erik Amburger Datenbank, № 52151).
Дювернуа, по-видимому, не поддерживал близких отношений с зятем, так как в частной переписке (письме Г. Н. Теплова) имеется глухое упоминание о том, что Штрубе де Пирмонт «поступил бесчестно» со своим тестем (из контекста письма следует, что Штрубе мог оклеветать Дювернуа перед Э. И. Бироном и способствовать его удалению из Академии наук) [ Пекарский , 1870, с. 675]. К тому же Дювернуа выступал против власти Иоганна Даниеля Шумахера, а Штрубе де Пирмонт пользовался протекцией всесильного директора академической библиотеки и даже входил в его клику. После отъезда Дювернуа из России в 1741 г. его дочь, надо полагать, оставалась в Петербурге вместе с мужем, занявшим вскоре должность конференцсекретаря академии [Иностранные специалисты…, 2019, с. 615].
Кальвинисты Эйлеры в кругу единоверцев и духовных родственников
По мировым меркам, Дювернуа, выведший анатомическую науку в России на европейский уровень, отнюдь не самый яркий ученый Петербурга. Гораздо более значимый след в истории науки оставил математик кальвинистского исповедания Леонард Эйлер. Ему и его семье посвящено немало биографических и даже генеалогических трудов3. Тем не менее церковные архивы еще способны сообщить много нового – неучтенного или просто незамеченного. Несмотря на немецкое происхождение своей фамилии, в первый период петербургской жизни Л. Эйлер явно тяготел к французской реформатской общине, в то время как многие (хотя и не все) немцы и германоязычные швейцарцы «кальвинской веры» посещали либо богослужения немецких лютеран [Алакшин, 2006, с. 153], либо своих единоверцев-голландцев (ЦГИА СПб. Ф. 40. Оп. 1. Д. 1. Л. 3А об., 33, 43, 72). В 1733 г. Л. Эйлер женился на Екатерине Гзелль, дочери живописца, которая, как и ее отец – швейцарец из Санкт-Галлена, окормлялась в голландском приходе. Чету Эйлеров венчал гугенотский пастор Робер Дюнан, сделавший такую запись в регистрационной книге: «Сегодня, 27 декабря 1733 г., я, нижеподписавшийся ординарный пастор французской реформатской церкви в Санкт-Петербурге, благословил вступление в брак господина Леонарда Эйлера, профессора высшей математики императорской академии наук, рожденного в Базеле господином Полем Эйлером, пастором в церкви Рихена Базельского кантона, и госпожой Маргаритой Брукер, с девицей Катериной Гзелль, родившейся в Амстердаме от Георга Гзелля, живописца на службе Ее Величества Императрицы Российской, и покойной госпожи Марии Гертруды фон Лоен. Я благословил вышеупомянутый брак в Санкт-Петербурге. Присутствовал вышереченный господин Георг Гзелль, отец невесты. Свидетелями выступили господин и госпожа Шумахер, господин Фокеродт, секретарь прусского королевского посольства, и господин Гаспари (Gaspary), депутат города Риги» (ЦГИА СПб. Ф. 444. Оп. 2. Д. 1. Л. 50). Из этой записи следует, что Эйлер, который неоднократно вместе с другими учеными протестовал против внедряемых Иоганном Даниелем Шумахером бюрократических принципов в управление Академией наук, находился в приятельских отношениях с ним самим и с его женой Анной Доротеей. Впоследствии это позволило великому математику нивелировать затянувшийся конфликт с заведующим академической канцелярией и «восстановить совершенную дружбу» [Пекарский, 1870, с. 258].
Л. Эйлер, без сомнений, женился по зову сердца, о чем на его свадьбе друзья распевали шуточное немецкое стихотворение, сочиненное предположительно «профессором пиитики» Готтлобом Фридрихом Юнкером [ Пекарский , 1870, с. 252–253; Мументалер , 2009, с. 66]. В нем были такие слова: «Кто бы мог подумать, что наш Эйлер будет любить? Ведь он днем и ночью пел лишь о том, как ему хочется умножать цифры. Его глубокий ученый ум был свободен от страсти, а теперь он обнимает девушку за талию и целует. Скорее можно поверить, что дважды два не четыре» (перевод – наш) [ Пекарский , 1870, с. 253]. В этом браке у Эйлера родились 13 детей, из которых 8 умерли в детстве [Там же, с. 302]. Пятеро детей появились на свет в Петербурге: 16 ноября 1734 г. (даты даны по старому стилю) – сын Иоганн Альбрехт (ЦГИА СПб. Ф. 444. Оп. 2. Д. 1. Л. 11 об.); 28 мая 1736 г. – дочь Анна Маргарита (Там же. Л. 13 об.); 21 апреля 1737 г. – дочь Мария Гертруда (Там же. Л. 14 об.); 24 октября 1738 г. – дочь Анна Элизабет (Там же. Л. 16); 4 июля 1740 г. – сын Карл (Там же. Л. 17 об.). Иоганн Альбрехт в дальнейшем стал известным российским физиком и математиком и скончался 6 сентября 1800 г. в родном Петербурге [ Muralt , 1842, S. 56] (Erik Amburger Datenbank, № 52152). Анна Маргарита умерла 21 июля 1736 г., не достигнув двухмесячного возраста (ЦГИА СПб. Ф. 444. Оп. 2. Д. 1. Л. 70 об.). О Марии Гертруде ничего не известно. Анна Элизабет скончалась 21 апреля 1739 г. полугодовалой крошкой (Там же. Л. 72). Карл (Иоганн Карл) стал доктором медицины и придворным врачом и умер в Петербурге 24 февраля 1790 г., чуть-чуть не дожив до своего пятидесятилетия (Erik Amburger Datenbank, № 61292). Остальные дети в семье Эйлер родились в Берлине, из них известны: Иоганн Христофор (01.05.1743 – 20.02.1808), артиллерийский офицер на русской службе [ Пекарский , 1870, с. 302] (Erik Amburger Datenbank, № 92140); Катарина Елена (26.11.1741 – 23.04.1782), вышедшая в Петербурге замуж за майора Карла Йозефа Белла, служившего в Пруссии, а затем в России [Там же, с. 302] (Erik Amburger Datenbank, № 8964); Шарлотта (крещена в Берлине 27.07.1744, умерла 13.02.1780), выданная в Петербурге замуж за немца Иоганна Якоба фон Делена, барона фон Гросскюнкель (Erik Amburger Datenbank, № 13697).
До сих пор исследователи не обращали внимания на отношения Л. Эйлера с кумовьями. Между тем анализ духовно-родственных связей, зафиксированных в записях о крещениях детей математика, показывает нам круг очень близких к нему людей. О том, что Л. Эйлер придавал значение крестному родству, свидетельствует его письмо к историку Г. Ф. Миллеру, в котором он рассказал об удовольствии, доставленном ему однажды в Берлине визитом «молодого Фишера» – сына академика Иоганна Эберхарда: радость от посещения усугублялась тем, что жена Эйлера когда-то крестила этого юношу (то есть была его крестной матерью) [ Пекарский , 1870, с. 279].
Обряд крещения всех детей Эйлера, родившихся в Петербурге, произвел пастор Р. Дюнан. Иоганн Альбрехт был крещен 28 ноября 1734 г. (ЦГИА СПб. Ф. 444. Оп. 2. Д. 1. Л. 11 об.), его родителями во Христе стали президент академии наук Иоганн Альбрехт фон Корф (давший ребенку крестильное имя), швейцарский негоциант Иоганн Штелин – земляк и приятель деда ребенка, Георга Гзелля (Записки Якоба Штелина…, 1990, т. 2, с. 11), и упомянутая супруга И. Д. Шумахера Анна Доротея (урожденная Фельтен, дочь петровского обер-кухмистера). Свидетелями обряда выступили родственники и друзья четы Эйлер – Анна Иоганна Вермёлен, дочь Георга Гзелля, к тому времени овдовевшая, но еще не старая женщина; профессор ботаники и натуральной истории академии наук Иоганн Амман, вскоре женившийся на Анне Доротее Шумахер (дочери библиотекаря и внучке обер-кухмистера Фельтена); академик Георг Вольфганг Крафт, тоже через несколько лет женившийся на представительнице клана Фельтен – Екатерине, старшей сестре будущего архитектора Юрия Матвеевича (Георга Фридриха) Фельтена.
Духовными родителями Анны Маргариты Эйлер, крещенной 6 июня 1736 г., выступили: художник-медальер из Швица Иоганн Карл Хедлингер4, доктор Иоганн Амман, супруга историка Готлиба Зигфрида Байера Анна Доротея (урожденная Болнер)5, вдова Вермёлен и некая мадемуазель Брукнер6 (ЦГИА СПб. Ф. 444. Оп. 2. Д. 1. Л. 13 об.). Мария Гертруда Эйлер была крещена 27 апреля 1737 г., ее восприемниками регистрационная книга называет профессора физики и математики Г. В. Крафта, некую мадам Кольман (урожденную Шмидт) и вдову Вер-мёлен (урожденную Гзелль) (Там же. Л. 14 об.). Свидетелями обряда в тот день стали господин Кольман и упомянутый академик Амман. Таинство крещения над Анной Элизабет Эйлер было произведено 2 ноября 1738 г. Ее крестным отцом стал Иоганн Даниель Шумахер, а крестной матерью выступила дочь Б. К. Миниха Христина Елизавета фон Менгден в присутствии свидетелей – живописца Гзелля и его дочери, все той же вдовы Вермёлен (Там же. Л. 16). Много восприемников было у Карла Эйлера, крещенного 11 июля 1740 г., – новоиспеченный президент Академии наук Карл фон Бреверн, полковник Шарль де Бодан7, надворный советник Гот-тлоб Фридрих Вильгельм Юнкер (предполагаемый автор стихов на свадьбу Эйлера), советница Генингер (Heninguer, урожденная Фельтен) и жена профессора Г. В. Крафта Екатерина (тоже урожденная Фельтен) (ЦГИА СПб. Ф. 444. Оп. 2. Д. 1. Л. 17 об.). Крещение Карла проходило в присутствии советника И. Д. Шумахера, Г. В. Крафта и Г. Гзелля, дедушки новорожденного.
Очевидно, что Эйлеры были особенно близки с Шумахерами, своими кумовьями, и их родственниками Фельтенами, а из собратьев по Академии наук в ближний круг общения Л. Эйлера входили ботаник Амман, математик Крафт, историк Байер, профессор элоквенции Юнкер. В жизни семьи Эйлер деятельное участие принимала свояченица ученого Анна Иоганна Вермёлен – наряду с другой его свояченицей, Елизаветой Паулиной Гзелль, имя которой давно известно историкам [ Пекарский , 1870, с. 258]. Любопытно, что самого Л. Эйлера не приглашали быть восприемником. В течение первых шести лет петербургской жизни он ни разу не был упомянут в протестантских церковных книгах – его имя впервые встречается в связи с женитьбой в 1733 г. [ Muralt , 1842, S. 28]. Нам известен лишь один случай присутствия Эйлера на крестинах, произошедший незадолго до его отъезда из России, 8 апреля 1741 г. В этот весенний день он был приглашен в голландскую общину в качестве свидетеля крещения Доротеи Христианы Шарлотты Винсгейм, дочери экстраординарного профессора астрономии и математики Христиана Николауса. Вместе с Л. Эйлером тогда же в кирке присутствовали Анна Доротея Шумахер, Катарина София Вейтбрехт, жена академика по кафедре физиологии Иосии (Юстаса) Вейтбрехта, и академический профессор математики Христиан Гольдбах, в переписке с которым родилась знаменитая проблема Гольдбаха-Эйлера (ЦГИА СПб. Ф. 40. Оп. 1. Д. 1. Л. 47 об.). Вейтбрехт (прихожанин Петрикирхе) ( Büsching , 1766, S. 97) и Гольдбах были лютеранами, но общались с кальвинистами. Редкое участие Л. Эйлера в крестинах может говорить о том, что он все же мало интересовался религиозной жизнью петербургских протестантов, по крайней мере во время своего первого пребывания в городе на Неве. Потому что в крестные отцы обычно старались звать набожных прихожан, способных осуществлять духовное попечение о своих крестниках. Например, тесть Эйлера Георг Гзелль минимум восемь раз становился восприемником младенцев, среди которых значатся не только его собственные внуки Вермёле-ны и Кайзеры (ЦГИА СПб. Ф. 40. Оп. 1. Д. 1. Л. 34 об., 36 об., 39, 40, 43 об.), но и дети других кальвинистов голландской церкви – Вильгельма Купи, Самуеля Смита, Иоганна Якоба Лапгар-та (Там же. Л. 41, 44, 45 об.).
Четверть века берлинской жизни Л. Эйлера (в столице Пруссии он работал с 1741 по 1766 г.) способствовала изменению его национальной и культурной самоидентификации. Математик явно стал отождествлять себя с немцами и немецкой культурой. Об этом свидетельствуют документы протестантских общин Петербурга, куда Эйлер возвратился 17 июля 1766 г. Французско-немецкая реформатская община города на Неве оставалась объединенной до 1773 г., хотя сложности во взаимоотношениях французов и немцев наблюдались задолго до их формального церковного разделения [ Алакшин , 2006, с. 155, 157]. В 1773 г., после смерти пастора Жана-Филиппа Лавиня, когда встал вопрос о новом проповеднике, немецкая и французская группы верующих избрали каждая своего пастора. Временно исполняющим обязанности проповедника немецких реформатов (замещающим вакантную должность) стал поляк Самуель Людвиг Маевски, кандидатуру которого французы решительно отвергли [ Dalton , 1865, S. 63; Алакшин , 2006, с. 157]. Одной из первых публичных акций этого пастора, демонстрирующих независимость немецкой части церкви, стала проповедь Маевского на погребении жены математика Екатерины. Екатерина Эйлер умерла 10 ноября 1773 г. (Erik Amburger Datenbank, № 52153) и была погребена на четвертый день Маевским, который при этом не только произнес напыщенную проповедь, но и опубликовал ее под названием «Памятная речь в честь высокорожденной госпожи Катарины Эйлер, урожденной Гзелль, супруги выдающегося и высокоученого господина Леонарда Эйлера, здешней Императорской академии наук и других академий члена, бывшего директора Прусской королевской академии наук, произнесенная 14 ноября 1773 г. на ее похоронах» ( Majewski , 1773). Без согласия Л. Эйлера проповедь не могла быть напечатанной, а это значит, что в ожесточенных церковных спорах математик находился на стороне немцев. Запись о смерти жены Эйлера была зарегистрирована в отдельной книге немецкой общины. Французские же метрические книги больше не упоминают о Леонарде. Все последующие события, связанные с Л. Эйлером, – его повторная женитьба и собственная кончина – фиксировались пастором немецких реформатов.
После смерти жены Екатерины связи Л. Эйлера с семейством Гзелль еще более упрочились: второй супругой академика стала единокровная сестра его первой жены, Саломея Аби-гель Гзелль. 28 июля 1776 г. их повенчал в Петербурге пастор немецкой реформатской общины Абрахам Шмидт (Erik Amburger Datenbank, № 52153). Саломея Абигель родилась 6 июля 1723 г. от третьего брака живописца Георга Гзелля с художницей Марией Доротеей, урожденной Граф (ЦГИА СПб. Ф. 40. Оп. 1. Д. 1. Л. 36 об.). С новой женой великий математик прожил недолго, так как имел серьезные проблемы со здоровьем. Л. Эйлер скончался от инсульта, о чем любопытные подробности оставил пастор Шмидт, отметивший в своей проповеди: «7 сентября 1783 г. умер член Императорской академии наук и других известных академий, а также первый старейшина немецкой реформатской общины. Смерти не предшествовала болезнь, не считая головокружения, которое случилось за 4 дня до его кончины, но от которого он оправился в тот же день. Однако <в день кончины> произошел инсульт, и через 7 часов он полностью потерял сознание. И, невзирая на то, что этот достойный всякого почитания старец покинул мир в возрасте 76 лет, 5 месяцев и 3 дней, каждый заботящийся о процветании науки и распространении добродетели, должен сожалеть о столь ранней для них обеих утрате. Память о его великих заслугах перед нашей общиной, которой он преданно служил с 1773 г., навсегда останется благословенной» [ Muralt , 1842, S. 48–49]. Свидетельство Шмидта очень важно, потому что в нем фиксируется официальный статус Эйлера в немецкой общине (старейшина, член церковного совета) и время начала его попечительской деятельности – 1773 год, когда произошла церковная автономизация немцев. Впрочем, есть сведения, что главой общины Л. Эйлер был избран в 1774 г. [ Мументалер , 2009, с. 213].
Л. Эйлер похоронен на Смоленском инославном («лютеранском») кладбище. Саломея Абигель пережила мужа всего на десять лет, оставаясь прихожанкой немецкой общины. Однако далеко не все дети и внуки Л. Эйлера избрали для духовного окормления именно этот приход. Только Иоганн Альбрехт Эйлер оставался преданным немецким кальвинистам: он был очень религиозным человеком, входил в консисторию общины и занимался приглашением пасторов, проявляя нетерпение к французам и их требованиям во внутрицерковном конфликте
[Там же, с. 213–215]. Он умер 6 сентября 1800 г., и пастор Иоганн Коллинс, женатый на дочери Иоганна Альбрехта Анне Шарлотте [ Алакшин , 2023, с. 76–77], оставил в своем надгробном слове массу сведений об обстоятельствах его кончины, заслугах перед церковью, о его детях и иных родственниках [ Muralt , 1842, S. 49–50; Мументалер , 2009, с. 202–208]. До брака с пастором Коллинсом Анна Шарлотта Эйлер была прихожанкой голландской реформатской церкви; сохранилась запись о ее исповеди 29 марта 1789 г. (ЦГИА СПб. Ф. 40. Оп. 1. Д. 1. Л. 7). В этот же день вместе с ней исповедались ее двоюродная сестра Наталия Эйлер, дочь доктора медицины Карла Эйлера, а также еще одна особа по фамилии Эйлер, чье имя не указано (Там же. Л. 7). Все они официально были вписаны в лист прихожан голландской церкви. В марте 1769 г. Карл Эйлер состоял во французско-немецкой общине, так как его сын Шарль был похоронен ее пастором (ЦГИА СПб. Ф. 444. Оп. 2. Д. 1. Л. 77 об.).
Истории семей Дювернуа, Эйлера и других ученых ясно показывают, что академическая среда являлась для них не только сферой профессионального общения, но и областью матримониальных отношений, где они или их родные обретали семейные узы. Уже было сказано о том, что дочь Ж. Ж. Дювернуа сочеталась браком с академиком Штрубе де Пирмонтом. В этой связи упомянем, что тесть Л. Эйлера Георг Гзелль был не просто живописцем, а именно «академическим живописцем», официально состоявшим в штате Петербургской академии наук. Он занимался художественным оформлением научных изданий, фиксировал в графике экспонаты Кунсткамеры и преподавал в Гравировальной палате (Записки Якоба Штелина…, 1990, т. 1, с. 45, 48). Благодаря академии устроился и брак проректора академической гимназии, будущего профессора истории и археологии Иоганна Эберхарда Фишера, чьей кумой, как мы уже знаем, стала первая жена Л. Эйлера Екатерина. И.Э. Фишер, лютеранин общины Васильевского острова, 30 декабря 1731 г. обвенчался с дочерью учителя академической гимназии Иоганна Стикса (Штюкса) Катариной Маргаритой (ЦГИА СПб. Ф. 1010. Оп. 1. Д. 242. Л. 121 об.). Ее отец, судя по всему, преподавал в гимназии немецкий язык (в церковной книге он отмечен как сотрудник немецкого класса – Collaborator bey der Deutschen Classe).
Социальная коммуникация других протестантов Петербургской академии наук
Церковные документы отражают плотную ткань истории, тесно связывая между собой разных людей: Л. Эйлера, И. Д. Шумахера, И. Аммана, Х. Н. Винсгейма, Г. Ф. Юнкера, Я. Штелина и др. Типичный представитель этой среды – академический поэт Юнкер, вращавшийся среди ученых разных специальностей и близкий к представителям «творческой интеллигенции» – художникам Г. Гзеллю и К. Оснеру (ЦГИА СПб. Ф. 40. Оп. 1. Д. 1. Л. 44). Юнкер был лютеранином из общины Св. Петра, церковная книга которой сообщает о нем следующее: «Он родился в Альтенбурге в Тюрингии 20 июня (1 июля) 1705 г. и умер 10 ноября 1746 г. вечером в 11 часов на 42 году жизни, а похоронен 14-го» ( Büsching , 1766, S. 96–97). Впрочем, пастор А. Ф. Бюшинг, опубликовавший эту запись, полагал, что Юнкер мог родиться в 1702 г. в Шлейзингене. Его отец, Кристиан Юнкер, был известным школьным деятелем, возглавлявшим гимназию в Альтенбурге. Академик Г. Ф. Юнкер принимал участие в жизни Петрикирхе: он написал стихи, положенные на музыку и звучавшие при открытии в этой церкви органа (Ibid., S. 97).
Уроженец Кольмара немец И. Д. Шумахер исповедовал лютеранство, однако есть мнение, что он идентифицировал себя с французской культурой [Иностранные специалисты…, 2019, с. 615]. Среди его духовных родственников немало лютеран и кальвинистов, в том числе гравер академии наук Оттомар Эллигер и семья его жены Штарк, дочь Г. Гзелля Анна Иоганна Вермёлен, профессор элоквенции Я. Штелин, полковница Вирсавия фон Теттау (ЦГИА СПб. Ф. 40. Оп. 1. Д. 1. Л. 44, 47). В 1718 г. в католической общине Петербурга он воспринял по святом крещении незаконнорожденного и потому бесфамильного младенца Иоанна (ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 31. Л. 8 об.). Широкий круг духовных родственников находим и у его жены Анны Доротеи, которая стала крестной матерью для дочерей мастера типографических шрифтов Вильгельма Купи (1729) и профессора астрономии Христиана Николауса Винсгейма (1741). Среди ее кумовьев – Георг Гзелль (который минимум дважды породнился с нею), профессор Г. Ф. Юнкер, художник и резчик католического исповедания Ганс Конрад Оснер, академик
Христиан Гольдбах (ЦГИА СПб. Ф. 40. Оп. 1. Д. 1. Л. 41, 44, 47 об.). Напомним, что ботаник Иоганн Амман, верующий французско-немецкой реформатской общины, с 1739 г. приходился советнику Иоганну Даниелю Шумахеру и его жене зятем. Через архитектора Иоганна Якоба Шумахера, брата академического советника, семья Шумахеров находилась также в родстве с Остервальдами: 17 августа 1738 г. в лютеранской церкви Васильевского острова состоялось венчание И. Я. Шумахера с Фридерикой Еленой Остервальд, дочерью коллежского секретаря Иоганна Остервальда (ЦГИА СПб. Ф. 1010. Оп. 1. Д. 242. Л. 134 об.). И. Я. Шумахер с 1740 г. входил в церковный совет Анненкирхе на правах старшины ( Büsching , 1766, S. 315). На этом основании осторожно предположил, что и сам заведующий академической библиотекой, его брат, был членом лютеранской общины Св. Анны.
Естественно, наличие общих знакомых и друзей вовсе не исключало конфликтов и противостояний, возникавших между учеными в силу их личных интересов и убеждений. Например, с фрисландцем Вильгельмом Купи и родными его жены Анны Поттер, помимо Шумахеров, приятельством был связан академик по кафедре правоведения Иоганн Симон Бекенштейн – скорее всего, кальвинист по вероисповеданию (ЦГИА СПб. Ф. 40. Оп. 1. Д. 1. Л. 41 об.). Однако Бе-кенштейн, очень честный и прямой человек, а главное независимый в своих мнениях, не мог терпеть Шумахера и не признавал его за ученого [ Пекарский , 1870, с. 198].
Математик и астроном Х. Н. Винсгейм (Винцгейм), наоборот, пользовался дружбой И. Д. Шумахера, и именно ему был обязан своей карьерой в Петербургской академии наук [Там же, с. 474]. О Винсгейме и его семье исследователям до сих пор было мало что известно. Родом из Пруссии (шведской Померании), Винсгейм, однако, исповедовал не лютеранство, а кальвинизм, состоя в голландском приходе. Он прибыл в Петербург не позднее 1718 г. и до 40 лет оставался холостым. 6 октября 1734 г. он вступил в брак с девицей Анной Марией Инкен, прихожанкой той же общины (ЦГИА СПб. Ф. 40. Оп. 1. Д. 1. Л. 71). Инкен приехала из Москвы в 1732 г. (Там же. Л. 13). В этом браке родились минимум четыре ребенка (все девочки): Мария Элизабет (крещена 25 августа 1735 г.) (Там же. Л. 44), Анна Христина (крещена 10 июля 1737 г.) (Там же. Л. 45 об.), Иоганна София (крещена 11 октября 1738 г.) (Там же. Л. 46) и Доротея Христиана Шарлотта (родилась 30 марта 1741 г., крещена 8 апреля) (Там же. Л. 47 об.). В мае 1741 г. семью постигло горе. Из-за инфекционной болезни с разницей в пять дней скончались две девочки – Иоганна София (25 мая) и Анна Христина (30 мая). Круг близких друзей и духовных родственников Винсгейма, воспринимавших его дочерей, состоял из чиновников российской администрации – асессора Юстиц-коллегии Иоахима Хагемайстера, советника Берг-коллегии Винцента Райзера, обер-комиссара Раушерта, гоф-интенданта Антуана Кормедона (Там же. Л. 44, 45 об., 46, 47 об.). Через жену Винсгейм был в родстве с семейством английских предпринимателей-реформатов Милл (Милль). Сестра Анны Марии София Элизабет Инкен была замужем за Александром Миллем, и Анна Мария не раз становилась крестной для своих племянников и племянниц (Там же. Л. 43, 44, 45 об., 46, 47 об., 51). Благодаря Миллам Винсгеймы неплохо знали деловую элиту Петербурга, будучи знакомыми с советником Коммерц-коллегии Дитрихом Вил-лерсом, а также с прусским консулом и коммерц-ратом Ульрихом Кюном.
Лютеран среди ученых и преподавателей академии было не меньше, чем реформатов. Академик кафедры механики и оптики Иоганн Георг Лейтман, бывший пастор местечка Дабрюнн близ Виттенберга, посещал службы лютеранской церкви Васильевского острова (Büsching, 1767, S. 54). В июне 1731 г. он был упомянут при прокламации брака своего приятеля Иоганна Фридриха Розе, академического книгопечатника (ЦГИА СПб. Ф. 1010. Оп. 1. Д. 242. Л. 121). Профессор Лейтман умер 5 марта 1736 г., и 10 марта был погребен пастором Трефуртом на кладбище Васильевского острова (Там же. Л. 166). Прихожанином той же лютеранской церкви был филолог Мартин Шванвиц (Шванвич), преподаватель, а затем ректор академической гимназии, о котором столь мало сведений, что его упоминают исключительно как автора «Немецкой грамматики». Церковный архив сообщает о нем, что он овдовел и 11 ноября 1739 г. снова женился на Христине Доротее Войгт (Фойгт), дочери придворного садовника Иоганна Каспара (Там же. Л. 140). Почетный член Академии наук доктор медицины Иоганн Шрейбер относился к лютеранскому приходу Св. Петра (Büsching, 1766, S. 98). Упоминание о нем 30 ноября 1742 г. в книге крещений позволяет уточнить время его возвращения в Петербург из Москвы, где он трудился несколько лет с 1739 г. Он был женат на Анне Катарине, немке из Саксонии, и приходился кумом обер-хирургу Главного госпиталя Христиану Давиду Зальцеру, чью дочь Анну Элизабет воспринял при крещении 25 августа 1743 г. (ЦГИА СПб. Ф. 1896. Оп. 1. Д. 1. Л. 41 об., 56 об.–57).
Ограниченный объем статьи не дает возможности рассказать обо всех профессорах академии, чьи биографии нашли отражение в церковных книгах. В реформатских и лютеранских документах имеется немало сведений об «отце российского искусствознания» Якобе Штелине (ЦГИА СПб. Ф. 40. Оп. 1. Д. 1. Л. 45‒47; ЦГИА СПб. Ф. 444. Оп. 2. Д. 1. Л. 9 об.). Бумаги ан-гликан и французских протестантов освещают малоизвестный петербургский период жизни лингвиста Гийома-Анри де Лави, преподававшего французский язык в академической гимназии (РГИА. Ф. 1689. Оп. 1. Д. 1. Л. 24–24 об.; ЦГИА СПб. Ф. 444. Оп. 2. Д. 1. Л. 10, 12 об., 15 об., 16 об.). Эти же документы уточняют обстоятельства смерти и место погребения математика Николая Бернулли (ЦГИА СПб. Ф. 444. Оп. 2. Д. 1. Л. 63 об.). Метрики англиканской конгрегации хранят в себе историю семьи географа и картографа Джона Трускотта (РГИА. Ф. 1689. Оп. 1. Д. 1. Л. 20, 21, 23 об., 29). Источники петербургской католической церкви раскрывают подробности пребывания в России великого астронома Жозефа Николя Делиля, единственного католика среди первых академиков Петербурга (ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 31. Л. 46, 62). Архивы Петрикирхе и Катариненкирхе включают в себя материалы к биографии малоизвестных академиков – астронома и математика Августина Натаниеля Гришова (Гришау) и профессора «римских древностей и красноречия» Иоганна Георга Лоттера ( Büsching , 1766, S. 98; Büsching , 1767, S. 54). Помимо собственно ученых, церковные книги содержат информацию о многих десятках сотрудников академии наук разного профиля, среди которых – переплетчики Иоганн Каспар Криппендорф, Иоганн Андреас Браунс, Карл Генрих Больман, Фридрих Готфрид Паули8; книгопечатники Георг Давид Ланге, Иоганн Фридрих Розе и др.; граверы и печатники гравюр Иоганн Штенглин, Георг Иоганн Унтерцагт, Иоганн Георг Штробель, Иоганн Готфрид Кёлер; столяры Миллер, Иоганн Николаус Фриче; секретари и актуариусы Кристоф Мёдер, Якоб Генрих Гофман; сотрудники академической гимназии Кристиан Герман и проч.; кустод-типограф Кристиан Шварц; содержатель академического книжного магазина Зигмунд Прейсер; часовщик Бар-толомеус Негер; надзиратель при академических постройках Эрих Иоганн Шмидт; переводчик Михаель Андреас Гренике; помощник хирурга при академии Пьер Балло и др.
Заключение
Таким образом, документы церковных архивов представляют собой высокоинформативный исторический источник, незаменимый в ходе структурно-функционального анализа любых социумов. Произведенная на его основе реконструкция социальных и духовно-родственных отношений с участием иноземных ученых Петербургской академии наук показала, что последние имели тесные конфессиональные и родственные связи между собой. В случае с Дювернуа, Эйлерами, Шумахерами и иными лицами, чьи биографии затронуты в статье, эти связи исключали родство или кумовство с русскими православными жителями столицы. Участие русских людей в церковных обрядах петербургских протестантов и католиков в эпоху Петра Великого стало обыденным явлением, но в кругу академиков и профессоров не наблюдалось. Иноземные профессора объединялись в родственные и духовно-родственные кланы, которые существовали в обособленном от «русской действительности» мире взаимосвязанных протестантских общин. В XVIII столетии церковные приходы обеспечивали иностранным ученым необходимую социализацию и коммуникацию, становились местом встреч и тем самым формировали среду приватного общения. В то же время очевидно, что работники Академии наук составляли особый круг петербургских протестантов, в котором служебное взаимодействие играло едва ли не решающую роль в создании семейных союзов и, безусловно, содействовало кумовству. Крестное родство семей (кумовство их членов) могло опосредованно влиять на жизнь Академии наук, что хорошо видно на примере жизни Эйлера и Шумахера, сохранивших деловые и дружеские отношения, несмотря на их взаимные разногласия во время протеста ученых против «шумахерщины».