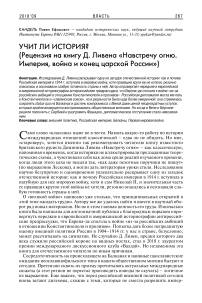Учит ли история? (Рецензия на книгу Д. Ливена "Навстречу огню. Империя, война и конец царской России")
Бесплатный доступ
Исследование Д. Ливена раскрывает одну из загадок отечественной истории: как и почему Российская империя в 1914 г. вступила в мировую войну, хотя правящие круги ее не хотели, резонно опасались и осознавали слабую готовность страны к ней. Автор опровергает нередкие в европейской и американской историографии антироссийские предрассудки, что Европа-де сползла к войне «из-за российских амбиций в отношении Константинополя и проливов». Российская дипломатия могла мечтать о Константинополе и «славянском союзе», но в реальности была куда более умеренной: она стремилась сохранять status quo на Балканах и достичь компромисса с Веной ценой неоднократных уступок, которые крайне возмущенно воспринимались общественным мнением. Но когда в Вене и Берлине решили покончить с Сербией и разгромить Францию, дипломатическое отступление стало невозможным.
Внешняя политика, российская империя, балканы, первая мировая война
Короткий адрес: https://sciup.org/170170837
IDR: 170170837 | DOI: 10.31171/vlast.v26i9.6191
Текст научной статьи Учит ли история? (Рецензия на книгу Д. Ливена "Навстречу огню. Империя, война и конец царской России")
Сосредоточенность на происходящем на Балканах и наивные панславистские ожидания неославянофильского типа в нашем общественном мнении бытуют и сегодня. Претензии сквозь их призму прочитывать актуальные международные сюжеты (а этот регион не перестал производить поводы не скучать) – логичное их выражение. Еще важнее, что перед российской внешней политикой сегодня вновь встают дилеммы, схожие с теми, которые не смогла разрешить импер- ская Россия. Да и параллели между ситуацией на мировой сцене 1914 и 2014 гг. непроизвольно возникают вовсе не в связи с юбилеем: кризис сложившегося миропорядка тогда и теперь закономерно обнаруживает сходство сущностных характеристик.
Интересен методологический подход автора, предполагающий 3 уровня анализа. «Взгляд с божественной высоты» (термин Д. Ливена) позволяет увидеть долгосрочные, структурные факторы: «глобализацию и геополитику, европейский баланс сил, доминирующие идеи и ценности эпохи». «Взгляд с горизонта червя» дает возможность пристально проследить по дням и часам, какие решения, которые привели к катастрофе, принимали примерно 50 человек в нескольких столицах в две предвоенные недели. И наконец, «промежуточный уровень», сводящий два разных взгляда, который связывает лежавшие в основе решений логические посылки и ценности с глобальными и российскими идеологическими и культурными течениями.
При подобном стереоскопическом зрении становится видно многое… Сравнительные преимущества и изъяны соперничавших империй и их коалиций, господствующие умонастроения их элит и общественности, восприятие ими действительных угроз и их надуманные, но вполне реальные «страхи». Драматические по своим последствиям изменения в существовавшем и проецируемом в будущее балансе сил. Характеры трех императоров, их взаимоотношения с главами правительств и дипломатических ведомств, роль личностей и институтов в принятии решений. Непростые отношения руководителей российского МИДа и послов в важнейших столицах, военных министров и начальников Генерального штаба, соперничество армейских и флотских руководителей, влияние «лидеров общественного мнения» на отечественную дипломатию. Все это делает убедительным анализ реализованных и альтернативных концепций внешней и оборонной политики России, ожидаемого Санкт-Петербургом и действительного поведения балканских «подопечных», претензий и возможностей Российской империи, ее стратегических целей и конкретной внешнеполитической практики в следовавших один за другим в предвоенные годы международных кризисах. Таков далеко не полный перечень тем, обстоятельно и всесторонне освещенных в книге.
История всегда богаче планов и схем. И Д. Ливену удалось отразить ее разнообразие максимально полно. Если же попытаться изложить основные положения его исследования по необходимости лаконично, вынужденно жертвуя интереснейшими деталями, вырисовывается следующая картина. Российская империя не выделялась среди себе подобных в «веке империй» ни по своему целеполаганию и методам действий, ни по ментальности элиты и общественным умонастроениям. Желание контролировать черноморские проливы понятно, учитывая контроль Британии над Суэцким каналом, а США – над Панамским. «Панславизм был ‹…› российским эквивалентом идеям, на которых базировались германская и англо-американская солидарность» [Ливен 2017: 423]. Но, претендуя на унаследованную роль равной другим великой державы, она по своим реальным возможностям в силу отставания в социально-экономическом и общественно-политическом развитии к началу ХХ в. скатилась в разряд государств «второго мира» (вроде Испании и Италии), уступая и им по ряду значимых параметров. Поражение в Русско-японской войне и революция 1905 г. обнажили ее слабости.
Вместе с тем бурный экономический рост 1910-х гг. и затеянное перевооружение армии и флота делали ее в глазах соперников недосягаемым по силе конкурентом в недалеком будущем. Это провоцировало Германию и Австро-
Венгрию на то, чтобы воспользоваться своим военным превосходством прежде, чем военная победа над Россией окажется невозможной.
Контроль над черноморскими проливами и покровительство славянским единоверцам на Балканах оставались стратегической целью России и главной причиной противостояния с австро-германским блоком. Его нараставшая экономическая и военно-политическая экспансия в регион, которой России трудно было противопоставить нечто равноценное, постоянно ставила перед отечественной дипломатией тяжкие дилеммы. Пресса же и думские политические партии были гораздо радикальней и воинственней правящих кругов, упрекая их за слабодушие и попустительство врагу «славянского дела». Как метко заметил Д. Ливен, «миф о неизбежном столкновении между славянами и тевтонами… был чепухой – но чепухой опасной и очень мощной по своему влиянию», сыгравшей ключевую роль в подталкивании всех международных отношений к войне [Ливен 2017: 24). На многих страницах книги убедительно показано, что подобный миф в Берлине был не менее распространен, чем в Санкт-Петербурге, а в Вене «славянская угроза» воспринималась как вызов самому существованию империи Габсбургов.
Сравнительная слабость России имела вполне конкретное военное измерение: это катастрофическая нехватка подготовленных унтер-офицерских кадров, неразвитость железнодорожных сетей, сильно лимитировавшая мобилизационные возможности армии, отставание в артиллерии и связи, недостача промышленных мощностей по производству вооружений и боеприпасов, флот, только начавший возрождаться после потерь в Русско-японской войне. Характерно, что неоднократно возникавшие по разным поводам «прожекты» десанта на Босфор были обречены по банальной причине – из-за отсутствия достаточного числа транспортных судов для подобной операции.
Вполне осознавая необходимость выиграть время для проведения социальноэкономических преобразований и хотя бы завершения лишь начатого в 1913– 1914 гг. перевооружения армии, и монарх, и его окружение были настроены вполне миролюбиво. Российская дипломатия могла мечтать о Константинополе и «славянском союзе», но в реальности стремилась к нейтрализации проливов дипломатическими средствами, пыталась сколько можно сохранять status quo на Балканах и достичь компромисса с Веной даже ценой неоднократных уступок, которые крайне возмущенно воспринимались общественным мнением и бросали тень на и без того подорванную легитимность режима.
Опасной иллюзией оказался и «славянский союз» под покровительством России. «Союзники», едва одолев ослабевшую Оттоманскую империю, тут же передрались, неохотно прислушиваясь к сдерживающим рекомендациям покровителя, но откровенно манипулируя им в собственных интересах. Наиболее прозорливые отечественные дипломаты предупреждали об этом заранее. России в очередной раз пришлось разыгрывать роль великой державы при явной нехватке средств для ее убедительного исполнения.
В конечном счете события вышли из-под контроля всех игроков. Сараевское убийство произошло без ведома сербских властей, крайне нуждавшихся в мирной паузе после двух балканских войн. Но следы тянулись в Белград, к руководителю сербской военной разведки Д. Димитриевичу. Вена, давно искавшая повод для уничтожения Сербии и искушаемая податливостью России, решила добиваться своего любой ценой и получила на это необходимую санкцию Берлина. Там тоже были готовы к самым крайним вариантам, но надеялись на невмешательство Лондона и очередную уступчивость Санкт-Петербурга. Николай II до последнего момента оттягивал роковое решение, искал взаимопонимания с Вильгельмом II и был готов к очередным компромиссам в отношениях с Веной, но пассивно наблюдать за ликвидацией Сербии или разгромом Франции он не мог ни по своим представлениям о должном и сущем, ни в контексте общественных ожиданий.
Д. Ливен свою книгу заканчивает сопоставлением ситуаций накануне Первой мировой войны и в первой четверти ХХI в.: «Война началась …прежде всего из-за изменений в раскладе сил между государствами и растущей националистической угрозы, характерной как для отдельных империй, так и для мирового устройства, базирующегося на империях. Июльская катастрофа 1914 г. во многом произошла из-за ошибок в расчетах и политики балансирования на грани войны… Эти факторы и сегодня представляют собой значительную угрозу миру». Глядя вокруг, трудно с ним не согласиться.
Досадно одно: то ли редактор и корректор, то ли издательство, выпуская замечательную книгу, явно «экономили силы». Отсюда такие «перлы», как «австрийский посол в Вене» или «черногорский король Никита» (которого в действительности звали Никола), и не поддающееся исчислению число опечаток.
Список литературы Учит ли история? (Рецензия на книгу Д. Ливена "Навстречу огню. Империя, война и конец царской России")
- Ливен Д. 2017. Навстречу огню. Империя, война и конец царской России. М.: Политическая энциклопедия. 431с