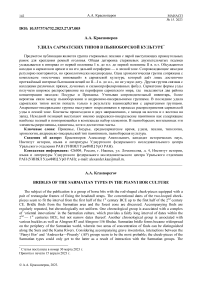Удила сарматских типов в пьяноборской культуре
Автор: Красноперов А.А.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: Археология
Статья в выпуске: 15, 2023 года.
Бесплатный доступ
Предметом публикации является группа стержневых псалиев с парой выступающих прямоугольных рамок для крепления ремней оголовья. Общая датировка стержневых двухпетельчатых псалиев укладывается в интервал от первой половины I в. до н.э. до первой половины II в. н.э. Обсуждаются находки в сарматском ареале и на его дальней периферии - в лесной зоне. Сопровождающие находки регулярно повторяются, но хронологически неоднородны. Одна хронологическая группа сопряжена с комплексом «восточных инноваций» в сарматской культуре, который даёт лишь достаточно протяжённый интервал бытования вещей во II-I в. до н.э., но не узкую дату. Другая группа связана с находками различных пряжек, лучковых и сильнопрофилированных фибул. Сарматские формы узды получили широкое распространение на периферии сарматского мира, где выделяются два района концентрации находок: Посурье и Прикамье. Учитывая сопроводительный инвентарь, более вероятны связи между пьяноборскими и андреевско-писеральскими группами. В последние удила сарматских типов могли попасть только в результате взаимодействия с сарматскими группами. Андреевско-писеральские группы выступают посредниками в процессе распространения сарматской узды в лесной зоне. Контакты происходили в двух направлениях, с запада на восток и с востока на запад. Исходной позицией выступают именно андреевско-писеральские памятники как содержащие наиболее полный и повторяющийся в комплексах набор элементов. В пьяноборских могильниках эти элементы разрозненны, единичны, хотя и достаточно часты.
Прикамье, посурье, среднесарматское время, удила, псалии, типология, хронология, андреевско-писеральский тип памятников, пьяноборская культура
Короткий адрес: https://sciup.org/14129207
IDR: 14129207 | DOI: 10.53737/6732.2023.27.87.005
Текст научной статьи Удила сарматских типов в пьяноборской культуре
Пьяноборская культура в Прикамье (основное среднее течение р. Камы, средние и нижние течения рр. Белой и Ика) хронологически соответствует второму этапу ранне-, средне-, и началу позднесарматского времени. Памятники многочисленны, в том числе и погребениями (порядка 3 тысяч), содержащими многочисленный и разнообразный инвентарь. В материалах культуры кроме местного присутствует выразительный «сарматский» комплекс, представленный бусами, фибулами, предметами вооружения и конской сбруи. При этом можно отметить, что удила для ранних памятников не характерны (Красноперов, Камалеев 2023), и представлены (условно) «местными» типами. А в какой-то момент наблюдается взрывной рост погребений с удилами, причем именно «сарматских типов»1.
Все они однотипны, состоят из соединенных между собой грызл, с загнутыми в кольцо концами. Конструкция таких удил принципиально не изменилась вплоть до настоящего времени. Сводный обзор типов уздечных принадлежностей сарматского времени, обобщающий предшествующие работы2, представлен А.В Симоненко (Симоненко 2010: 151—169). Типология псалий среднесарматского периода, имеющих в основе стержень, приведена в монографии А.А. Глухова (Глухов 2005). Позже к этому вопросу для погребальных памятников междуречья Дона и Дуная, включая территорию Крымского полуострова, обратилась А.В. Антипенко (Антипенко 2016). Памятники лесной зоны систематически изучались И.Р. Ахмедовым (Ахмедов 1995)3. Все авторы оперируют наиболее заметными отличительными признаками удил — формой псалиев, которые можно разделить на четыре ведущих типа: 1) крестовидные; 2) колесовидные; 3) кольцевидные; 4) стержневидные.
Предметом этой публикации является лишь группа стержневых псалиев с парой выступающих прямоугольных рамок для крепления ремней оголовья4. Отличия проявляются в форме окончаний.
Учитывая имеющиеся наработки, прежде всего А.А. Глухова (Глухов 2005: 22—23), и конкретные прикамские находки, типологию можно дополнить (рис. 1):
№ 15. 2023
-
• с одной центральной петлей (типы 5 Ант-1, -2, П-3А);
-
• с двумя выступами—петлями овальной или подпрямоугольной формы (Ант-3);
-
• стержень псалия равномерного диаметра;
-
• стержень псалия расширяется на концах 6 (Ант-3б (железные), Ант-5 (бронзовые), Гл-2/I, П-3Б);
-
• стержень псалия сужается (утоньшается) к концам (Ант-3а);
-
• с рамками разных форм на концах;
-
• стержень псалия с круглыми рамками («очковидные») (Ант-4, Гл-2/X, П-4Б);
-
• стержень псалия с рамкой сердцевидной формы 7 (Ант-4);
-
• стержень псалия с круглыми рамками с одним выступом (Ант-3в-1, Гл-2/III, -IV-1,2, -V-1, П-3В-1);
-
• стержень псалия с круглыми рамками с тремя выступами (Ант-3в-2, П-3В-2);
-
• стержень псалия с рамкой в виде тамгообразной фигуры (Ант-3в-3);
-
• стержень псалия в виде трезубца (ст. Воздвиженская: Гущина, Засецкая 1989: табл. V: 49);
-
• с сплошными плоскими фигурами на концах;
-
• стержень псалия с плоскими дисками 8 (Гл-2/VIII, -IX, Ахм-Б1а, П-4В);
-
• стержень псалия с плоскими дисками с выпуклостью в центре диска (Ант-4, П-4А);
-
• стержень псалия с расширением ромбической формы (Гл-2/V-2, -VII-1,2);
-
• стержень псалия с расширением треугольной формы (Гл-2/VI-1,2);
-
• стержень псалия с расширением секировидной формы 9 (Ант-6);
-
• стержень псалия с расширением трапециевидной (длинной треугольной) формы (Малая Копаня: Котигорошко 2009, рис. 31: 8, 10, 11);
-
• стержень псалия с расширением трапециевидной (длинной треугольной) формы с дополнительным выступом (Малая Копаня: Котигорошко 2009: рис. 31: 15—17);
-
• стержень псалия «листовидный» (Гл-2/II);
-
• стержень псалия плоский без расширения (Гл-1/1).
Практически любой из вариантов может иметь дополнительный декор, чаще всего в виде инкрустации проволокой, иногда рифлением, сквозными отверстиями, накладными бляшками.
Общая датировка стержневых двухпетельчатых псалиев укладывается в интервал от первой половины I в. до н.э. до первой половины II в. н.э. (Ахмедов 2003: 133—134). Их происхождение (наиболее ранние находки) убедительно связывается с восточными областями
МАИАСП № 15. 2023
Евразии, а распространение со всей серией «восточных инноваций» (включая мечи с ромбическими перекрестьями, ложечковидные наконечники), приведших к сложению среднесарматской культуры (Сергацков, Захаров 2006: 122; Клепиков, Кривошеев 2020: 187— 189). Начало процессу положено во II—I вв. до н.э., но широкое, повсеместное, распространение руководящие типы получают ближе к рубежу эр (Клепиков, Кривошеев 2020: 189), а «на северных рубежах на полстолетия позже» (Клепиков, Кривошеев 2020: 187).
Хронологически наиболее информативные погребения с стержневыми псалиями равной толщины (рис. 2) происходят из лесостепного и нижнего Подонья. В комплексах найдены лучковые фибулы с нижней тетивой (Кропотов 2010: 129—131), пряжки Малашев-П0 (Чертовицкий I, курган 6, погребение 11), «дугоконечные» пряжки (Чертовицкий I, курган 19, погребение 19) Раддац-С/МL-A-25/Труфанов-А второй трети — третьей четверти I в. н.э. (Труфанов 2004: 167), пряжки, близкие Малашев-П1, но железные, сильнопрофилированные (Кропотов 2010: 229—231) фибулы (Новоникольский, курган 29, Кобяково-07, погребение 86), зеркала—подвески (Кобяково-07, погребение 86) (Медведев 1990: рис. 12, 18, 33: 1—10; 2008, рис. 24, 28, 70: 1—10; Ларенок 2021, табл. 73—74). Эта форма преобладает среди прикамских находок.
Самый необычный вариант — в сборах А.В. Коновалова 1958 г. из д. Нагайбаково Бакалинского района (вероятно, разрушенный могильник) (НМРБ10, 5719). Самый конец стержня (сохранился один) имеет короткую поперечную планку, анфас образуя маленький крестик (рис. 2: З).
Стержневые псалии, расширяющиеся к концам, известны в комплексах с прорезными колокольчиками, ложечковидными наконечниками (Новый, курган 102, погребение 2: Ильюков, Власкин 1992, рис. 30: 10—20) (рис. 2: Г).
В Тарасово, погребение 1186 (Голдина 2003: табл. 473) найдены с бусами формы (Алексеева 1978: табл. 33: 39) и (Алексеева 1975: табл. 16: 86), а также с пряжками Малашев-П0. Особенно любопытен комплекс Юлдашево, погребение 16 (рассмотрен в отдельной публикации: Красноперов 2023), где псалии этой формы найдены в сочетании с сюльгамой андреевско-писеральского типа (Столяров 2021).
Датировка псалиев11 очковидной (короткий стержень и кольца большого диаметра — Лимберис, Марченко 2022: 148) формы (рис. 3) опирается на комплекс Никольское, курган 12 (Засецкая 1979), где найдена патера типа Е-155/»Миллинген» (Кропоткин 1970: № 776; Трейстер 2022: 32, рис. 7—9), пряжка среднесарматского полихромного стиля (Засецкая 2019: № 30, табл. XVI: а; Мордвинцева 2003: № 58), пряжка Малашев-П0, ложечковидный наконечник. Само погребение может широко датироваться второй половиной I — началом II в. н.э. (Лимберис, Марченко 2022: 144). В Запорожье, курган 2912 найдены пряжка Малашев-П0 и ножка бронзового сосуда (Simonenko 2008: taf. 135).
Самая северная находка удил с очковидными псалиями происходит из Андреевского кургана, из погребения 21 (Степанов 1980: табл. 6—7; Гришаков, Зубов 2009: рис. 22: 1), вместе с котлом (Демиденко 2008: тип III.1, № 26), а также с пряжками Малашев-П0.
Псалии с тамгообразными фигурами (рис. 4) всегда различаются в деталях. Наиболее разнообразный инвентарь происходит из ст. Воздвиженской (Гущина, Засецкая 1989: 96— 101, №№ 27—50, табл. III—VI; Marčenko, Limberis 2008: 416—418): фибула—брошь (Кропотов 2010: 290, № 46), пряжка среднесарматского полихромного стиля (Засецкая 2019: № 32, табл. XVI: в), фалары (Засецкая 2019: № 67, табл. XXVII: б), стеклянные (скифос/канфар III-а2: Засецкая, Марченко 1995: 94, 96, 100, № 15) и металлические сосуды, бронзовые котлы (Демиденко 2008: тип VI.1.А, рис. 86: № 32, тип IX.2.А, рис. 111: № 107). При публикации комплекс датирован рубежом эр (Гущина, Засецкая 1989: 88), но
МАИАСП № 15. 2023
практически все категории находок продолжали использоваться до середины I в. н.э. Остальные комплексы: Царский 1988, курган 64, погребение 1, с пряжками Малашев-П0 с заклепкой (Власкин 1990), Левадки, могила 86, по аналогиям, без датирующих находок (Мульд 2009: рис. 3; Мульд, Кропотов 2015: 127, рис. 7), Опушки, могила 156 (Храпунов, Шабанов 2021: 53, 58, рис. 6: 3, 7: 13, 17, 8: 1), относятся ко второй половине I — первой половине II в.
На четыре находки этого типа в сарматской зоне ранее была известна находка в лесной полосе на городище Долматово, в составе клада вещей андреевско-писеральского круга, датированного в целом I — началом II в. (Ахмедов 2003). Еще один экземпляр происходит их Тарасово, погребение 1296 (рис. 4: Д). На рисунке в публикации (Голдина 2003: табл. 502/1296: 5) удила показаны с кольчатыми псалиями, что не соответствует действительности. Непосредственно выступающих («тамгообразных») выступов нет или они не сохранилось, но ближайшее сходство они имеют с экземпляром из Опушки, могила 156 (Храпунов, Шабанов 2021: рис. 6: 313), — еще один эпизод в контактах Кама—Крым. Датировка погребения опирается на тип удил и пару железных пряжек Малашев-П0, и возможна только в широких пределах второй половины I — первой половины II в.
Псалии с дисковидными, плоскими и плоско-выпуклыми, в т.ч. инкрустированными окончаниями (рис. 5, 6), вероятно, одни из самых ранних в группе двухпетельчатых. Их прототип, но еще с 8-видным креплением, выявлен в мавзолее Янлин (141 г. до н.э.) императора Цзин-ди (Клепиков, Кривошеев 2020: рис. 4: 1), а собственно двухпетельчатые формы есть в могильнике Ильмова Падь в Забайкалье (Коновалов 2008: рис. 41, 43), Шаушукумском могильнике на Сыр-Дарье (Максимова и др. 1968: табл. XXII). К западу от Волги (Яшкуль: Очир-Горяева, Лапа 2002; Ochir-Goryaeva 2008; Очир-Горяева 2019: 30—33, рис. 4, 7) они появляются не позже I в. до н.э. (Глебов 2007; Клепиков, Кривошеев 2020: 188), или, по другой версии, даже в I в. н.э. (Очир-Горяева 2019: 32, 33, 37, 38). Находки из Дачи, курган 1 относятся ко второй половине I в. (Беспалый 1992; Беспалый, Лукьяшко 2018: 206— 220). Распространение этих вариантов связано с контекстом бытования горизонтальновытянутых прямоугольных (Новая Чигла, курган 26, погребение 2: Березуцкий 2021, рис. 87) и овальных (Вязовский, курган 37, погребение 1: Медведев 1990: рис. 45; 2008, рис. 74), 8-видных (Кобяково 2008, погребение 7: Ларенок 2016, табл. 94—95) железных пряжек первой половины I в. н.э. (Труфанов 2004: 164), одночастных наконечников—подвесок с треугольным окончанием Малашев-Н01, -Н1 (Старокорсунское-2, погребение 613з: Лимберис, Марченко 2012), римских бронзовых сосудов (кувшин «Стралджа»: Трейстер 2018, прим. 8 — № 8, рис. 8: 3, 4; ситечко Е-160), сильнопрофилированных фибул, пряжек Малашев-П0 с заклепкой и рифленых (Жутово, курган 28: Мордвинцева 1999: рис. 1—2), ложечковидных наконечников (Усть-Альма 1997, курганный могильник 3: Пуздровский 2007: рис. 104: II), пряжек: «укороченных дугоконечных» (Усть-Альма, склеп 850: Пуздровский, Труфанов 2017б: рис. 44—47) Костромичев-D2 (Костромичев 2015: 328—329, рис. 27), Малашев-П1, 8-видных, сбруи с гладкой14 плакировкой, лучковых фибул, амфор Шелов-С (Мавзолей Неаполя Скифского, могила А: Зайцев, Мордвинцева 2007).
Псалии этой формы найдены в Андреевский курган, погребения 16 и 48 (Степанов 1980: табл. 32: 10—13, 30; Гришаков, Зубов 2009: рис. 22: 7) и 50/51 (Степанов 1980: табл. 27—29, 39, 58; Гришаков, Зубов 2009: рис. 22: 3, 8), Писералы, курган 1, погребение 3 (Халиков 1962: табл. XXIV: 11) и курган 4, погребение Ц (Халиков 1962: табл. XXIV: 1215). Первый, третий и четвертый комплексы собственных датировок не имеют. Во втором найдены горизонтально-вытянутые прямоугольные пряжки и пряжки МL-А-14 (Madyda-Legutko 1986: 7, taf. 2), что указывает на датировку I в. н.э.
МАИАСП № 15. 2023
Среди пьяноборских могильников встречены в Камышлы-Тамак, погребение 21 (Мажитов, Пшеничнюк 1968: рис. 8: 10), без датирующих вещей.
Псалии с одним выступом на кольце (рис. 7) типичны для комплексов среднесарматского времени второй половины I в. н.э., где сочетаются с находками одночастных наконечников—подвесок, в т.ч. с инкрустацией (Нижняя Добринка, курган 2: Сергацков, Захаров 2006), горизонтально-вытянутыми прямоугольными железными пряжками (Новый, курган 98, погребение 1: Ильюков, Власкин 1992: рис. 29: 3, 10—17; Октябрьский V, курган 1, погребение 1: Мыськов, Кияшко, Скрипкин 1999; Скрипкин, Мыськов 2009), различными металлическими (Засецкая 2019: № 54, табл. XXXI: г) и стеклянными (скифос/канфар З-М-III-а3) сосудами, бронзовыми котлами (Демиденко 2008: тип XI.1.Б., № 159, рис. 53: 2, 115, тип I.1, № 4, рис. 124), ложечковидными наконечниками, пуговицами и пряжкой с инкрустацией (Трейстер 2020: 384—387).
Псалии этой формы происходят из Андреевского кургана, погребение 28 (Степанов 1980: табл. 17; Гришаков, Зубов 2009: рис. 22: 5), вместе со вторыми удилами со стержневидными псалиями и пряжками Малашев-П0.
Псалии с ромбическим расширением (рис. 2: А) встречаются не часто. Комплексы хронологически мало информативны, за исключением Октябрьский V, курган 1, погребение 1. Найдены в Кушулево III, погребение 361 (Агеев, Мажитов 1986: рис. 12: 13), с трехлопастным железным наконечником стрелы и наконечником копья.
Сопровождающие находки регулярно повторяются, но, очевидно, хронологически не однородны. Одна группа сопряжена с комплексом «восточных инноваций» в сарматской культуре (Скрипкин 2000; 2019; 2021). Однако настаивать на обязательно самой ранней их датировке не обосновано. Появление элементов на восточных памятниках определенно относится ко II в. до н.э., при этом не факт, что к началу века. Так, годы жизни императора Цзин-ди — 188—141 гг. до н.э., что уже может исключать первую четверть II в. до н.э. Даже если распространение новаций на запад в реальной жизни происходило мгновенно, выпадение вещей в погребения заняло какое-то время. Среди самих находок нет реальных запретительных условий, исключающих их бытование минимум до середины I в. до н.э. Отдельные факты свидетельствуют, что и дольше. Набор «восточных инноваций» дает лишь достаточно протяженный интервал бытования вещей — во II—I в. до н.э., но не узкую дату. Другая группа связана с находками горизонтально-вытянутых прямоугольных, овальных и 8-видных пряжек, пряжек Малашев-П0, в т.ч. с заклепкой, Раддац-С, -U, лучковых ранних вариантов и сильнопрофилированных фибул. Нужно отметить находки изделий среднесарматского полихромного стиля, римской бронзовой посуды, стеклянных канфаров, ложечковидных наконечников.
Назвать строгую дату по такому функциональному элементу как удила нельзя. Однако устойчивая повторяемость совместных находок позволяет определять относительно узкие периоды.
Обсуждаемые типы псалиев в целом относятся к рубежу эр и первым векам н.э. Сами удила представлены исключительно сарматскими формами, но широко распространившимися на периферии сарматского мира. Существенный вопрос — пути поступления предметов управления лошадью в Прикамье, который, в свою очередь, является частью более широкого вопроса направлений взаимодействия прикамского населения в контексте хронологии. Однако их прямое поступления от сармат в Прикамье только кажется очевидным.
Диссертация А.А. Глухова16 дает соотношение находок удил. Узда крайне редка в сарматских комплексах, им отмечено 22 случая (Глухов 2005: 22). Причем большая часть находок сделана в нижнем Подонье. А из учтенных выделяется комплекс Октябрьский V,
МАИАСП № 15. 2023
курган 1, погребение 1 сразу с пятью комплектами. Даже с учетом новых раскопок и публикаций старых коллекций за прошедшее время находок такого уровня не было. Псалии практически отсутствуют в рядовых погребениях. И в целом крайне малочисленны в Пред- и в Заволжье. В.И. Костенко пишет, что находки крайне редкие (Костенко 1993: 111—112), Р.С. Берестнев (2017), М.В. Кривошеев (2005) вообще их не описывают для рассматриваемых ими территорий. А.Х. Пшеничнюк упоминает единственную находку (Пшеничнюк 1983: 119) не приводя рисунка. Наоборот, в нижнем Подонье уздечные наборы встречаются (относительно) чаще, и типологически разнообразнее. В пропорциональном отношении по количеству находок близок регион Крыма. Количественно небольшая, но типологически разнообразная серия находок выявлена на среднем Дону (Медведев 2008: рис. 24, 70, 74; Березуцкий 2021: рис. 87).
Сарматские формы узды получили широкое распространение на периферии самого сарматского мира, в частности в лесной зоне, где можно выделить два района концентрации находок: Посурье и Прикамье.
На «сарматском» фоне радикально выделяется Прикамье, где по состоянию на 1982 г. Б.Б. Агеев учел 24 экземпляра со стержневидными псалиями (Агеев 1992: 49). С тех пор количество увеличилось. Самая большая коллекция происходит с Тарасовского могильника (Голдина 2003: табл. 257: 11, 258/611: 7, 277: 6, 291: 17, 439/1088: 2, 453: 12, 467: 7, 504/1305: 11, 522/1363: 1, 559/1484: 7, 563/1500: 3, 590/1603: 3). Точное число находок интереса не представляет — важны специфические типы и общее соотношение по районам.
На пьяноборских памятниках найдены псалии равномерного диаметра, с ромбическим расширением, с трапециевидным расширением, с плоским стержнем, с тамгообразой фигурой17.
В Андреевском кургане18 (регион «Посурье») В.В. Гришаков и С.Э. Зубов учли 13 экземпляров удил (Гришаков, Зубов 2009: 23; Зубов 2011: 51), хотя к моменту изданий уже были опубликованы и атрибутированы как «андреевско-писеральские» находки с городища Долматово. Находки из Писеральского и Климкинского могильников представлены только на иллюстрациях. Чуть позже в оборот введен Пильницкий могильник (Зубов, Лифанов, Радюш 2011, рис. 5: 12). Поселенческие памятники (городище Пичке-Сорче) полностью выпали из обзоров и были обобщены только Н.С. Мясниковым (Мясников 2016).
На памятниках андреевско-писеральского типа найдены псалии с расширяющимися концами, с круглой рамкой, с круглой рамкой с одним выступом, с тамгообразной фигурой, с плоскими дисками, с плоским стержнем, возможно, с круглой рамкой и тремя выступами (форма типа Усть-Альма, склеп 777: Пуздровский, Труфанов 2017а: рис. 93: 5).
МАИАСП Удила сарматских типов в пьяноборской культуре 149 № 15. 2023
По предположению А.М. Воронцова и Е.В. Столярова, появление двух комплектов удил на верхней Оке связано с действиями андревско-писеральских групп (Воронцов, Столяров 2019; 2022). Находки в дьяковском ареале (Смирнов 1970: 176, табл. 14: 21, 24, рис. 16: 26) обычно связывают с сарматским взаимодействием.
Суммируя, рассматриваемых типов (да и удил вообще) нет, или практически нет, в южном Приуралье, на Волге, а также на Северном Кавказе19. Удил относительно много на нижнем Дону, много на Кубани и в Крыму. Немного, но есть на среднем Дону. Много в Посурье и Прикамье (в пьяноборских могильниках; меньше — в кара-абызских).
Сравнение деталей конской сбруи, найденных в сарматском ареале, на среднем Дону, в Посурье и в Прикамье, показывает следующее. Удила, использовавшиеся во всех регионах, однотипны. Но в Прикамье находок сделано несравненно больше. Поступление в Прикамье с «сарматской стороны» полностью исключать нельзя, но отсутствие находок делает этот вариант маловероятным. Учитывая количество и разнообразие, а также прочий сопроводительный инвентарь, более вероятны связи между пьяноборскими и андреевско-писеральскими группами. В последние20 удила сарматских типов могли попасть только в результате какого-то прямого взаимодействия с сарматскими группами вместе с другими сарматскими элементами. Логичным «промежуточным звеном» выглядит ареал находок на среднем Дону, и далее на нижнем Дону. Андреевско-писеральские группы выступают посредниками в дальнейшем процессе взаимодействия и распространения в лесной зоне.
Проблема взаимодействия между ними периодически поднимается в литературе (Ахмедов, Белоцерковская 1998; Ставицкий 2013; 2017; Бугров, Мясников 2018), но систематического обсуждения не получила. Очевидно, что поиск направлений связей нужно начинать с выявления характерного специфического андреевско-писеральского комплекса и его хронологии. Направления контактов были в обе стороны, с запада на восток, и с востока на запад, но в разное время. Элементы сбруи, конкретно, рассматриваемые удила со стержневидными псалиями, отражают ранний период взаимодействия. Исходной позицией здесь выступают именно андреевско-писеральские памятники, как содержащие наиболее полный, и повторяющийся именно в комплексе, набор элементов. В пьяноборских могильниках эти элементы разрозненны, единичны, но при этом достаточно часты.
Только в последнее время Е.В. Столяров и А.М. Воронцов обобщили факты и сформулировали целостную картину роли андреевско-писеральских групп в событиях в лесной зоне в первые века н.э. Процесс был назван «войной I в.» (Воронцов, Столяров 2019). Некоторая хронологическая неоднородность самих андревско-писеральских комплексов позволяет предполагать, что «война»21 была не одна. Прямое участие андреевско-писеральских групп можно предполагать на памятниках Молого-Шекснинского междуречья, чуть менее выраженное — в верхнем Поочье и в Прикамье. В свою очередь сложение характерного андреевско-писеральского набора происходило при контакте с сарматскими группами, вероятно, среднедонскими, и зарубинецкими, или связанными с ними.
Все детали процессов еще не ясны. Находки удил со стержневидными псалиями являются лишь частью мозаики, но отражают культурные коды и хронологию событий.
МАИАСП № 15. 2023
Список литературы Удила сарматских типов в пьяноборской культуре
- Абрамова М.П. 1993. Центральное Предкавказье в сарматское время (III в. до н.э. — IV в. н.э.). Москва: [б.и.].
- Агеев Б.Б. 1992. Пьяноборская культура. Уфа: БНЦ УрО РАН.
- Агеев Б.Б., Мажитов Н.А. 1986. III Кушулевский могильник. В: Пшеничнюк А.Х. (отв. ред.). Археологические работы в низовьях р. Белой. Уфа: ИЯЛИ БФАН, 75—94.
- Алексеева Е.М. 1975. Античные бусы Северного Причерноморья. Москва: Наука (САИ Г1-12/1).
- Алексеева Е.М. 1978. Античные бусы Северного Причерноморья. Москва: Наука (САИ Г1-12/2).
- Антипенко А.В. 2016. Типология псалий I—IV вв. н.э. (по материалам погребальных памятников Северного Причерноморья). МАИЭТ XXI, 84—109.
- Ахмедов И.Р. 1995. Из истории конского убора и предметов снаряжения всадника рязано-окских могильников. Археологические памятники среднего Поочья 4, 89—111.
- Ахмедов И.Р. 2003. Комплекс предметов с городища Долматово Старожиловского района Рязанской области. В: Челяпов В.П. (отв. ред.). Проблемы древней и средневековой археологии Окского бассейна. Рязань: Поверенный, 128—138.
- Ахмедов И.Р., Белоцерковская И.В. 1998. О начальной дате рязано-окских могильников. Труды ГИМ 96. Археологический сборник, 32—42.
- Безуглов С.И., Глебов В.П., Парусимов И.Н. 2009. Позднесарматские погребения в устье Дона: курганный могильник Валовый I. Ростов-на-Дону: Медиа-Полис.
- Березуцкий В.Д. 2021. Новочигольские курганы. Воронеж: Научная книга.
- Берестнев Р.С. 2017. Сарматы в междуречье Хопра и Волги. Дисс. ... канд. ист. наук. Воронеж.
- Беспалый Е.И. 1992. Курган сарматского времени у г. Азова. СА 1, 175—190.
- Беспалый Е.И., Лукьяшко С.И. 2018. Древнее население междуречья Дона и Кагальника. Т. 2.
- Курганный могильник у с. Новоалександровка. Ростов-на-Дону: ЮНЦ РАН. Бугров Д.Г., Мясников Н.С. 2018. Некоторые проблемы выделения «этнокультурных компонентов» памятников андреевско-писеральского типа: погребальный обряд. ПА 3, 314—335. DOI: https://doi.org/10.24852/2018.3.25.314.335.
- Власкин В.М. 1990. Уздечный набор с тамгообразными псалиями из могильника «Новый». ИАИАНД9, 64-68.
- Воронцов А.М., Столяров Е.В. 2019. Война I века на границе лесной зоны: Окско-Донской водораздел. Stratum plus 4, 51—74.
- Воронцов А.М., Столяров Е.В. 2022. Городище Малая Стрекаловка на левобережье средней Упы. Археологическое наследие 1 (5), 121—180.
- Глебов В.П. 2007. О культурно-этнической принадлежности сарматского погребения у пос. Яшкуль (гр. 37, к. 1). В: Скрипкин А.С. (отв. ред.). Проблемы археологии Нижнего Поволжья: IIМеждународная Нижневолжская археологическая конференция: тезисы докладов. Волгоград: ВолГУ, 97—103.
- Глухов А.А. 2005. Сарматы междуречья Дона и Волги в I — первой половине II в. н.э. Волгоград: Волгоградское научное издательство.
- Голдина Р.Д. 2003. Тарасовский могильник I—Vвв. на Средней Каме. Т. II. Ижевск: Удмуртия.
- Гришаков В.В., Зубов С.Э. 2009. Андреевский курган в системе археологических культур раннего железного века Восточной Европы. Археология евразийских степей 7.
- Гугуев В.К., Безуглов С.И. 1990. Всадническое погребение первых веков н.э. из курганного некрополя Кобякова городища на Дону. СА 2, 164—176.
- Гущина И.И., Засецкая И.П. 1989 Погребения зубовско-воздвиженского типа из раскопок Н.И. Веселовского в Прикубанье (I в. до н.э. — нач. II в. н.э.). Труды ГИМ 70. Археологические исследования на юге Восточной Европы. Москва: Наука, 71—141.
- Демиденко С.В. 2008. Бронзовые котлы древних племен Нижнего Поволжья и Южного Приуралья (Vв. до н.э. — IIIв. н.э.). Москва: URSS. Зайцев Ю.П., Мордвинцева В.И. 2007. Элитный некрополь у центральных ворот Неаполя скифского.
- В: Зайцев Ю.П., Мордвинцева В.И. (ред.). Древняя Таврика. Симферополь: Универсум, 81—109.
- Засецкая И.П. 1979. Савроматские и сарматские погребения Никольского могильника в Нижнем Поволжье. ТГЭ XX, 87—113.
- Засецкая И.П. 2019. Искусство звериного стиля сарматской эпохи (II в. до н.э. — начало II в. н.э.). Симферополь: Антиква.
- Засецкая И.П., Марченко И.И. 1995. Классификация стеклянных канфаров позднеэллинистического и раннеримского времени. АСГЭ 32, 90—104.
- Зубов С.Э. 2011. Воинские миграции римского времени в Среднем Поволжье (I—III вв.). Миграционные процессы в формировании новой этнокультурной среды по материалам археологических данных. Saarbrücken: Lap Lambert Academic Publishing.
- Зубов С.Э., Лифанов Н.А., Радюш О.А. 2011. Новые памятники писеральско-андреевского типа I—Ш вв. н.э. на территории Нижегородской области (предварительное сообщение). Вояджер: мир и человек 1, 13—30.
- Ильюков Л.С., Власкин М.В. 1992. Сарматы междуречья Сала и Маныча. Ростов-на-Дону: Ростовский университет.
- Клепиков В.М., Кривошеев М.В. 2020. Детали конской узды из погребения сарматского всадника из могильника Ковалёвка. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. Т. 25 (4), 181—199. DOI: https://doi.Org/10.15688/jvolsu4.2020.4.12
- Коновалов П.Б. 2008. Усыпальница хуннского князя в Суджи (Ильмовая падь, Забайкалье). Улан-Удэ: БНЦ СО РАН.
- Костенко В.И. 1993. Сарматы в Нижнем Поднепровье. Днепропетровск: ДДУ.
- Костромичев Д.А. 2015. Ажурные пряжки с пельтовидной рамкой: вопросы типологии, хронологии и происхождения. Stratum plus 4, 299—356.
- Котигорошко В.Г. 2009. Малокопаньский некрополь (ур. Челленица). Карпатика 38, 58—133.
- Красноперов А.А. 2023. К вопросу о ранней дате пьяноборских памятников. Ч. 4-2. Бронзовые наконечники стрел (в печати).
- Красноперов А.А., Камалеев Э.В. 2023. Удила из погребения 86Камышлы-Тамакского Iмогильника: к вопросу о ранних комплексах пьяноборской культуры (в печати).
- Кривошеев М.В. 2005. Позднесарматская культура южной части междуречья Волги и Дона. Проблемы хронологии и периодизации. Дисс. ... канд. ист. наук. Волгоград.
- Кропоткин В.В. 1970. Римские импортные изделия в Восточной Европе. Москва: Наука (САИ Д1-27).
- Кропотов В.В. 2010. Фибулы сарматской эпохи. Киев: ИД «Адеф-Украина».
- Ларенок В.А. 2016. Меотские древности. Ч. 2. Каталог погребальных комплексов Кобякова городища из раскопок 2000—2001, 2002, 2004 гг. Ростов-на-Дону: Донской издательский дом.
- Ларенок В.А. 2021. Меотские древности. Каталог погребальных комплексов Кобякова городища из раскопок некрополя Кобякова городища на площадке строительства торгового комплекса «Метро кэш энд керри» в 2007 году. Ч. III. Ростов-на-Дону: ООО «Донской Издательский Дом».
- Лещинская Н.А. 2000. Ошкинский могильник — памятник пьяноборской эпохи на р. Вятке. Ижевск: Издательский дом «Удмуртский университет» (Серия препринтов «Научные доклады сотрудников Камско-Вятской археологической экспедиции». Вып. 2).
- Лимберис Н.Ю., Марченко И.И. 2012. Погребение сарматского всадника на некрополе меотского городища. Труды ГИМ 191. Евразия в скифо-сарматское время, 261—281.
- Лимберис Н.Ю., Марченко И.И. 2022. Меотское погребение с «очковидными» псалиями. В: Казанский М.М., Мастыкова А.В. (ред.). Друзей медлительный уход ... Памяти Олега Шарова. Кишинэу: Stratum Plus, 143—151. DOI: https://doi.org/10.55086/SL22143151.
- Мажитов Н.А., Пшеничнюк А.Х. 1968. Камышлы-Тамакский могильник. АЭБ III, 38—58.
- Максименко В.Е., Безуглов С.И. 1987. Позднесарматские погребения в курганах на р. Быстрой. СА 1, 183—193.
- Максимова и др. 1968: Максимова А.Г., Мерщиев М.С., Вайнберг Б.И., Левина Л.М. 1968. Древности Чардары (Археологические исследования в зоне Чардаринского водохранилища). Алма-Ата: Наука.
- Медведев А.П. 1990. Сарматы и лесостепь (по материалам Подонья). Воронеж: Воронежский университет.
- Медведев А.П. 2008. Сарматы в верховьях Танаиса. Москва: Таус.
- Мордвинцева В.И. 1999. Набор фаларов из кургана 28 могильника Жутово Волгоградской области. НАВ 2, 42—51.
- Мордвинцева В.И. 2003. Полихромный звериный стиль. Симферополь: Универсум.
- Мульд С.А. 2009. Исследования позднескифского могильника у с. Левадки в 2007—2008 гг. Археологiчнi додження в Украiне 2008 р., 207—209.
- Мульд С.А., Кропотов В.В. 2015. Позднескифский могильник Левадки в Центральном Крыму (II в. до н.э. — III в. н.э.). УАВ 15, 117—130.
- Мыськов Е.П., Кияшко А.В., Скрипкин А.С. 1999. Погребение сарматской знати с Есауловского Аксая. НАВ 2, 149—167.
- Мясников Н.С., Ефимов Е.Л. 2009. Новые археологические материалы Таутовского грунтового могильника железного века в Чувашии. АЕС 10. Древняя и средневековая археология Волго-Камья. Сборник статей к 70-летию П.Н. Старостина. Казань: Институт истории АН РТ, 106—111.
- Мясников Н.С. 2015. Городище «Пичке Сарче»: к вопросу об историко-культурной интерпретации. Чувашская археология 2, 85—96.
- Мясников Н.С. 2016. Археологические памятники первой половины I тысячелетия н.э. Сурско-Свияжского Междуречья. Дисс. ... канд. ист. наук. Ижевск. открытаяархеология.рф: 1: Удила и псалии I—IV вв. н.э. URL: httpsy/открытаяархеология.рф/fmds/удила-и-псалии-i-iv-вв-нэ (дата обращения 11.03.2023). Очир-Горяева М.А. 2019. Погребение воина—всадника из курганной группы Яшкуль. Бюллетень
- Калмыцкого научного центра РАН 4, 5—60. DOI: https://doi.org/10.22162/2587-6503-2019-4-12-5-60. Очир-Горяева М.А., Лапа Н.Л. 2002. Комплекс сарматского воинского погребения из фондов
- Калмыцкого республиканского краеведческого музея. ВДИ 3, 200—205. Пуздровский А.Е. 2007. Крымская Скифия. II в. до н.э. — III в. н.э. Погребальные памятники.
- Симферополь: Бизнес-Информ. Пуздровский А.Е., Труфанов А.А. 2017а. Полевые исследования Усть-Альминского некрополя в
- 2000—2003 гг. Симферополь; Москва: ИП Зуева Т.В. Пуздровский А.Е., Труфанов А.А. 2017б. Полевые исследования Усть-Альминского некрополя в
- 2004—2007 гг. Симферополь: ИП Бровко А.А. Пшеничнюк А.Х. 1983. Культура ранних кочевников Южного Урала. Москва: Наука. Радюш О.А. 2011. Предметы вооружения и кавалерийского снаряжения зарубинецкой культуры.
- Военная археология 2, 6—31. Сергацков И.В., Захаров П.Е. 2006. Сарматское погребение на севере Волгоградской области. РА 1, 117—123.
- Симоненко А.В. 2010. Сарматские всадники Северного Причерноморья. Санкт-Петербург: Нестор-История. Симоненко А.В., Зубарь В.М. 2012. О снаряжении боевых коней в первые века н.э. на территории Северного Причерноморья. В: Кривенко О.А. (ред.). Золото, конь и человек: Сборник статей к 60-летию Александра Владимировича Симоненко. Киев: КНТ, 89—99.
- Скрипкин А.С. 2000. Новые аспекты в изучении истории материальной культуры сарматов. HAB 3, 17—40.
- Скрипкин А.С. 2021. Сарматская археология от Б.Н. Гракова до современности. Исторические Исследования. Электронный научный журнал Исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 16, 39—53.
- Скрипкин А.С. 2019. Кочевой мир юга Восточной Европы во II—I вв. до н.э. (восточные инновации, факты, причины, последствия). Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. Т. 24 (1), 20—34. DOI: https://doi.Org/10.15688/jvolsu4.2019.1.2.
- Скрипкин А.С., Мыськов Е.П. 2009. Погребения сарматской знати из волгоградского Подонья. Археологические открытия 1991—2004 гг.: Европейская Россия, 245—255. Сланов А.Х. 1988. Сохтинский могильник. Тбилиси: Мецниереба.
- Смирнов К.А. 1970. Железные изделия Троицкого городища. МИА 156. Древнее поселение в Подмосковье. Москва: Наука, 170—178.
- Ставицкий В.В. 2013. Западный компонент в материалах Андреевского кургана. Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия 3, 137—138.
- Ставицкий В.В. 2017. Западный и восточный импульсы в формировании культуры андреевско-писеральского населения. Filo Ariadne 1 (5), 125—142.
- Степанов П.Д. 1980. Андреевский курган (к истории мордовских племен на рубеже нашей эры).
- Саранск: Мордовское книжное издательство. Столяров Е.В. 2021. Сюльгамы андреевско-писеральского типа с территории Окско-Донского водораздела. ПА 1, 131—147. DOI: https://doi.org/10.24852/pa2021.L35.131.147.
- Трейстер М.Ю. 2018. Blechkanne. Медные кованые кувшины первых веков н.э. в Северном Причерноморье и Сарматии. ДБ 22, 216—238.
- Трейстер М.Ю. 2020. Боспорские(?) пряжки из драгоценных металлов I в. н.э. на Боспоре и в Сарматии. ДБ 25, 384—406.
- Трейстер М.Ю. 2022. Римские бронзовые патеры типов Eggers 154-155 в Сарматии. ПИФК 1, 23—60. DOI: https://doi.org/10.18503/1992-0431-2022-1-75-23-60.
- Труфанов А.А. 2004. Пряжки ранних провинциально-римских форм в Северном Причерноморье. РА 3, 160—170.
- Халиков А.Х. 1962. Очерки истории населения Марийского края в эпоху железа. Железный век Марийского края. Йошкар-Ола: Маркнигоиздат, 7—187 (Труды МАЭ II).
- Храпунов И.Н. 2007. Погребение воина 2 в. н.э. из могильника Опушки. В: Зайцев Ю.П., Мордвинцева В.И. (ред.). Древняя Таврика. Симферополь: Универсум, 115—124.
- Храпунов и др. 2019: Храпунов И.Н., Иштванович Э., Кульчар В., Стоянова А.А. 2019. Конская сбруя сарматского времени в Крыму и в Альфельде. МАИЭТ XXIV, 12—34.
- Храпунов И.Н., Шабанов С.Б. 2021. Погребения коней в могильнике. Опушки. Stratum plus 4, 49—60.
- Циркин А.В. 1987. Материальная культура и быт народов Среднего Поволжья вIтыс. н.э. Красноярск: [б.и].
- Madyda-Legutko R. 1986. Die Gurtelschnallen der Romischen Kaiserzeit und der fruhen Volkerwanderungszeit im mitteleuropaischen Barbaricum. Oxford: B.A.R. (BAR International Series 360).
- Marcenko I.I., Limberis N.Ju. 2008. Römische Importe in Sarmatischen und Maiotischen Denkmälern des Kubangebietes. In: Simonenko A., Marcenko I.I., Limberis N.J. Römische Importe in sarmatischen und maiotischen Gräbern zwischen Unterer Donau und Kuban. Mainz: Verlag Philipp von Zabern, 265—400, 222 taf. (Archäologie in Eurasien 25).
- Ochir-Goryaeva M. 2008. Ein sarmatisches Grab bei Jashkul, Kalmückien. Eurasia Antiqua 8, 353—387.
- Simonenko A.V. 2008. Römische Importe in sarmatischen Denkmälern des nördlichen Schwarzmeergebietes. In: Simonenko A., Marcenko I.I., Limberis N.J. Römische Importe in sarmatischen und maiotischen Gräbern zwischen Unterer Donau und Kuban. Mainz: Verlag Philipp von Zabern, 1—264 (Archäologie in Eurasien 25).