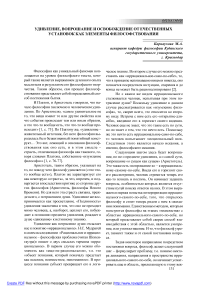Удивление, вопрошание и освобождение от естественных установок как элементы философствования
Автор: Карнаухова М.А.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14932629
IDR: 14932629
Текст статьи Удивление, вопрошание и освобождение от естественных установок как элементы философствования
Философия как уникальный феномен воплощается на уровне философского текста, который также является выражением духовного опыта мыслителя и результатом его философского творчества. Таким образом, сам процесс философствования представляет собой определенный способ постижения бытия.
И Платон, и Аристотель говорили, что начало философии заключено в человеческом удивлении. По Аристотелю, «самое удивительное не то, что вещи имеют те или другие свойства или что события происходят тем или иным образом, а что что-то вообще есть, что что-то вообще происходит» [1, c. 75]. По Платону же, «удивление – живительный источник, без него философия выродилась бы в безжизненный понятийный конструкт… Это акт, лежащий в основании философствования как оно есть, и в этом смысле – страсть, отличающая философа как такового, говоря словами Платона, собственное «изумление философа»» [1, c. 76-77].
Аристотель, таким образом, указывает на то, по поводу чего философ удивляется («что что-то вообще есть»), Платон же характеризует его как некоторую «страсть», за что, впрочем, и подвергается впоследствии критике со стороны других философов (Аристотель, философы Нового Времени). Но для него эта страсть связана, прежде всего, с потрясением души. Удивление же воспринимается как просветление. «Подлинность» удивления заключена в том, что оно не проходит мимо человека, а, наоборот, цепляет его, побуждает к познанию предмета удивления, рождает в душе «движение» к истинному знанию.
Удивление как потрясение души отсылает нас к понятию «иррациональное». Н.С. Мудрагей в своем исследовании «Рациональное и иррациональное – философская проблема (читая Шопенгауэра)» пишет о двух смыслах термина «иррациональное». В первом случае его можно обозначить как «еще-не-рациональное», т.е. это «объект познания, который поначалу предстает как искомое, неизвестное, непознанное». В процессе познания субъект превращает его в логи- ческое знание. Во втором случае его можно представить как «иррациональное-само-по-себе», то, что в принципе непознаваемо никем и никогда, оно познается посредством интуиции, озарения и до конца не может быть рационализировано [2].
Но с каким же видом иррационального сталкивается человек, испытывая при этом потрясение души? Поскольку удивление в данном случае рассматривается как «изумление философа», то, скорее всего, это относится ко второму виду. Встреча с ним есть его «открытие-для-себя», введение его в горизонт своего видения. Человек еще не знает, что это такое есть по сути, но он знает о том, что это нечто есть. Поскольку же это нечто есть иррациональное-само-по-себе, то человек испытывает эмоциональный шок. Следствием этого является начало искания, а именно, философского искания.
Следующим шагом здесь будет вопрошание, но не о предмете удивления, а о самой сути, вопрошание «о сущем как сущем» (Аристотель). Это также есть «вопрошание-к» – к иррациональ-ному-самому-по-себе. Введя его в горизонт своего рассмотрения, человек стремится теперь его как-то познать и постичь. Он начинает задавать вопросы, особенностью которых является отсутствие путей поиска ответов на них. В этом выражается первая попытка интерпретации иррацио-нального-самого-по-себе, того, что открылось философу и стоит теперь рядом с ним в ожидании понимания. Единственным методом, которым пользуются философы на этапах «знакомства» с областью иррационального-самого-по-себе, но который представляет собой скорее способ взаимодействия с этой областью, является умозрение, или умопостижение. И то, что философ узре-ет, зависит также и от самой постановки вопроса.
Задав некоторое направление посредством постановки вопроса, философ делает следующий шаг – формулирует проблему, т.е. помимо вектора движения, направления в пространстве ирра-ционального-самого-по-себе, он начинает усматривать еще и область, прилегающую к этому век-131
тору. Границы ее приблизительны, и в дальнейшем их можно расширять (при некоторых усилиях).
В отношении философских проблем помимо того, что они до конца не решаемы (это бесконечное вопрошание, бесконечная «стрела»), надо сказать еще и то, что сам факт их постановки приводит к разрыву философа с действительностью, воспринимаемой эмпирически, так как в ней он не может найти возможностей решения поставленных вопросов. Уже в самом вопрошании содержится выход за рамки обыденного мировоззрения, постановка проблемы же окончательно разрывает с ним. И теперь через умозрение начинается движение вперед – искание. Оно идет по нескольким направлениям, ведется поиск как решения проблемы, так и конкретных методов по ее решению.
Нельзя сказать, что процессы удивления и вопрошания сильно разведены во времени, скорее, наоборот, один следует тут же за другим, рождается в первом, чем констатируется сам факт обращения человека к философскому мышлению (но обращение не есть само это мышление, это только поворот). Постановка проблемы (которая ставится в первую очередь для прояснения своих вопросов, а уж потом и для развития философского дискурса вообще) свидетельствует о том, что движение философской мысли началось. Но все это именно лишь начало, которое отнюдь не говорит о наличии у мыслящего субъекта философского воззрения на мир, отличающегося иным уровнем восприятия и понимания последнего. Философский взгляд, философское мышление надо еще сформировать. Необходимость этого объясняется еще тем, что к этому моменту у человека уже сложилось определенное мировоззрение, мировосприятие, где все «разложено по полочкам», но которое отличается по большому счету наличием множества стереотипов, мешающих мышлению. В момент же соприкосновения с непостижимым и следующим за ним вопрошанием происходит «разрыв» с имеющейся действительностью. Преодолеть его при помощи обыденных убеждений невозможно. Соответственно, существуют два пути выхода из данной ситуации: либо вернуться к прежней жизни и к прежним взглядам, как ни в чем не бывало, забыть все это, либо же двинуться дальше, на поиски ответов, т.е. начать свое философское искание. В первом случае человек остается таким, каким он и был, во втором же случае человеку необходимо уже произвести в себе (в своем 132
сознании) кардинальные изменения, ибо приемы обыденного мышления и мировоззрения больше не работают. И в этом смысле философствующему субъекту необходимо произвести «расчищение» сознания. В данном случае уместно будет использовать идеи «естественной установки» и «феноменологической редукции», разработанные в свое время Э. Гуссерлем.
Э. Гуссерль также рассматривал в своих работах понятие обыденного сознания и его мировоззрения, которое он выразил термином «естественная установка». Находясь в ней, человек определяет для себя окружающий мир и вещи в нем как просто наличный для него, как «для меня здесь», независимо от того, воспринимает ли он их (мир, вещи) в данный момент или нет. То есть для обыденного сознания мир объективно дан, и оно познает то, что у него находится, так сказать, непосредственно перед глазами, и даже не сомневается в возможности самого познания мира и его существования. Соответственно, оно познает все, что его окружает, на уровне «реаль-ности-для».
Философствующий же субъект, будучи «разорван» с этой «реальностью», оказывается «выкинутым» из привычного хода вещей. Точнее, физически, телесно он присутствует в мире так же, как и раньше, но его сознание находится за его пределами, вне мира, поскольку не может пока найти мыслимых способов воссоединения с миром. Это противоречие необходимо преодолеть каким-то иным способом, так как в рамках «естественной установки» оно принципиально неразрешимо. Для этого и нужно выйти из «естественной установки», освободиться от нее и таким образом «расчистить» себе путь для философского искания. Исходя из гуссерлевского определения «естественной установки», этот выход из нее будет означать переход от восприятия мира на уровне «реальности» к восприятию мира на уровне действительности (на ином уровне).
Первым шагом в направлении избавления от «естественной установки» будет «попытка усомнения» – смелость поставить под вопрос весь мир со всеми его взаимосвязями и самого себя в том числе. При этом «разрыв» с «реальностью» усиливается и находит свое окончательное завершение уже в отрицании этой «реальности» как таковой. Отрицание снимается и переходит в позитивное состояние при последующем полагании мира в качестве действительности и усмотрении ее не на уровне физических объектов, а уже на уровне смыслов. Обыденному со- знанию же, по определению, даже не приходит в голову мысль усомниться в реальности окружающих его вещей, и поэтому оно несвободно. Несмотря на комфортность данного сознания, находящегося в рамках «естественной установки», интуитивно оно осознает эту отчужденность от мира и именно на ее преодоление направляет все попытки изучения мира с помощью наук, находящихся в русле все той же «естественной установки».
Таким образом, обыденное сознание – это сознание несвободное, находящееся в «видимом» (им) мире и познаваемом соответственно «глазами», но, пребывая внутри него, оно в сущности ничего не знает (или не хочет знать из страха перед непостижимым) о нем.
Философствующее же сознание, напротив, стремится к свободе. Как раз через «разрыв» и его преодоление человек освобождается и находится после этого уже не «внутри», «над» миром (в своем сознании) и соответственно воспринимает его уже посредством «видения умом», а не «глазами» – умозрением, что позволяет осуществлять его понимание на уровне целого, смысла и с точки зрения всеобщности.
Для пояснения возможностей преодоления выхода из «естественной установки» и преодоления «разрыва» необходимо применить такое понятие философии Э. Гуссерля, как «феноменологическая редукция». В этом плане он говорит о «выключении» генерального тезиса «естественной установки», о «введении его в скобки». Но это есть не отрицание мира, а совершение феноменологического «эпохэ», которое «полностью закрывает от меня любое суждение о пространственно-временном существовании здесь» [3].
Таким образом, следующим за вопрошанием и постановкой проблемы шагом для философствующего субъекта должно стать отвлечение от всего того, что представляет собой его мировоззрение (обыденное) путем помещения его «в скобки» – в состояние «невосприятия» (производится это действие через ряд мыслительных актов). Вхождение в такое состояние позволяет «очистить» сознание, что способствует возможности непосредственного усмотрения того, что стоит за вопросом философа в области иррацио-нального-самого-по-себе. Освобождая свое сознание от ограничителей, человек его тем самым расширяет, и ему становится доступным интуитивное постижение действительности на уровне смыслов.
В качестве ограничителей и соответствен- но в качестве того, что должно быть «выключено» и «взято в скобки», выступает весь мир со всеми науками человека о нем и о духе также. Происходит самовыключение философствующего субъекта из мира эмпирического, из той самой «реальности», а это также есть проявление «разрыва» с миром, осуществляемого на уровне сознания человека (его «выкинутость»). Но этот «разрыв» позитивен в том смысле, что он позволяет сознанию подняться и стать «над» миром, чтобы понять его.
По Э. Гуссерлю, предметом рассмотрения феноменолога должно стать «чистое сознание в его абсолютном самобытии». В данном же контексте предметом рассмотрения выступает действительность во всей ее целостности (человек в нее тоже входит) при помощи этого «чистого сознания». Она исследуется не на уровне физических объектов, т.е. не в ее конечных формах. Философ стремится к постижению всеобщего через открытие в ней бесконечного горизонта смыслов, который можно назвать дополнительным измерением действительности. Это уровень не эмпирический, связанный с конечностью бытия, а уровень идей, концептов, смыслов, бесконечности.
Термин «расширенное сознание» в контексте данного исследования означает следующее. «Выключив» естественный мир и войдя в состояние «невосприятия», философ сохраняет в своем сознании только наличность сознания. Однако он не определяет его пространственно-временным образом, потому что здесь оно становится безграничным и сливается со стоящей перед ним ирреальностью-самой-по-себе. Через акт слияния происходит введение этой области в сознание и восприятие ее непосредственным образом во всей целостности и бесконечности одновременно. Способом постижения выступает в этом случае интуиция. Состояние слияния – это «чистое восприятие», но не в смысле опосредования и опредмечивания, перевода в конечные формы (это будет следующим этапом философствования), а в смысле шопенгауэрского «чистого созерцания» посредством интуиции. И именно через все эти действия философу открывается дополнительное измерение действительности – ее смысловой горизонт, который и помогает в постижении тайны бытия.
Итак, осуществив феноменологическую редукцию, человек оказывается в состоянии «расширенного сознания», лицом к лицу с ирра-циональным-самим-по-себе, которое является 133
тем, что находится по ту сторону нашего сознания. Сознание при этом можно охарактеризовать как предельно «чистое», ибо, кроме своей наличности как сознания вообще, оно больше ничего не имеет, так как все остальное его бы только ограничивало. Это пребывание вне времени и пространства связано с чрезвычайным напряжением всех душевных сил философствующего субъекта. В этом состоянии им движет только интуиция, посредством которой и идет восприятие – «чистое созерцание».
Сознание же, будучи только наличным, а значит неограниченным, сливается с непостижимым и таким образом его познает (естественно, на уровне интуитивном) как нечто целое, но в то же время бесконечное. В этом слиянии преодо- левается различие субъекта и объекта. Однако человек в силу своей конечности не только не может долго находиться в состоянии «чистого сознания», ибо это есть проживание на пределе всех душевных сил. Поэтому в физическом мире это выглядит как «вспышка», «озарение», «экстаз» – т.е. некоторый миг, который вмещает в себя постижение всеобщего во всей его целостности и бесконечности, миг, содержание которого беспредельно. Н.А. Бердяев справедливо определяет это состояние как «творческий экстаз», «прорыв в бесконечность». Философствование для него всегда творчество, так как через творчество и в нем философская мысль обретает жизнь, оно же служит ее основой.
Список литературы Удивление, вопрошание и освобождение от естественных установок как элементы философствования
- Элен П. Удивление -пафос философской мысли//Разум и экзистенция. Разум научных и вненаучных форм мышления. СПб., 1999.
- Элен П. Удивление -пафос философской мысли//Разум и экзистенция. Разум научных и вненаучных форм мышления. СПб., 1999.
- Мудрагей Н.С. Рациональное и иррациональное -философская проблема (читая Шопенгауэра)//Философский портал. Библиотека. (Рус.). URL: http://www.philosophy.ru/library/vopros/41.html
- Мудрагей Н.С. Рациональное и иррациональное -философская проблема (читая Шопенгауэра)//Философский портал. Библиотека. (Рус.). URL: http://www.philosophy.ru/library/vopros/41.html
- Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии: в 2-х тт. Т. 1. М., 1999. С. 73.
- Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии: в 2-х тт. Т. 1. М., 1999. С. 73.