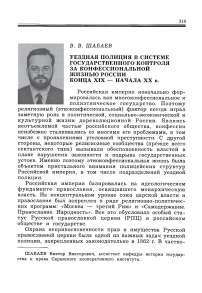Уездная полиция в системе государственного контроля за конфессиональной жизнью России конца XIX - начала XX в.
Автор: Шабаев В.В.
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Региональная история и историография
Статья в выпуске: 4 (57), 2006 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется политическая деятельность уезда в сфере контроля Русской Православной Церкви, мусульман Российской Империи, католиков и различных религиозных сект.
Короткий адрес: https://sciup.org/147222965
IDR: 147222965
Текст краткого сообщения Уездная полиция в системе государственного контроля за конфессиональной жизнью России конца XIX - начала XX в.
Российская империя изначально формировалась как многоконфессиональное и полиэтническое государство. Поэтому религиозный (этноконфессиональный) фактор всегда играл заметную роль в политической, социально-экономической и культурной жизни дореволюционной России. Являясь неотъемлемой частью российского общества, конфессии неизбежно сталкивались со многими его проблемами, в том числе с проявлениями уголовной преступности. С другой стороны, некоторые религиозные сообщества (прежде всего сектантского типа) вызывали обеспокоенность властей в плане нарушения законности и подрыва государственных устоев. Именно поэтому этноконфессиональная жизнь была объектом пристального внимания полицейских структур Российской империи, в том числе подразделений уездной полиции.
Российская империя базировалась на идеологическом фундаменте православия, освящавшего монархическую власть. На концептуальном уровне союз царской власти и православия был закреплен в ряде религиозно-политических программ: «Москва — третий Рим» и «Самодержавие. Православие. Народность». Все это обусловило особый статус Русской православной церкви (РПЦ) в российском обществе и государстве.
Охрана неприкосновенности прав и имущества Русской православной церкви была одной из важных задач уездной полиции, закрепленных законодательно в 1862 г. В частно-
ШАБАЕВ Виктор Викторович, ассистент кафедры истории государства и права Саранского кооперативного института.
сти, в обязанности полиции входила охрана церковных богослужений, особенно во время больших молебнов, церковных праздников и крестных ходов. На местах уездная полиция осуществляла тщательный контроль за тем, чтобы строительство православных монастырей и церквей происходило только с разрешения Синода и епархиального архиерея. Именно полиция призвана была предотвращать «преступления против православной веры», которые включали в себя богохульство, вторжение в церковь и совершение в ней преступления, вмешательство в службу и молебен, споры и драки на территории храма, переход православного в иную веру и т. д.
Необходимо признать, что немалую роль в широком распространении и общей активизации сектантства в поздней Российской империи сыграли кризис Русской православной церкви, неуклонное падение ее влияния и духовного авторитета в обществе. Кроме того, наряду с официальной РПЦ влиятельной силой в русском православии продолжало оставаться старообрядчество.
3 мая 1883 г. принят закон, предоставляющий старообрядцам официально занимать общественные должности. Власти в таких случаях должны были руководствоваться как местными условиями и обстоятельствами, так и нравственным характером учения и другими свойствами секты, к которой принадлежит предполагаемое выборное лицо (речь идет о старообрядцах). При этом не допускались утверждения старообрядцев в должностях, соединенных с государственной властью и влиянием. Особенно это касалось лиц, замеченных в распространении «своих заблуждений между православными», т. е. в проповеди старообрядчества среди верующих РПЦ1
Однако после принятия закона у полицейских учреждений увеличился объем работы. К тому же и сам закон в основном не исполнялся в точности. Это стало особенно очевидным к концу 80-х гг. XIX в., когда старообрядцы стали активно внедряться в выборные учреждения, а власти на местах утверждали их, что было категорически запрещено законом.
МВД, обеспокоенное таким поворотом событий, было вынуждено срочно принимать меры к недопущению «нераз- берихи», царившей в вопросе занятия старообрядцами должностей в местных органах власти. Русскую православную церковь серьезно беспокоило, что раскольники часто пользуются своим служебным положением во вред православию. Поэтому МВД призвало губернские власти при утверждении таких лиц на общественные должности «руководствоваться строгой осмотрительностью»2 МВД крайне волновало и то, что на должности сельских старост и старшин часто допускаются старообрядцы «беглопоповского толка»3, в большинстве случаев не удовлетворяющие требованиям разъяснительного циркуляра МВД от 21 июня 1883 г.
Кроме того, нередко утверждались в званиях и даже определялись на должности урядников последователи таких, с точки зрения РПЦ, крайних и «безнравственно-раскольнических лжеучений», как беспоповцы (федосеевцы)4, не признающие брака и молитвы за царя: «Эти лица при свойственном вообще сектантам фанатизме получают возможность злоупотреблять властью и действовать в пользу раскола, притесняя как православных в видах совращения их в раскол, так и склонных к православию раскольников в видах удержания их в расколе»5.
Таким образом, уже к середине 80-х гг. XIX в. было запрещено определение старообрядцев на должности урядников. «Особенная осторожность» в этом вопросе требовалась от властей тех губерний, где старообрядчество было распространено достаточно широко, где среди населения пользовались большим влиянием богатые купцы и фабриканты из числа старообрядцев6. Известны факты попыток полиции оградить детей старообрядцев от обучения в общих средних образовательных заведениях7
События первой русской революции 1905—1907 гг. заметно укрепили взаимные связи между полицией и РПЦ. Многочисленные беспорядки в деревнях и рабочие выступления нередко затрагивали интересы церковного имущества. Имели место разбойные нападения на духовные учреждения. Участились кражи церковных жертвенных денег и имущества. Например, 19 октября 1902 г. в с. Веденякино Темниковского уезда из церкви была совершена кража денег в сумме 60 руб.8 Подобных фактов можно привести множество.
Архивные источники свидетельствуют о том, что в период первой русской революции на территории мордовского края существовала реальная необходимость защиты православных монастырей, вплоть до вооруженной обороны. Документы полиции подробно освещают антицерковные бунты, в которых участвовало в основном мордовское население.
Рассмотрим подробнее инцидент, произошедший 12 июля 1906 г. В этот день на ярмарке при Пайгармском монастыре «мордвой был произведен бунт, — сообщает пристав второго стана Инсарскому приставу, — и бунтовщики нападали на урядника Лышонкова, стражников Фанягина, Курганова, Полетаева. Курганова ударили коленом по голове, Фанягину разбили губу, отобрали шашку и бросили в пруд, а затем стали кричать, что надо разбить монастырь. В руках у них были камни, оглобли и др. Я стал кричать, чтобы стражники применяли силу против толпы, дабы не дать и себя побить и разграбить монастырь. Ввиду чего мною была усилена охрана монастыря»9- Обеспокоенное этими выступлениями православное духовенство во главе с епископом Саранским и Пензенским убедительно просило выделить постоянную охрану, «так как положение обители становится небезопасным: мужики деревни Пайгармы начали всячески угрожать монастырю, а крестьяне соседской деревни стали самовольно косить монастырские луга»10.
Осознавая опасность работы стражей правопорядка, Святейший синод в своем постановлении № 6012 от 24 сентября 1907 г. принял решение, согласно которому при проведении заупокойных молений о воинах, убитых на поле брани, данная молитва дополнялась поминанием «и крамолою убиенных»11
В период революции 1905—1907 гг. Святейший синод обратился к православным с призывом: «Станьте крепкой, несокрушимой стеной за нашего царя, за землю русскую, за ее старинный христианский уклад жизни»12.
С другой стороны, в церковных кругах вызывало отрицательную реакцию постоянное вмешательство в их внутренние дела представителей власти. Например, один из пензенских священников отслужил панихиду по убитому черносотенцами «левому» депутату Государственной думы
М. Я. Герценштейну. Епископ Тихон за это перевел его в другой приход. Мягкость наказания возмутила П. А. Столыпина, который потребовал от обер-прокурора Святейшего синода «уволить немедленно на покой самого архиерея вместе с мятежным попом»13.
Таким образом, во второй половине XIX — начале XX в. деятельность провинциальной полиции по охране прав церкви была значительной среди ее основных обязанностей и подробно регламентировалась законодательными актами. Полиция следила за сохранением нравственности населения, предупреждала возможные нарушения законодательства и в этом случае выявляла виновных, имела право содержать их под стражей на время предварительного следствия, а затем передавала обвиняемых в судебные инстанции.
Анализируя полицейский контроль за конфессиональной жизнью, нельзя не сказать об исламе, который начал проникновение на территорию мордовского края еще в XV— XVI вв., что в немалой степени было связано с военнополитической деятельностью Казанского ханства.
На территории Мордовии ислам традиционно исповедует татарское население. В рассматриваемый период большинство мусульман региона — татарская прослойка небольших уездных городов и население татарских сел — практически не вызывали интереса местной полиции с конфессиональной точки зрения14
Однако на уровне центральной власти мусульманские подданные Российской империи часто вызывали тревогу и опасения со стороны полиции в плане их религиозно-политической лояльности «Белому царю». Речь идет о возможности объявления мусульманами в том или ином регионе империи газавата («священной войны», джихада) против «неверных» (немусульман). Подобные опасения полиции возрастали в периоды обострения отношений России с соседними мусульманскими государствами (в первую очередь с Османской империей).
Наконец, эти опасения в немалой степени обусловлены историческими реалиями, поскольку имперская власть в России имела печальный опыт вооруженной борьбы с мусульманскими повстанцами, которая порой принимала кровопролитный и затяжной характер. Это был опыт Кавказской войны XIX в., а также восстаний мусульман в Центральной Азии второй половины XIX и начала XX в.
В связи с этим полиция пристально следила за мусульманскими политическими партиями, съездами, организациями и группами, заметно активизировавшимися в начале XX в., в немалой степени — в связи с первой русской революцией. При этом центральные полицейские структуры империи неизменно доводили соответствующие распоряжения в провинцию до уровня уездных исправников. Так, в ноябре 1907 г. инсарский уездный исправник направил приставу 3-го стана следующее предписание: «Господин Пензенский Губернатор предписанием от 2 мая сего года за № 651, основанном на отношении Департамента Полиции от 17 апреля за № 6817, сообщил мне, что по полученным сведениям в первых числах минувшего Марта месяца в городе Елизаветполь при участии Персидских Макинских ханов, состоялся съезд мусульман, на котором постановлено: 1) Устроить в недалеком будущем такой же съезд в Крыму, с целью организования всеобщего мусульманскаго союза, по примеру армянскаго „Дашнакцютюна“ и прибегнуть к террору, добиться этим путем уступок правительства, как того добилась армянская организация „Дашнакцю-тюна“; 2) Выставить весною текущаго года в Карабахе (Шушинском уезде) „Дфай“ в противовес армянским „Хум-бам“, причем во главе организации „Дфай“ будет состоять Джафар-Бек Визиров, а казначеем Кахсум-Бек Визиров; главою всего Закавказскаго мусульманскаго союза избран Измаил Хан Зиадханов, бывший Член Государственной Думы; 3) Терроризировать прежде всего представителей администрации и суда; 4) При помощи Бакинских капиталистов Тагиевых, Амдулиевых выкупить у армян имения князей Узмиевых близ Агдама и скупить у армян все земли от Агдама до станции Ханджанлы, для заселения исключительно мусульманами; 5) Принудить Шушинцев жить обязательно в Шуше и вообще сделать Карабах мусульманской провинциею. Давая знать о сем, предписываю Вам принимать самыя энергичный меры к недопущению развития означенных организаций, установив тщательное негласное наблюдение за мусульманским населе нием»
На основании содержания этого документа можно сделать вывод, что полицейские служащие не только были хорошо осведомлены о движениях и «брожениях» среди мусульманских подданных, но и отдавали себе отчет в тесном взаимодействии мусульманских организаций и групп различных регионов обширной империи, не без основания предполагая, что события на Кавказе могут повлиять на мусульманскую общину Поволжья.
14 марта 1912 г. ардатовский уездный исправник предписал приставу 2-го стана доставить ему сведения, «не распространяются ли среди татарского населения вверенного Вам уезда, воззвания о пожертвованиях Турции на продолжение войны с Италией и не делаются ли денежные сборы для указанной цели»16.
В период первой мировой войны уездным полицейским учреждениям был разослан циркуляр, предупреждающий о появлении письма, в котором предрекалась гибель всех гяуров (христиан) в 1915 г. По этому поводу симбирский губернатор доводил до сведения всех чинов полиции следующее: «Департамент Полиции уведомил меня, что по полученным от Казанскаго Губернатора сведениям, среди местнаго мусульманскаго населения распространяются при-сланныя из Медины письма, содержание которых сводится к тому, что, будто бы, какой-то „маджабир" (угодник Божий) на могиле пророка услышал его голос, предупреждающий мусульман, что начавшийся по мусульманскому счислению новый 1333-й год будет выдающимся в жизни мусульманскаго мира, так как предстоит гибель всем „гяурам" и плохим мусульманам. Письма эти заканчиваются требованием списывать копии с таковых и в свою очередь распространять их.
Принимая во внимание, что распространения означенных писем рассчитано на разжигание фанатизма среди русских мусульман и имеет целью подготовить их к принятию „газавата" (священной войны), поручаю Полицмейстерам и Исправникам установить тщательное наблюдение за настроением и деятельностью проживающих во вверенных районах мусульман и принять меры к немедленному прекращению распространения этих писем»17
По поводу данного документа отметим, что в этот период г. Медина (как и сейчас) контролировался аравийской династией Саудитов, официальной идеологией которой был ваххабизм — радикальное религиозно-политическое направление в исламе суннитского толка, столь громко заявившее о себе в современном российском обществе. Кроме того, в конце XIX — первые десятилетия XX в. уездная полиция Пензенской губернии активно собирала сведения о джади-дах — мусульманских просветителях-модернистах, в том числе о мусульманских школах (мектебах и медресе), работавших по новому методу (усуль-и джадид)18, а также о мусульманах, сотрудничавших с литературными изданиями19.
В большой степени полицейский надзор и контроль распространялись на другие неправославные христианские конфессии. Отчасти речь идет о римско-католической церкви. Но основное внимание здесь полиция уделяла так называемому позднему протестантизму, т. е. многочисленным сектам, в основном зарубежного происхождения, возникшим в XVIII—XIX вв.
Что касается лиц католического исповедания, то в начале XX в., на основании высочайшего повеления, был резко ограничен въезд в Россию представителей римско-католической церкви. Пересечение границы священнослужителями указанных и ряда других конфессий допускалось лишь на основании совместного постановления МИД и МВД. Как указывалось выше, особое внимание Департамент полиции уделял представителям разнообразных сектантских течений. Жандармское командование даже усматривало в них идейную близость с некоторыми из революционных и иных радикальных с точки зрения официальных кругов учений. Так, духоборы20 числились последователями преданного анафеме Л. Н. Толстого, адвентистов21 сравнивали с анархистами, а штундистов22 обвиняли в проявлениях социал-демократии.
В сфере особо пристального внимания полиции находилась секта хлыстов23. Например, в служебной записке ала-тырского уездного исправника от 10 марта 1912 г. содержится следующая информация: «Проживающие в городе Алатыре, в собственном доме, под Поповской горой Егор Иванов Малкин (был в ссылке за хлыстовщину), сын его Андрей и жена последняго, отпавшие от православия и записанные в число Духовных Христиан (Молоканов), как мною установлено дознанием, в действительности не исповедуют вероучение Духовных Христиан, а принадлежат к запрещенной законом секте „Хлыстов" и что они частенько ездят в село Собаченки вверенного мне уезда, где и устраивают тайные собрания сектантов „Хлыстов", для молит-водействия по вероучению этой секты»24.
В марте 1912 г. в Ардатовском уездном полицейском управлении рассматривалось служебное расследование в отношении пристава 2-го стана Малинина, который не принял мер к предотвращению секты «хлыстов» в с. Соба-ченках. Ему в вину вменялось получение взятки от секты с тем, чтобы он указывал в своих отчетах, что существует секта лишь духовных христиан — последнее снижало ответственность «хлыстов» перед законом25 Дело в том, что, согласно циркуляру № 9623 от 4 октября 1910 г., секты обязаны были иметь разрешения местной полиции и извещать ее о времени своих молитвенных собраний26. В ходе дознания выяснилось, что секта «хлыстов» в селе существует более 80 лет. Причем православный священник неоднократно указывал приставу и просил принять меры к ее «накрытию»27, чего, однако, не было сделано вследствие материальной заинтересованности пристава Малинина. Все это вылилось в конечном счете в уголовное дело в отношении пристава, поскольку деятельность секты была запрещена еще в 1909 г.28
Однако самые серьезные подозрения полиции вызывали баптисты29 Их категорическое нежелание брать в руки оружие и служить в армии истолковывалось как угроза безопасности державы. В связи с этим местные полицейские органы обязывались вести постоянное наружное и внутреннее агентурное наблюдение за их составом и деятельностью30.
В пореформенное время среди крестьянства мордовского края получает распространение молоканское учение31, особенно среди нерусского населения. В 1875—1876 гг. велось производство дела о распространении «молоканской ереси и иудейской веры» в селах Кабаево, Турдаках и д. Сай-ниной Алатырского уезда. Крестьяне этих населенных пунктов обвинялись в распространении молоканского вероуче- ния среди крестьян своих и соседних сел. Вначале у следствия было значительное число улик, свидетельствующих об активном участии обвиняемых в распространении молоканства32- Но, как выяснилось в дальнейшем, большинство из показаний свидетелей оказалось не соответствующим действительности33
Небезосновательные опасения властей и полиции вызывали секты откровенно изуверского характера. Наиболее типичным примером является печально известная секта скопцов34 В предписании пензенского губернатора уездным исправникам и полицмейстеру г. Пензы от 20 апреля 1870 г. говорится по данному поводу следующее: «Собранными в последнее время, по распоряжению МВД, подробными сведениями о скопческой секте обнаружено, что число последователей ее постоянно увеличивается и что производящиеся в судебных местах дела о вновь обнаруженных оскопленных по подозрению в распространении скопчества оказываются большей частью оставлением привлеченных к делу лиц без всякого преследования»35. Подобное положение дел губернские власти считали недопустимым и призывали полицейские структуры предпринимать более жесткие меры по пресечению деятельности скопцов.
Так, полицмейстеры Саранского уезда Пензенской губернии собирали сведения о мотивах и причинах роста сектантства, отмечая слабый надзор за скопцами со стороны полиции, которая не принимала мер к обнаружению вновь оскопленных и выявлению лиц, осуществлявших этот изуверский ритуал: «А если и были подобные случаи выявлены, то лишь по прошествии большого срока от содеянного»36 Исходя из этого полицейским чиновникам предписывалось принимать меры к усилению полицейского надзора за появлением вновь оскопленных и методами следствия привлечь к ответственности через суд нарушающих действующие в то время законы. За каждым из членов сект велось негласное наблюдение на предмет дальнейшего нераспространения их «лжеучения» в народные массы37
В целом на основании архивных источников мы можем сделать вывод, что действовавшие на территории мордовского края протестантские и иные секты находились под жестким контролем уездной полиции.
О системе государственного контроля за конфессиями
Таким образом, учреждения уездной полиции осуществляли идеологический контроль не только в общественно-политической сфере (проявлением последней тенденции стал политический сыск), но и в области духовной, религиозной жизни (тем более что эти сферы часто оказывались тесно взаимосвязанными).
Список литературы Уездная полиция в системе государственного контроля за конфессиональной жизнью России конца XIX - начала XX в.
- ГАУО, ф. 76, оп. 1, д. 53, л. 96.
- ГАУО, ф. 76, д. 53, л. 18 об
- ГАТО, ф. 424, оп. 2, д. 1, л. 29.
- ЦГА РМ, ф. 121, оп. 1, д. 7, л. 20.
- ЦГА РМ, ф. 18, оп. 1, д. 14, л. 5-9.