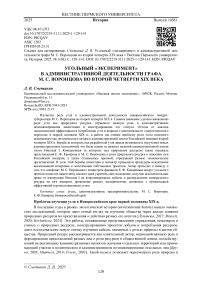Угольный «эксперимент» в административной деятельности графа М. С. Воронцова во второй четверти XIX века
Автор: Сметанин Д.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Региональная история
Статья в выпуске: 1 (68), 2025 года.
Бесплатный доступ
Изучается роль угля в административной деятельности новороссийского генерал-губернатора М. С. Воронцова во второй четверти XIX в. Главное внимание уделено выявлению роли угля как природного ресурса, игравшего важную роль в административном позиционировании наместника и конструировании его статуса. Отходя от анализа экономической эффективности потребления угля и вопроса о невозможности «энергетического перехода» в первой половине XIX в., в работе мы ставим проблему роли этого полезного ископаемого как политического актора в административной жизни Российской империи второй четверти XIX в. Борьба за контроль над разработкой угля давала возможность получения новых административных полномочий, что было одним из важных явлений административной жизни эпохи Николая I. Конкуренция за контроль над природным ресурсом также отражала представления Е. Ф. Канкрина и М. С. Воронцова о роли природного ресурса в освоении юга Российской империи, а также становилась призмой, отражавшей разные экономические представления. В ходе этой борьбы наместник и министр применяли процедуры исключения высказываний соперника и легитимации собственных проектов. Автор приходит к выводу о том, что конфликт М. С. Воронцова с министром финансов Е. Ф. Канкриным вокруг угольного проекта позволил наместнику южного края укрепить свое положение, получив исключительные права от императора Николая I на координирование добычи и распределения минерального ресурса на юге империи, проведение разных экспериментов, связанных с организацией эффективной торговли каменным углем.
Уголь, административное предпринимательство, М. С. Воронцов, Е. Ф. Канкрин, Новороссийский край, уголь, административное предпринимательство, М. С. Воронцов, Е. Ф. Канкрин, Новороссийский край
Короткий адрес: https://sciup.org/147247324
IDR: 147247324 | УДК: 94(47).073 | DOI: 10.17072/2219-3111-2025-1-129-141
Текст научной статьи Угольный «эксперимент» в административной деятельности графа М. С. Воронцова во второй четверти XIX века
Проблема изучения угля в Новороссийском крае первой половины XIX в.
В последние годы в рамках экологической истории (environmental history) вышло множество исследований, которые дают новый взгляд на изучение общества через анализ влияния природных ресурсов на представления и действия разных его агентов [ Лупанова , 2017; Bruisch , 2020; Kochetkova , 2024]. Эти работы, посвященные представлениям управленцев, инженеров и ученых о природных ресурсах, конструированию проектов добычи и потребления ресурсов, дают исследователям новую оптику изучения кейсов, связанных с ролью природы в жизни общества. Природный ресурс рассматривается как влиятельный актор, играющий важную роль в формировании представлений разных лиц о роли ресурсов в общественной жизни, воздействующий на реализацию административных проектов освоения отдельных территорий или принимающий участие в политическом и административном позиционировании отдельных лиц [ Бруно , 2024; Митчелл , 2014; Freese , 2003]. Такой подход позволяет пересмотреть роль природы и
ее отдельных элементов в политическом, культурном и социальном плане в истории Российской империи XVIII–XIX вв. [ Лупанова , 2017; Loskutova , Fedotova , 2015 ].
Методологическая оптика экологической истории актуализирует проблему изучения добычи и потребления угля в Российской империи первой половины XIX в. в первую очередь как политического, а не как экономического продукта. Идеи Э. Бруно о том, что природные ресурсы через свои химические и физические свойства, условия залегания, географическое положение становились акторами в административной жизни, позволяют по-новому взглянуть на роль природного ресурса в административной деятельности чиновников, их проектах и представлениях о способах освоения и управления пространством.
Это становится особенно актуальным при изучении деятельности новороссийского генерал-губернатора Михаила Воронцова, активно продвигавшего добычу угля и его употребление на юге Российской империи на протяжении более 25 лет. В работах, посвященных наместнику, деятельность по добыче и поиску угля либо упускается из внимания авторов, либо они схематично описывают итоги его угольных проектов [ Захарова , 2001; Самойлова , 1995; Rhinelander , 1990]. Другие работы, посвященные истории угольной добычи второй четверти XIX в. или ее роли на юге Российской империи, оценивали итоги разработки угольных месторождений с экономической точки зрения, показывая неудачные попытки осуществления «энергетического» перехода в рамках тогдашней социально-экономической системы [ Бакулев , 1995, с. 51–97; Дружинина , 1981, с. 121–146; Канин , 2019; Фомин , 1915, с. 57–104; Яснопольский , 1956, с. 63–64]. Однако при концентрации на угле как на экономическом объекте исследователи упускали из виду его видение деятелями того времени в качестве важного политического инструмента и ресурса в административном позиционировании отдельных чиновников и общественных деятелей.
Безусловно, мы согласны со множеством исследователей, что в период наместничества М. С. Воронцова (1823–1854) невозможно говорить о масштабном переходе юга Российской империи на употребление каменного угля, как в целом и во всей империи [ Давыдов , 2023; Broadberry , Korchmina , 2024]. Однако, что, если природный ресурс в первую очередь играл политическую роль и так же его видели сами деятели эпохи?
Более того, деятельность М. С. Воронцова как новороссийского генерал-губернатора до сих пор мало освещена в контексте функционирования института наместничества в Российской империи второй четверти XIX в. [ Бикташева , 2016; Ефимова , 2012, 2019; Кушко , Таки , 2012; Сысоева , 2023] и связанных с этим практик административного предпринимательства [ Федюкин , 2020; Roberts , King , 1991; Mintrom , Norman , 2009; Teodoro , 2014]. Если принимать во внимание, что Воронцов был одним из немногих генерал-губернаторов Российской империи, сумевших удержаться на своем посту более 30 лет, то возникают логичные вопросы: с помощью каких проектов ему удалось это сделать? каким образом добыча угля становилась административным «предпринимательским» проектом Воронцова и какую роль он играл в усилении его влияния и позиций?
Конфликты в бюрократической среде Российской империи становились возможностями переопределения границ собственных полномочий для наместников и служили инструментом отстаивания своих административных прерогатив перед министерствами [ Урушадзе , 2019; Ремнев , 2011, с. 30–37]. Могла ли проблема организации индустрии добычи и потребления угля в Новороссийском крае стать точкой противоборства между министерством финансов в лице Е. Ф. Канкрина и новороссийским генерал-губернатором? Если да, то к чему привел этот конфликт? Каким образом уголь становился источником возможностей наместника для укрепления собственного положения в бюрократической среде Российской империи?
В работе предлагается использовать концепцию «административного предпринимателя». Под ним подразумевается государственный деятель, который был способен формулировать высказывания относительно какой-либо проблемы, предлагать инструменты их разрешения через реализацию определенной административной стратегии [Федюкин, 2020, с. 17–19]. Важными характеристиками такого предпринимательства были проектирование и реализация проектов с целью получения новых полномочий. Более этого, такая деятельность предполагала сознательное манипулирование информационными потоками, характеризовалась попытками легитима- ции своих действий на основе убеждения разных чиновников в пользе предприятия, а также на противодействии альтернативным планам, исходившим от других лиц.
Необходимо также обратиться ко внешним процедурам «порядка дискурса» М. Фуко [ Фуко, 1996, с. 49-82]. Утверждение истинности или ложности высказываний, исключение разных субъектов, ограничение их доступа к «истинному» дискурсу контроля над добычей и распределением ресурса, попытки введения различных запретов и табу ‒ все это позволит концентрированно проанализировать высказывания М. С. Воронцова и министра финансов Е. Ф. Кан-крина в их бюрократической конкуренции, которые они использовали для продвижения собственного видения в вопросе управления угольными ресурсами на юге Российской империи.
Целью данной статьи является выявление роли угля в административной деятельности новороссийского генерал-губернатора Михаила Воронцова. Чем этот энергоресурс привлек внимание графа? Зачем М. С. Воронцову потребовалось вкладывать огромные административные усилия в продвижение «угольного эксперимента»? Какую роль в этом сыграл конфликт с министром финансов Е. Ф. Канкриным?
Дискурс «полезного» угля: генезис и его роль в бюрократической конкуренции второй четверти XIX в.
Разработка и добыча угля были известны в России задолго до воронцовского проекта [ Зворыкин , 1949; Каплан , 1949; Подов, 1991; Фомин, 1915; Шухардин, 1950]. В выпуске «Горного журнала» в 1829 г. говорилось, что «еще Петр I… по случаю открытия каменного угля сказал, что сей минерал. нашим потомкам будет весьма полезен» (Горный журнал, 1829, ч. I, кн. I, с. 1). В годы правления Екатерины II проводилось огромное количество экспедиций с целью поиска угля «хорошего качества», а в конце ее царствования был основан Луганский литейный завод [ Зворыкин , 1949; Фомин , 1915, с. 15-18]. Как позднее писал его директор К. Гаскойн в записке к генерал-прокурору П. Х. Обольянинову в январе 1801 г., предназначавшейся для подношения Павлу I с рассуждением о своей деятельности на юге Российской империи, его главными задачами были «…прииск каменного угля и добыча онаго… яко главнейшие препоручения, с тем намерением, что оным на кораблях Черноморского флота, в крепостях и даже во всем том крае, заменить употребление дров» (РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Ч. 6. Д. 3023. Л. 12).
Чиновниками и частными лицами выстраивался дискурс угля как «полезного» ресурса, существовавшего как глобальный феномен. Приводя пример употребления угля в Англии, Я. фон Штеллин подчеркивал: «Какое множество золота и серебра получает Великобритания от других государств за вывоз каменного уголья; и какое богатство приобретают тамошние Лорды и другие имеющие в сем государстве такие заводы! Да и сколько тысяч человек имеют пропитание от непрерывной работы в угольных оных копях...» (Штеллин, 1768, с. 225). Более того, приводя пример Франции, Польши, немецких княжеств, Австрийской империи как государств, испытывавших «дефицит» леса и начавших разработку и употребление угля, он призывал к этому же переходу и Российскую империю, что составило бы важную часть ее престижа и статуса (Там же, с. 225–226). Мысль о пользе угля для всех отраслей хозяйства высказал и А. Р. Воронцов в письме графу А. А. Безбородко в 1787 г., отметив выгоду его использования для «винокуренных и других подобных заводов… употребления в кухнях… в обыкновенных кузницах», а также для «сохранения лесов» (Архив князя Воронцова, 1886, кн. 32, с. 493-496). В 1798 г. Павел I издал отдельный указ об употреблении угля соляными варницами в Екатери-нославской губернии для «полезнейшей замены недостатка леса» (ПСЗРИ, 1830, т. 25, № 18348, с. 51). В 1799 г. - спустя 31 год после публикации первой статьи об угле в «Трудах Вольного экономического общества» ‒ была напечатана книга «О пользе и употреблении русского земляного угля» Н. А. Львова, в которой также давались инструкции к добыче и употреблению угля, обосновывалась его необходимость для использования в Новгородской губернии. В заключении своей книги, говоря о трудностях «приобщения» заводчиков, чиновников и обычных домовладельцев к использованию угля вместо дров, автор высказал утверждение, что при употреблении нового энергоресурса «деньги бы оставались дома, уголь бы способствовал дешевизне дров, леса не столько бы выводились… много денег расходясь на рабочих людей обогатили бы тот край…» (Львов, 1799, с. 47).
Модель угля как ресурса, аккумулировавшего денежные доходы, способствовавшего меньшему «сбережению» леса и снижению цен на дрова, а также дававшего дополнительный доход для людей, формировалась на стыке сообщества дворян-просветителей в рамках Вольного экономического общества, чиновников Берг-коллегии, профессоров Академии наук, преподавателей Горного училища [ Graber , 2016; Раскин , 1974]. Розыск и описание минеральных ресурсов, оснащение лабораторий для проверки химического состава минералов и отделения одних от других, увеличение числа экспедиций для поиска и описания минеральных ресурсов, создание первых геологических карт [ Гольденберг , 1982; Соловьев , Тихомиров , 1982] ‒ все это становилось важным инструментарием для проектирования способов описания и освоения пространства, приписывание территории статуса через наличие подземных богатств [ Graber , 2016; Franco , Missemer , 2023; Graber , Griffin et al., 2018]. Помимо этого, все эти процессы становились частью более глобального феномена постепенной карбонизации [ Barak , 2020, p. 8], строившейся на мифе о повсеместном дефиците леса1 [ Радкау , 2014, с. 186, 197; Warde , 2006; Warde , 2015, p. 137–160]. Это же приводило к постепенному выделению и формированию дискурса «полезного» угля.
В XIX в. продолжалось активное насыщение дискурса «полезного» угля. Помимо высочайших повелений Александра I об отправке чиновников в Новгородскую губернию для удостоверения качества угольных месторождений (РГИА. Ф. 37. Оп. 11. Д. 35), ранее открытых и «апробованных» директором угольных промыслов Н. А. Львовым2 (РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Ч. 5. Д. 2711), появлялись новые проекты (РГИА. Ф. 37. Оп. 11. Д. 206) использования угля как главного энергоисточника для городских и сельских жителей из-за «безлесия губернии» 3 [ Цветков , 1957, с. 90]. Уголь осмыслялся как важный ресурс и для дальнейшего развития промышленности. Например, в высочайше утвержденном положении Комитета министров за 1817 г. указывалось, что «каменный уголь в Тульской и Калужской губерниях… должен быть обращаем для употребления на том же Тульском оружейном заводе» (ПСЗРИ, 1830, т. 34, № 26987, с. 465), а отправка дополнительной экспедиции в 1821 г. для разведки угля в губернии подчеркивала интенсификацию усилий по внедрению угля в локальные промышленные практики (РГИА. Ф. 37. Оп. 2. Д. 223). Следовательно, в представлениях разных субъектов данного дискурса уголь становился важным компонентом «охраны» дефицитного леса4 [ Лупанова , 2017, с. 251–256, 273–275, 293–296], источником энергии для стабильного обеспечения потребностей жителей губерний, развития промышленности.
В контексте установления и закрепления «угольного дискурса» в бюрократической среде Российской империи М. С. Воронцовым предпринимались действия, направленные на реактуализацию и усиление «угольного проекта» на всем юге Российской империи с целью укрепления собственного положения. В методах его распространения, технологиях управления им генерал-губернатор со своим частно-государственным видением сталкивался с рациональным ведомственным в лице министра финансов Е. Ф. Канкрина [ Дубянский , 2019].
Подход Канкрина заключался в обеспечении ведомственного контроля в разработке и управлении угольными месторождениями через рационализацию и установление порядка, а также через исключение сторонних лиц в вопросе управления. Главным аргументом было наличие экспертов в лице ведомственных горных инженеров и отдельного ученого комитета Департамента горных и соляных дел в противовес обычным жителям, представленным помещиками или казенными крестьянами. «…Сие обстоятельство [поиска и добычи угля. ‒ Д. С.] и обязывает Правительство принимать к тому такие меры, которые бы упрочили для того края пользу навсегда устранением хищнической и беспорядочной работы. По сей причине, по мнению моему, нельзя вверить разработку открывшегося прииска ни самим жителям тех мест, ни съемщикам», ‒ написал министр финансов ответное отношение на предложение Воронцова в 1825 г. дать возможность всем лицам искать и разрабатывать угольные пласты (ОПИ ГИМ. Ф. 440. Оп. 1. Д. 933. Л. 50 об.–52). Одной из причин желания установить монополию была также боязнь потери нового источника пополнения казны, что было одной из главных целей Е. Ф. Канкрина на посту министра финансов [Дубянский, 2019].
Для обоснования необходимости распространения «угольного эксперимента» на частногосударственной основе Воронцову требовалось актуализировать дискурс «полезного» угля в Новороссийском крае, поскольку к моменту его вступления в должность в 1823 г. Луганский литейный завод и связанные с ним угольные разработки находились в кризисном состоянии [ Дружинина , 1981, с. 126–127]. Более этого, ему необходимо было задействовать высказывания, направленные на утверждение и закреплении истинного значения собственного проекта, исключавшего предложения министра финансов Е. Ф. Канкрина.
С этой целью последовательно производился ряд высказываний, конституировавших ценность ресурса для всего юга империи. Во-первых, уголь приравнивался к золоту, обладавшему свойством оживления экономической деятельности купцов и промышленников Новороссийского края, которая была необходима для освоения огромной территории на юге империи. Так, М. С. Воронцов в представлении министру финансов Е. Ф. Канкрину от 2 декабря 1825 г. писал, что «открытие сие [земляного угля. - Д. С. ] для здешних степных мест столько же важно, как и обретение самого золота. Оно может питать рабочих людей, оживлять промышленность, отвращать истребление лесов и наделять топливом все окрестные места» (ОПИ ГИМ. Ф. 440. Оп. 1. Д. 933. Л. 48 об.). Новороссийский генерал-губернатор приписывал углю «универсальные» преобразующие свойства, основываясь не только на собственном опыте, но и воспроизводя основные положения уже ранее заданного дискурса: польза промышленности, сокращение государственных расходов, появление дополнительного заработка для местных жителей ( Штеллин , 1768, с. 239–242)5. Фактически уголь осмыслялся через категорию валюты, эквивалентной по своей универсальности обмена и свойств золоту. В отличие от классического, «угольное золото» предоставляло также возможность замены лесного энергоисточника, составлявшего всего лишь 10 % от всей площади южного края империи [ Цветков , 1957, с. 90].
Необходимость в угле также конструировалась через акцент на дефиците традиционных источников энергии, который не был мифом для губерний Новороссийского края. «Нужно взять в соображение только безлесность этого края…» (РГАДА. Ф. 1261. Оп. 3. Д. 1422. Л. 3), «край новый и безлесный» , «не говоря о безлесии степей» (Там же. Оп. 1. Д. 2422. Л. 9 об.) ‒ так описывал М. С. Воронцов положение Новороссийского края, обращая внимание Николая I в записке 5 марта 1837 г. на недостаток лесных ресурсов и необходимость поиска альтернативного источника энергии (Там же). С мнением М. С. Воронцова соглашался министр финансов Е. Ф. Канкрин: «…по недостатку лесов в полуденных губерниях…» (ОПИ ГИМ. Ф. 440. Оп. 1. Д. 933. Л. 50). Маркер дефицита леса становился основой для поиска и разработки угля. Этот дискурс воспроизводился Воронцовым и в отношениях с министром финансов Е. Ф. Канкриным от 27 января 1837 г.: «...в надежде иметь когда-либо большой запас собственного угля, употребить оный для умножения сей промышленности и для уменьшения истребления лесов» (Там же. Д. 934. Л. 132 об.). Рост населения также указывался Михаилом Семеновичем в качестве важной причины в отыскании новых источников каменного угля, поскольку «великая нужда в лесе и неминуемое истребление еще, хотя части оного, для нужд умножающегося народонаселения, давно уже обратили мое внимание на каменный уголь» (Там же. Д. 935. Л. 53). Подобный тезис был отголоском идей камерализма о необходимости принятия и реализации государственных мер по обеспечению необходимыми источниками энергии увеличившегося населения ( Юсти , 1772, с. 139–140).
Проектирование образа угля как ресурса, способного оживить промышленность Новороссийского края, предоставить дополнительный доход и новый надежный источник энергии жителям, предоставлял Воронцову возможность моделировать свою позицию как «министра южных окраин», знавшего потребности края и предлагавшего решить их через реализацию своего проекта. Это маркируется его словами из отношения к министру финансов 1837 г.: «Вашему Сиятельству известно, сколь постоянно с самого назначения моего я занимался отысканием, добыванием и перевозкой каменного угля» (ОПИ ГИМ. Ф. 440. Оп. 1. Д. 934. Л. 118). Чтобы подчеркнуть значимость собственных усилий в этом вопросе, генерал-губернатор указывал, что «метался во все стороны, откуда получал сведения или малейшие надежды на открытие угля… чувствуя, сколь драгоценно и сколько можно сказать необходимо для всей полуденной России отыскание каменного угля» (Там же. Л. 72–72 об.). Это высказывание противопоставлялось «кабинетному» методу управления Е. Ф. Канкрина, делало акцент на «географии власти» как важном источнике легитимности действий новороссийского генерал-губернатора по реализации собственного видения развития угольной промышленности6 [Кушко, Таки, 2012, с. 74-75]. Следовательно, уголь, его неравномерное географическое распределение, вызывавшее необходимость в совершении большого числа персональных инспекций, становился одним из элементов административного статуса М. С. Воронцова, предоставлял ему возможности моделирования своей роли как единственного чиновника-эксперта в области угольной разработки в южных губерниях империи.
Граф воспроизводил общий дискурс о важности сохранения лесов через « открытие каменного угля и свободное употребление оного» (ОПИ ГИМ. Ф. 440. Оп. 1. Д. 933. Л. 53 об.). Данная фраза раскрывает его отношение к этому предприятию и сфере промышленности, показывает способы и средства того, как это должно было функционировать. «…Свободное дозволение добывать уголь в казенной вотчине - существенная выгода всего здешнего края» , «казенные поселяне лишаются способов работами своими приобретать возможность платить подать» , ‒ так Воронцов характеризовал пользу частной добычи и разработки угольных пластов в представлении к министру финансов в декабре 1825 г. (Там же. Л. 49 об.–50). Подчеркивалось, что разрешение проявлять инициативу позволит не только дешевле добывать уголь жителям, но и даст им доход для платежа налогов. В письме Е. Ф. Канкрину он отметил, что отмена разных запретительных мер позволит убрать препятствия для казенных крестьян в «добывании и продаже угля» (Там же). Более этого, М. С. Воронцов отдельно подчеркнул в отношении к министру финансов 1 февраля 1826 г., что «сия запретительная мера, не принося казне существенной пользы, в самом начале уничтожает полезную промышленность» (Там же. Л. 55). При этом новороссийский генерал-губернатор не умалял значения пособия, которое должно было исходить от государственной власти и быть ведущей силой преобразований: «Покровительствовать сему необходимому промыслу со стороны Правительства есть действие совершенно необходимое» ; «…при поощрении Правительства полезная промышленность обеспечила бы нынешние скудные и дорогие способы отопления в здешнем крае» (Там же. Л. 49 об.).
«Угольная» инновация М. С. Воронцова отражала две административные позиции, одна из которых была связана с выгодой поддержки государством любой частной инициативы через смягчение контроля и запрета, и «регулярный» подход, заключавшийся в создании определенного свода ограничений и контроля со стороны чиновников с целью получения доходов. «Всякие запретительные меры кроме того, что они притесняют хозяев земли, где оный добывается, и желающих покупать оный, останавливают полезную Государственную промышленность» ; «всякие запретительные меры в добывании угля сего не может принести существенной пользы казне» , - так новороссийский генерал-губернатор описывал влияние всяких запретов в письме к министру финансов Е. Ф. Канкрину, что характеризовало его как идейного сторонника «свободной инициативы» (Там же. Л. 53 об.). Вплетая в свое высказывание государственный интерес, он упоминал, что «…после воспрещения добывания и продажи угля в казенных землях Бахмутского и Славяносербского уездов, оный непомерно возрос в цене, так что употребление его сделалось невозможным для большей части жителей^» (Там же. Л. 55). О таком отношении к частной инициативе свидетельствовало позднее и письмо 1842 г. от углепромышленника Андрея Борисова к таганрогскому градоначальнику, в котором он писал, что «граф Михаил Семенович просил меня заготовить для отпуска городским жителям на отопление каменный уголь» (РГАДА. Ф. 1261. Оп. 1. Д. 2456. Л. 1).
Помимо этого, активным участником в конкуренции чиновников за контроль над добычей угля стал Горный департамент. Их экспертность и знания, основанные на эмпирическом опыте разработок, также становились инструментом легитимации в административной конкуренции. Например, министр финансов в 1825 г., аргументировав разные запреты и меры по регулированию добычи, отмечал, что это « меры, которыя бы упрочили для того края пользу навсегда устранением беспорядочной и хищнической работы » (ОПИ ГИМ. Ф. 440. Оп. 1. Д. 933. Л. 50 об.).
Это было ответом на представление М. С. Воронцова от 2 декабря 1825 г., в котором он отметил незнание и некомпетентность екатеринославского вице-губернатора в деле добычи угля. Михаил Семенович считал, что тот «следовал ложному изображению, что уголь истребится, если позволить всем свободную ломку онаго, но он наверное не имел сведения, что чем далее разрабатываются слои угля, тем более онаго открывается» (Там же. Л. 49 об.). Попытка монополизации и присвоения знания отразилась и в следующем отношении наместника от 1 февраля 1826 г.: «Что касается замечания о беспорядочной разработке угля, то конечно сие лучше известно горному чиновнику, нежели мне, но я думаю, что какая бы ни была ломка онаго там, где открыты слои, порчи быть не может, и что чем далее они разрабатываются, тем более открывается угля» (Там же. Л. 55).
Противоречивость в борьбе за присвоение знаний об угле и способах его добычи отразилась в решении Комитета министров 19 января 1829 г. В нем, в частности, было постановлено, чтобы « от Министерства финансов командирован был особый горный чиновник, который бы состоял в распоряжении новороссийского и бессарабского генерал-губернатора для надзора за разработками каменного угля, дабы неправильное и неискусное производство оных не расстраивало и не истребляло напрасно угольных пластов» (Там же. Л. 58 об.). В дополнение к этому Е. Ф. Канкрин сообщил Воронцову в отношении от 26 января 1829 г., что «… неправильная и неискусная разработка каменного угля бывает иногда соединена с опасностию для работников и грозит расстройством и истреблением угольных пластов …» (Там же. Л. 57 об.). Слова министра финансов подтверждались статьей члена ученого комитета Департамента горных дел Е. Ковалевского, в которой давалась неправильная оценка разработки угля в поселении Зайцево и говорилось о необходимости утверждения «правильной разработки», которая предохранит большие пласты угля от порчи (Горный журнал, 1829, ч. I, кн. II, с. 238–239). Следовательно, проблема угольного проекта формировала вокруг себя ландшафт разных представлений об угле и административных практик, направленных на установление контроля над минеральным ресурсом. Угольный же проект становился призмой, отражавшей экономические представления и взгляды чиновников на условия разработки угля, роль государственных институтов в этом вопросе, потенциальные выгоды от реализации этого предприятия. Чиновники одного ведомства проводили «операции исключения» новороссийского генерал-губернатора и его высказываний через попытку установления табу, запретов и утверждения правоты собственных высказываний о контроле за добычей угля, основанных на обладании «правильным» знанием.
Финальным аккордом, отразившим борьбу между министром финансов и новороссийским генерал-губернатором, стал высочайший указ из Правительствующего Сената 18 февраля 1829 г., утвердивший постановление Комитета министров (ПСЗРИ, 1830, т. 4, № 2685, с. 119– 120). Победой М. С. Воронцова были положения о том, чтобы «на всех городских землях Новороссийского края, равно как и на землях войска Донского, предоставить порядок разработки каменного угля усмотрению общества безо всякого надзора со стороны казны» (Там же), а также добавление царского повеления о возложении «…на обязанность Графа Воронцова, стараться елико можно сделать во вверенном ему крае употребление каменного угля общим и доносить ежегодно о успехе сего» (Там же). Более этого, Воронцову давалось право окончательного утверждения вопроса об отводе земель для казенных крестьян или любых местных жителей при разработке каменного угля (Там же). Единственным проводником влияния министра финансов Е. Ф. Канкрина оставался горный чиновник, который, однако, должен был состоять в «...непосредственном распоряжении Г. Новороссийского и Бессарабского Генерал-Губернатора для надзора, за разработками каменного угля…» (Там же, с. 120).
Возможность распоряжаться горным чиновником, с одной стороны, служила дополнительным инструментом легитимации административных действий наместника, рационализировало их. Например, М. С. Воронцов описывал в отношении к министру финансов в январе 1837 г., что он «в сентябре месяце поехал в Бахмут и виделся там с состоящим при Лисичьей Балке с чиновником Оливьери, от него я получил подтверждение, что уголь хорош» (ОПИ ГИМ. Ф. 440. Оп. 1. Д. 934. Л. 124–124 об.). С другой стороны, высказывания горных чиновников как носителей «правильного» знания об угле, способах его добычи и о перспективах месторождений оказывали влияние на формирование высказываний новороссийского генерал-губернатора, связанных с попытками конструирования экономической выгоды потребления каменного угля. В том же отношении Воронцов подчеркнул после слов Оливьери, что «по сим сведениям оказывалось, что… для местного употребления в Таганроге, уголь сей и цена оного были совершенно удобными…», после чего образцы угля были отравлены на пароходы для испытаний с целью узнать их энергоэффективность и возможность употребления для жителей Таганрога (Там же. Л. 124 об.).
Следовательно, любые меры, связанные с попытками контроля и регулированием доступа к разработке угольного энергоресурса, определения его экономической эффективности, значения полезности для южного края, переходили в ведение новороссийского генерал-губернатора. Набор высказываний об угле и его пользе для освоения территорий состоял из большого числа метафор об «уничтожении» , «остановке» местной промышленности или о «лишении» местных жителей способов нахождения «питания» и дополнительного энергоисточника в случае постоянного вмешательства со стороны министерства финансов. Сочетание метафор «насыщения» , «питания» местных жителей и промышленной индустрии с критикой ведомственных притязаний на контроль за добычей и распределением угля позволили Воронцову занять более сильную позицию, предложить снижение государственных расходов на освоение и развитие больших пространств Новороссийского края, доверив это дело частной инициативе. Путем исключения разных агентов власти – министра финансов и губернских чиновников – и их права утверждать истинность положений в локальном дискурсе полезного угля М. С. Воронцов фактически закрепил за собой исключительное право управления новым энергоресурсом для Новороссийского края. Это же было закреплено высочайшим повелением императора Николая I. С другой стороны, в рамках логики бюрократической конкуренции между министрами и генерал-губернаторами лоббирование угольного проекта как «свободного» экономического предприятия позволило Воронцову укрепить свой статус, репрезентировать себя как «министра южных окраин», знавшего проблемы Новороссийского края и предлагавшего оптимальные методы их решения. И все же это не мешало М. С. Воронцову в дальнейшем просить министра финансов о выделении средств для дорогостоящих «опытов» речной и морской доставки каменного угля [ Фомин , 1915, с. 55–56, 74] или об оказании помощи в разработке антрацита в землях Войска Донского (РГИА. Ф. 44. Оп. 2. Д. 727).
Заключение
Уголь в представлении Воронцова становился важным инструментом преображения локального пространства в рамках южного края. В отношении министру финансов в январе 1837 г. наместник подчеркивал, что благодаря углю один из городов «имеет теперь шесть пароходов, две землечерпательные паровые машины, значительный чугунный завод и употребление каменного угля для кузниц и в частных домах для каминов, сделалось общим, сверх того, готовятся еще землечерпательные машины для расчищения гирл Днепровских и Донских, а в скором времени может быть и для Дунайских» (ОПИ ГИМ. Ф. 440. Оп. 1. Д. 934. Л. 121).
Одним из средств масштабирования использования угля, которые были частью статуса Воронцова, были указания чиновникам. В 1830 и 1836 гг. он дважды предписал таганрогскому градоначальнику «привести в исполнение означенное намерение Правительства ввести во всеобщее употребление каменный уголь… в окрестностях Таганрога находятся значительные ломки каменного угля, которое с большой выгодой заменит дрова… имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство сделать опыты при отоплении таганрогских городских зданий» (Там же. Д. 933. Л. 60). Более этого, в циркуляре губернаторам Новороссийского края и всем градоначальникам от 21 декабря 1836 г. в качестве главного тезиса об необходимости использования каменного угля он приводил «желание Правительства употребить все зависящие от него меры сохранения в Государстве лесов» (Там же. Л. 63 об.). Такие предписания также были отражением более высокого статуса Воронцова как доверенного агента императорской власти, которому высшим повелением по февральскому указу от 1829 г. было предписано «…стараться… сделать во вверенном ему крае употребление каменного угля общим» (ПСЗРИ, 1830, т. 4, № 2685, с. 120). Фактически реализация этого символического и административного статуса через совершение бюрократических действий позволяла М. С. Воронцову занимать более сильную позицию во взаимодействии с другими чиновниками империи.
Таким образом, уголь в высказываниях М. С. Воронцова становился ресурсом, обладавшим набором символических и политических свойств, влиявших на качественное изменение статуса самого наместника. Благодаря этому генерал-губернатор получал возможность конвертировать собственные представления о пользе угля в экономические предложения и проекты, направленные на распространение угольных энергетических практик. Новый энергоресурс должен был стать инструментом управления пространством, изменения его экономических и социальных условий. Технологии контроля за разработкой нового золота, регулирования способов его добычи и торговли становились важными предметами бюрократической конкуренции между М. С. Воронцовым и министром финансов Е. Ф. Канкриным. Уголь и предполагаемые последствия от его употребления формировали высказывания высших чиновников, становились основой для развертывания аргументации в пользу своего плана освоения и управления новым энергоисточником. Одним из важных средств для этого становились высказывания, которые утверждали ложность утверждений противоположной стороны и закрепляли истинное значение аргументов другой. Манипулирование информацией и знаниями о способах добычи угля, воспроизведение дискурса полезного ресурса и его переложение на неосвоенное пространство Новороссийского края позволили М. С. Воронцову не только бороться за расширение границ собственных полномочий, но и укрепить свое положение в качества министра южного края. Уголь становился неотъемлемой частью его административного статуса и положения в бюрократической среде Российской империи, однако он же создавал потенциальную ловушку в случае неудач и провалов, связанных с распространением угля для пользы всего южного края империи.
Список литературы Угольный «эксперимент» в административной деятельности графа М. С. Воронцова во второй четверти XIX века
- Бакулев Г.Д. Развитие угольной промышленности Донецкого бассейна. М.: Госполитиздат, 1955. 672 с.
- Бикташева А.Н. Модели управления Волго-Уральским регионом Российской империи: от уни-фикации к спецификам (20-е годы XIX века) // Научные ведомости Белгород. гос. ун-та. История. Политология. 2016. № 15 (236). С. 97–102. EDN: WXHIXL.
- Бруно Э. Природа советской власти. Экологическая история Арктики. М.: НЛО, 2024. 344 с.
- Гольденберг И.А. Карты полезных ископаемых России XVIII века // Очерки по истории геологи-ческих знаний. «История геологической картографии». М.: Наука, 1982. Вып. 21. С. 24–37.
- Давыдов М.А. Цена утопии. 2-е изд. М.: НЛО, 2023. 536 с.
- Дружинина Е.И. Южная Украина в период кризиса феодализма. 1825–1860 гг. М.: Наука, 1981. 215 с.
- Дубянский А.Н. Идеи камерализма в экономической политике Е.Ф. Канкрина // Terra Economicus. 2019. № 17(4). С. 95–112.
- Ефимова В.В. Генерал-губернаторы Европейского Севера: место и роль в системе органов госу-дарственной власти и управления Российской империи (1820‒1830 гг.). СПб., 2019. 830 с. EDN: QBECXX.
- Ефимова В.В. Причины введения и отмены генерал-губернаторств при Александре I // Труды исторического факультета СПбГУ. 2012. № 11. С. 145–162.
- Захарова О.Ю. Генерал-фельдмаршал светлейший князь М.С. Воронцов. Рыцарь Российской империи. М.: Центрполиграф, 2001. 381 с.
- Зворыкин А.А. Открытие и начало разработки угольных месторождений в России. Т. 1. Исследо-вание и документы. М.: Углетехиздат, 1949. 458 с.
- Канин В.А. Краткий исторический очерк становления угольной промышленности Новороссии // Труды РАНИМИ. 2019. № 8-1 (23). С. 27–64. EDN: VNECPQ.
- Каплан И.И. Первые углекопы на Валдае. М.: Углетехиздат, 1949. 52 с.
- Кушко А., Таки В. Бессарабия в составе Российской империи (1812–1917). М.: НЛО, 2012. 400 с. ISBN: 978-5-86793-970-0. EDN: QPVUTN.
- Лупанова Е.М. История закрепощения природного ресурса: лесное хозяйство в России 1696–1802 гг. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге, 2017. 352 с. ISBN: 978-5-94380-230-0. EDN: WDJQOP.
- Митчелл Т. Угольная демократия: политическая власть в эпоху нефти / пер. с англ. Д. Кралечкин. М.: Дело, 2014. 408 с.
- Подов В.И. Открытие Донбасса. Исторический очерк. Документы. Луганск: Укр. фонд культуры, 1991. 118 с.
- Радкау Й. Природа и власть. Всемирная история окружающей среды. М.: Изд. дом ВШЭ, 2014. 472 с.
- Раскин М.Н. К предыстории организации Горного училища // Очерки по истории геологических знаний. М.: Наука, 1974. Вып. 17. С. 9–22.
- Ремнев А.В. Император – министры – генерал-губернаторы: «административный треугольник» для Сибири и Дальнего Востока // Проблемы истории государственного управления и местного самоуправления Сибири в конце XVI – начале XXI в.: материалы VII Всерос. науч. конф., Новосибирск, 6–8 июня 2011 г. Новосибирск: Ин-т истории СО РАН, 2011. С. 30–37. EDN: TLYJSN.
- Самойлова С.В. Граф М.С. Воронцов в общественно-политической жизни России первой четверти XIX в.: дис. … канд. ист. наук. М., 1995. 257 с.
- Соловьев Ю.Я., Тихомиров В.В. Начало геологического картирования и первые палеографические карты в России // Очерки по истории геологических знаний. «История геологической картографии». М.: Наука, 1982. Вып. 21. С. 46–62.
- Сысоева Е.О. Генерал-губернаторское управления в губерниях Поволжья и Урала (20-е годы XIX века): дис. … канд. ист. наук. М., 2023. 219 с. EDN: EYOBVT.
- Урушадзе А.Т. Другая Кавказская война: кавказский наместник vs царские министры (1844–1853) // Урал. ист. вестник. 2019. № 3 (64). С. 31–39. DOI: 10.30759/1728-9718-2019-3(64)-31-39. EDN: MXWOWQ.
- Федюкин И.И. Прожектеры: политика школьных реформ в России в первой половине XVIII века. М.: НЛО, 2020. 424 с.
- Фомин П.И. Горная и горнозаводская промышленность юга России: в 2 т. Т. 1. Харьков: Тип. Б. Бенгис, 1915. 487 с.
- Фуко М. Порядок дискурса // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности / пер. с франц. М.: Касталь, 1996. C. 49‒82.
- Цветков М.А. Изменение лесистости Европейской России с конца XVII столетия по 1914 г. М.: Изд-во АН СССР, 1957. 213 с.
- Шухардин С.В. Русская наука о разработке ископаемого угля в XVIII веке. М.: Углетехиздат, 1950. 124 с.
- Яснопольский Л.Н. Каменноугольная промышленность Донецкого бассейна: в 2 т. Киев: Изд-во Акад. наук Укр. ССР, 1956. Т. 1. 251 с.
- Barak O. Powering Empire: How Coal Made the Middle East and Sparked Global Carbonization. Oak-land: University of California Press, 2020. 344 p.
- Broadberry S., Korchmina E. Catching-up and Falling Behind: Russian Economic Growth, 1690s‒1880s // The Journal of Economic History. 2024. Vol. 84, no. 4. P. 997–1028. DOI: 10.1017/S0022050724000287.
- Bruisch K. Nature Mistaken: Resource-Making, Emotions and the Transformation of Peatlands in the Russian Empire and the Soviet Union // Environment and History. 2020. Vol. 26, no. 3. P. 359–382. DOI: 10.3197/096734018x15254461646567. EDN: WFZLOA.
- Franco M., Missemer A. A History of Ecological Economic Thought. London; N. Y.: Routledge, 2023. 190 p. DOI: 10.4324/9780429345623.
- Freese B. Coal: A Human History. New York: Perseus Publishing, 2003. 320 p.
- Graber A. Tsardom of Rock: State, Society, and Mineral Science in Enlightenment Russia: Ph.D dissertation. Yale, 2016. 250 p.
- Graber A., Griffin C., Koroloff R., Yoder A. The Natural Turn in Early Modern Russian History // Вивлioѳика: E-Journal of Eighteenth-Century Russian Studies. 2018. Vol. 6. P. 1‒12.
- Kochetkova E. The Green Power of Socialism: Wood, Forest, and the Making of Soviet Industrially Embedded Ecology. Cambridge: MIT Press, 2024. 258 p. DOI: 10.7551/mitpress/15148.001.0001.
- Loskutova M., Fedotova A. Forests, Climate, and the Rise of Scientific Forestry in Russia: From Local Knowledge and Natural History to Modern Experiments (1840s ‒ early 1890s) // New Perspectives on the History of Life Sciences and Agriculture. N.Y.: Springer, 2015. Р. 113–137.
- Mintrom M., Norman P. Policy Entrepreneurship and Policy Change // The Policy Studies Journal. 2009. Vol. 37, no. 4. P. 649–667. DOI: 10.1111/j.1541-0072.2009.00329.x.
- Rhinelander A. Prince Michael Vorontsov: Viceroy to the Tsar. Ottawa: Carleton University Press, 1990. 304 p. DOI: 10.1515/9780773562400.
- Roberts N.C., King P.J. Policy Entrepreneurs: Their Activity Structure and Function in The Policy Pro-cess // Journal of Public Administration Research and Theory. 1991. Vol. 1, no. 2. P. 147–175. EDN: ISSQQN.
- Teodoro M.P. Bureaucratic Ambition: Careers, Motives, and The Innovative Administrator. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2011. 240 p. DOI: 10.1353/book.11301.
- Warde P. Early Modern “Resource Crisis”: The Wood Shortage Debates in Europe // Crisis in Economic and Social History. Woodbridge, 2015. P. 137–160.
- Warde P. Fear of Wood Shortage and the Reality of the Woodlands in Europe, c. 1450–1850 // History Workshop Journal. 2006. No. 62 (1). P. 28–57.