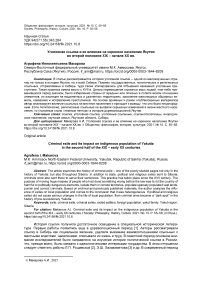Уголовная ссылка и ее влияние на коренное население Якутии во второй половине XIX - начале XX вв
Автор: Макарова Аграфена Иннокентьевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 10, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается история уголовной ссылки - одной из малоизученных страниц не только в истории Якутии, но и всей Сибири. Помимо государственных, политических и религиозных ссыльных, отправляемых в Сибирь, туда также этапировались для отбывания наказания уголовные преступники. Такая практика имела место с XVII в. Целью перемещения огромных масс людей, чем-либо провинившихся перед законом, было избавление страны от вредных или опасных в политическом отношении элементов, их изоляция на выделенных и удаленных территориях, заселение малолюдных обширных земель, наказание и исправление преступников. На основе архивных и ранее опубликованных материалов автор анализирует влияние ссыльных на местное население и приходит к выводу, что оно было неоднородным. Если политические, религиозные ссыльные не вызвали серьезных изменений в жизни местного населения, то уголовные стали «темным пятном» в истории дореволюционной Якутии.
Ссылка, уголовная ссылка, уголовные ссыльные, ссыльнопоселенцы, инородческое население, якутская семья, якутская область, сибирь
Короткий адрес: https://sciup.org/149138696
IDR: 149138696 | УДК: 94(571.56):343.264 | DOI: 10.24158/fik.2021.10.8
Текст научной статьи Уголовная ссылка и ее влияние на коренное население Якутии во второй половине XIX - начале XX вв
Республика Саха (Якутия), Россия, ,
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk, Republic of Sakha (Yakutia), Russia, ,
интерес историков к данной проблематике также не угасает, но в отличие от предыдущего этапа историографии теперь он связан с изучением вопросов пребывания в Сибири ссыльных в целом. Кроме того, стали более активно изучаться уголовная и религиозная ссылки [4].
Целью данной статьи является исследование уголовной ссылки и ее влияния на повседневную жизнь коренного населения Якутской области рассматриваемого периода.
Ссылка имеет давнюю историю, в качестве меры наказания она применялась издавна. Отправление неугодных власти элементов в Сибирь началось с середины XVII в. В 1653 г. было приказано ссылать в этот регион тех из преступников, которые были помилованы и избежали смертной казни, получив вместо нее возможность проживания в тяжелых условиях на неосвоенной территории. Окончательно же система ссылки установилась во времена правления Елизаветы Петровны, когда произошла отмена смертной казни. С развитием государства постепенно изменялось содержание и назначение ссылки. Переселение людей в Сибирь также применялось с целью колонизации региона.
Во второй половине XIX в. ссылка приобрела массовый характер. Якутская область была одним из основных мест, куда отправлялись разные категории ссыльных: государственные, политические, общеуголовные преступники и сосланные по религиозным мотивам. В 1888 г. всего в области было 5993 ссыльных, из которых уголовные составляли 97 %. [5, с. 34]. Это были люди, отбывавшие срок каторжных работ за преступления, которые высылались на жительство в отдаленные места в качестве ссыльнопоселенцев. В одном Якутском округе на 20 инородческих душ приходилось по одному ссыльному [6, с. 199].
В Якутске прибывшие распределялись по округам, улусам и наслегам. Основная масса ссыльных отправлялась в улусы, где они обязаны были заниматься земледелием. При этом члены семьи, добровольно их сопровождавшие, распределялись вместе с ними. Если религиозные ссыльные обеспечивали сами себя своим трудом, а политические получали казенное пособие, то каждому ссыльнопоселенцу местное инородческое население обязано было отвести 15 десятин земли, дать на первое обзаведение денег, обеспечить скотом и орудиями труда. Получив земельный надел, ссыльный не имел права требовать от местного населения продуктов и т. д., он обязан был добывать средства к существованию собственным трудом [7].
Основная масса ссыльных по нежеланию, неспособности к физическому труду, старости, тунеядству все же не занималась земледелием или скотоводством. Среди них было немало бродяг, людей, не привыкших к труду, поэтому, не желая работать, они поступали на содержание местного инородческого общества. Каждый из них от населения получал пособие в размере до 22 руб. 50 коп. в месяц, или обеспечивался продуктами, или ночевал то у одной, то у другой семьи. По истечении срока постоя хозяин обязан был отвезти поселенца за свой счет в другое жилище. Например, в 1893 г. в 8 наслегах нынешнего Чурапчинского улуса числились 203 ссыльнопоселенца, из них на пропитании у общества находились 112 чел. (55,1 %), 59 чел. были в отлучке и только 32 чел. вели хозяйство (15,7 %) [8]. Например, в 1880-х гг. во 2-ом Хаяхсытском наслеге Батурусского улуса ссыльный Глухов занимался посевом хлеба и демонстрировал полезный опыт занятия земледелием для местного населения [9, с. 79].
Некоторые ссыльнопоселенцы уходили по билетам на золотые промыслы. Инородческие общества их обеспечивали денежными средствами и продуктами до приисков и довозили на своем транспорте до города. Но многие, промотав деньги в городе, возвращались в наслег без гроша и вновь переходили на содержание общества. Чтобы прекратить поездки ссыльных за счет инородческого населения, 9 октября 1886 г. якутский губернатор издал распоряжение, согласно которому было «запрещено выдавать ссыльным билеты на золотые промыслы Олекминской и Витимской системы без наемки на месте или без требования от приисков» [10, с. 129]. На приисках были невыносимые условия труда, и почти все ссыльнопоселенцы, подорвав там свое здоровье и утратив способность к физическому труду, возвращались в улусы в места приписки или бродяжничали, вели разгульный образ жизни. Например, в 1909 г. в Якутской области насчитывалось 1378 общеуголовных ссыльных, из них проживающих на местах причисления было 122 чел., отлучившихся на заработки – 319, отсутствовавших по неизвестной причине – 937 [11].
Населению тяжело было нести повинность по содержанию ссыльных. Большинство якутских семей сами кое-как обеспечивали свое существование, и из-за отсутствия продуктов питания перед хозяином семьи стояла неразрешимая задача – кормить семью или поселенцев. Ссыльные же знали, что из одной семьи их отправят в другую и с голоду умереть не дадут. Жители многих наслегов заявляли об отсутствии возможности прокормить чужаков, но их голоса не были услышаны, и число ссыльных увеличивалось с каждым годом. Местное население вынуждено было их полностью содержать, тогда как уголовные поселенцы продолжали совершать преступления против беззащитных жителей, угрозой вымогали все, что хотели, занимались кражей скота, имущества. Кроме того, они наносили огромный моральный и нравственный вред населению. Завлекали людей в картежные игры, спаивали, насиловали. В этом отношении очень показательна повесть В. Серошевского «Хаайыылаах» [12], где автор описывает жизнь обычной якутской семьи в глуши с уголовником-поселенцем в доме, который разрушает ее уклад, делая существование невыносимым.
Политический и общественный деятель Д.А. Кочнев в конце XIX в. писал, что «сколько якутов пало от рук ссыльных, неизвестно, потому что нет на этот счет статистики» [13, с. 175]. Абсолютное большинство преступлений поселенцев оставалось нераскрытыми. Как пишет Д.А. Кочнев, ему известны 2–3 таких случая, поражающих жестокостью: например, один поселенец, рассердившись на кого-то из членов семьи, в которой жил, бросил в горящую печку ребенка; в другой раз ссыльный, воспользовавшись отсутствием мужчин в доме, хотел изнасиловать хозяйку, но ввиду ее яростного сопротивления попытался перерезать ей горло тупым ножом [14, с. 175]. Такое поведение уголовных ссыльных пробудило у местного населения ненависть к ним.
Уголовные преступники, отправленные на поселение в Якутию, держали под угрозой и государственных ссыльных. Так, ссыльный М.А. Натансон летом 1884 г. просил его перевести в другое место, так как при его частых отлучках за дровами, припасами и т.д. больная жена оставалась совершенно одна среди дремучей тайги в постоянном страхе ожидания нападения поселенцев [15].
Надзор за ссыльными осуществляло полицейское управление, которое ведало их делами. Помимо этого старосты обществ, головы улусов обязаны были следить за образом жизни поселенцев и нести за них ответственность, хотя официально у них таких полномочий не было. Но обширность территории, проживание ссыльных поодиночке и вдали друг от друга не способствовали установлению контроля над ними. Ссыльные не подчинялись инородческой власти.
Местное население пыталось сначала мирным путем решать возникающие со ссыльными проблемы. Подавались различные прошения, ходатайства на имя начальства. Но все они остались неудовлетворенными. И, отчаявшись получить помощь и защиту от администрации, люди иногда сами решались на расправу над уголовными ссыльными. Как пишет Д.А. Кочнев, «ссыльные стали неизвестно куда исчезать» [16, с. 176].
Во второй половине XIX в. отмена уголовной ссылки стала одним из основных вопросов, который сибирские жители просили решить властей. В Якутии эта проблема была поднята головой Батурусского улуса Е.Д. Николаевым. По его сведениям, в начале 1886 г. каждый одиннадцатый человек в улусе был поселенцем [17, с. 33]. Массовая уголовная ссылка в Якутию обострила не только продовольственный, но и земельный вопросы в регионе. Е.Д. Николаев высказывался против выделения 15-десятинных земельных участков ссыльным уголовникам и отмечал, что при разделе земли, в обход закона, лучшие территории доставались уголовным ссыльным. Таким образом, закон не обеспечивал коренным жителям неприкосновенность собственности на землю. Нередко уголовники спекулировали полученными участками, продавая их втридорога состоятельным покупателям. Е.Д. Николаев неоднократно добивался прекращения уголовной ссылки в Якутию Так, 21 июня 1883 г. во время поездки в Петербург в составе делегации на коронацию Александра III он вручил докладную записку на имя царя министру внутренних дел Д.А. Толстому. Чиновник обещал, что «все возможное будет сделано для облегчения положения» якутов, что будут приняты меры в отношении ссылки [18, с. 49]. Также Е.Д. Николаев обращался с этим же вопросом к генерал-губернатору Восточной Сибири А.П. Игнатьеву.
О пагубном влиянии уголовной ссылки для общества в своем докладе министру юстиции от 12 февраля 1910 г. писал и якутский губернатор И.И. Крафт. Он отмечал, что «каждая партия привозит сюда много отчаянных закоренелых преступников, отвыкших от труда, стремящихся бежать отсюда на средства, добытые преступлениями… Прибывшая сюда 12 сентября новая партия бродяг, по отзыву начальника конвоя, состоит из отъявленных воров и разбойников» [19, с. 233].
12 июня 1900 г. был издан указ, предусматривавший ограничение ссылки в Сибирь по приговорам сельских и мещанских обществ. Закон должен был существенно изменить систему переселения, учитывая то, что преступники данной категории составляли более 80 % от общего количества ссылаемых в Сибирь. Однако законодательство оставило практику выхода на поселение после отбытия каторжных работ, что не уменьшило, а наоборот, приумножило количество ссыльных в Восточной Сибири [20, с. 46]. В 1914 г. Министерством юстиции был внесен на рассмотрение Государственной Думы законопроект о преобразовании каторги и запрете отправки на поселение преступников. Но только весной 1917 г. система ссылки была отменена Временным правительством.
Негативное влияние уголовных ссыльных за такой длительный период действия практики переселения в Сибирь сказалось на многих сферах жизни якутов. Вторгаясь в жизнь обычной семьи, ссыльный мог довести ее до разорения, заражал домочадцев неизвестными якутам болезнями, заставлял жить в постоянном страхе стать жертвой преступления. Из многочисленных уголовных ссыльных только единицы создали свое хозяйство и вели нормальный образ жизни. Влияние же политических и религиозных ссыльных не было таким значительным на население вследствие их меньшего количества и большей ориентированности на нормальную жизнь.
Обобщая сказанное, следует сказать, что ссылка как общественное явление была обусловлена желанием государства избавиться от неугодных граждан путем их изоляции на удаленных территориях, а также стремлением обеспечить регулярное поступление рабочей силы для освоения новых земель сибирского региона. Длительный период практики переселения больших масс людей в Якутию не мог не отразиться на жизни коренного населения, и не всегда влияние, испытываемое добропорядочными гражданами со стороны ссыльных, имело положительные последствия, напротив, чаще всего чужаки не хотели считаться с местными и пытались диктовать им условия жизни, результатом чего стало ухудшение обстановки в регионе и возникшая необходимость административной отмены ссылочной системы наказаний.
Список литературы Уголовная ссылка и ее влияние на коренное население Якутии во второй половине XIX - начале XX вв
- Максимов С.В. Сибирь и каторга. В 3-х ч. СПб., 1891. Ч. 1: Виноватые и обвиненные. 367 с. ; Ч. 2: Несчастные. 411 с. ; Ч. 3: Политические и государственные преступники. 377 с.
- Фойницкий И.Я. Ссылка на Западе в ее историческом развитии и современном состоянии (XIX век). М., 2012. 342 с.
- Ядринцев Н.М. Сибирь как колония. СПб., 1892. 720 с. ; Wood A. Siberian Exile in Tsarist Russia // History Today. 1980. Vol. 30. P. 19-24.
- Рощевская Л.П. История политической ссылки в Западной Сибири во второй половине XIX вв. Тюмень, 1976. 138 с.
- Хазиахметов Э.Ш. Сибирская политическая ссылка 1905-1917 гг.: облик, организация, революционные связи. Томск, 1978. 183 с.
- Иванов А.А. Уголовная ссылка в Сибирь в XVII-XIX вв.: численность, размещение, использование в экономике региона // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2014. № 1. С. 42-53.
- Казарян П.Л. Якутия в системе политической ссылки в России. 1826-1917 гг. Якутск, 1998. 496 с. ; Его же. Якутская политическая ссылка. Якутск, 1999. 192 с.
- Макаров И.Г. Уголовная, религиозная и политическая ссылка в Якутии: вторая половина XIX в. Новосибирск, 2005. 255 с.
- Там же. С. 199.
- Национальный архив Республики Саха (Якутия) (НА РС (Я)). Ф. 29. Оп. 2. Д. 1456. Л. 1-26.
- Там же. Д. 1946. Л. 125.
- Афанасьев В.Ф. Школа и развитие педагогической мысли в Якутии. Якутск, 1966. 344 с.
- Макаров И.Г. Указ. соч. С. 129.
- НА РС (Я). Ф. 12. Оп. 18. Д. 42. Л. 2.
- Серошевский В.Л. Хаайыылаах: повесть // Саха сирин туИунан кэпсээннэр. Якутск, 2009. С. 16-45.
- Кочнев Д.А. Очерки юридического быта якутов. Казань, 1899. 177 с.
- Там же. С. 175.
- НА РС (Я). Ф. 12. Оп. 15. Д. 69. Л. 86.
- Кочнев Д.А. Указ. соч. С. 176.
- Макаров И.Г. Указ. соч. С. 33.
- Чурапчинский улус: история, культура, фольклор / под ред. В.Н. Иванова. Якутск, 2005. 437 с.
- Попов Г.А. Сочинения : в 7 т. Якутск, 2009. Т. 4: Прошлое Якутии : сборник документов и материалов по истории Якутской АССР. 480 с.
- Иванов А.А. Указ. соч. С. 46.