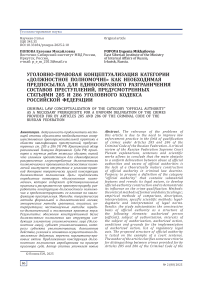Уголовно-правовая концептуализация категории «должностное полномочие» как необходимая предпосылка для единообразного разграничения составов преступлений, предусмотренных статьями 285 и 286 Уголовного кодекса Российской Федерации
Автор: Попова Е.М.
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Уголовно-правовые науки
Статья в выпуске: 2 (80), 2025 года.
Бесплатный доступ
Актуальность проблематики настоящей статьи обусловлена необходимостью совершенствования правоприменительной практики в области квалификации преступлений, предусмотренных ст. 285 и 286 УК РФ. Критический обзор разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, приговоров и научных работ позволил сделать вывод, что главным препятствием для единообразного разграничения злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий выступает отсутствие в уголовно-правовой доктрине теоретически зрелой конструкции должностного полномочия. Цель: предложить определение категории «должностное полномочие», которое содержит субстанциональные признаки и раскрывает его правовую природу, разработать конструкцию должностного полномочия и продемонстрировать ее влияние на квалификацию преступления. Методы: теоретические методы формальной и диалектической логики; эмпирические методы сравнения, описания, интерпретации; частнонаучные методы: юридико-догматический и толкования правовых норм. Результаты: обоснован конструктивный базис должностного полномочия как структура следующих элементов: уполномоченное лицо (должностное лицо), субъект уполномочивания, интересы субъекта уполномочивания, дозволенное действие, условия и основания осуществления дозволенного действия, перечень нормативно-правовых актов. Предложенная конструкция должностного полномочия апробирована на примере приговора суда. Автор статьи уточняет новые критерии разграничения преступлений, предусмотренных ст. 285 и 286 УК РФ, и показывает, как изменится представление о содержании деяний, соответствующих указанным составам.
Должностное лицо, должностные полномочия, права, обязанности, злоупотребление, превышение, квалификация, преступление, уголовно-правовая доктрина, концептуализация
Короткий адрес: https://sciup.org/142244972
IDR: 142244972 | УДК: 343.35 | DOI: 10.33184/pravgos-2025.2.10
Текст научной статьи Уголовно-правовая концептуализация категории «должностное полномочие» как необходимая предпосылка для единообразного разграничения составов преступлений, предусмотренных статьями 285 и 286 Уголовного кодекса Российской Федерации
Правоприменительная практика складывается таким образом, что расхождения в позициях стороны обвинения, стороны защиты, суда и органов предварительного следствия относительно квалификации деяния как злоупотребления или превышения должностных полномочий являются скорее правилом, чем исключением. Неоднозначный характер правовой оценки рассматриваемых должностных преступлений имеет свои причины и последствия. Анализ актуальной судебной практики показал, что нередко тонкая грань между злоупотреблением и превышением, оценочный характер общественно опасного деяния, сформулированного в диспозиции ст. 286 УК РФ как «совершение действий, явно выходящих за пределы полномочий», и принцип состязательности сторон создают предпосылки для выбора «удобной» квалификации деяния, отвечающей интересам участников уголовного судопроизводства. Органы предварительного следствия и прокурор чаще приводят доводы в пользу превышения должностных полномочий по причине отсутствия необходимости устанавливать мотив совершения преступления, ссылаясь на постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» (далее – постановление Пленума ВС РФ)1. Однако разъяснения Пленума не дают исчерпывающего ответа относительно разграничения злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий. Более того, одни рекомендации по квалификации должностных преступлений противоречат друг другу, а другие требуют конкретизации. К обстоятельному обсуждению этих вопросов вернемся позже.
Выводы, основанные на изучении приговоров судов, не противоречат официальной статистике. Согласно данным ГИАЦ МВД России за 2024 г. количество зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 286 УК РФ (3215), в два раза превышает количество зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 285 УК РФ (1633), а количество уголовных дел, возбужденных по ст. 286 УК РФ и направленных в суд с обвинительным заключением, больше в 1,7 раз количества уголовных дел, направленных в суд с обвинительным заключением, возбужденных по ст. 285 УК РФ. Динамика должностных преступлений такова, что за 2022–2024 гг. количество преступлений, предусмотренных ст. 286 УК РФ, возросло на 18,1 %, в то время как количество общественно опасных деяний, регистрируемых ведомственной статистикой по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ, сократилось на 14,7 %2.
Значимым и в то же время недооцененным фактором, препятствующим достижению участниками уголовного судопроизводства консенсуса в решении вопроса безапелляционной квалификации деяния, выступает отсутствие единого подхода к пониманию должностного полномочия. В уголовном законе не закреплено понятие «должностное полномочие», а уголовно-правовая доктрина не предлагает определение этого термина, которое не только раскрывало бы правовую природу должностного полномочия, но и способствовало формированию единообразной судебной практики с последующим сокращением пересмотра уголовных дел в судах апелляционной и кассационной инстанций. Справедливо отметить, что в современной научной литературе исследованию правовой сущности полномочия, особенно применительно к сфере публичной власти, уделяется скромное внимание. Обозначенные проблемные вопросы обосновывают целесообразность внесения в повестку перспективных правовых исследований необходимость концептуализации категории «должностное полномочие» в рамках применения уголовного закона.
Степень разработанности научной проблемы
Обзор научных работ, посвященных осмыслению полномочия как особой правовой категории, показал, что наибольшей аргументированностью и последовательностью отличается позиция И.В. Лексина и Е.И. Орешина. Они отмечают, что данный правовой феномен возник в сфере гражданских правоотношений и у цивилистов отсутствуют разногласия по поводу его смыслового содержания, поскольку выработана достаточно стройная конструкция полномочия [1, с. 40; 2, с. 115], которая включает в себя следующие субстанциональные признаки:
– полномочие имеет внешний источник прав и обязанностей, представляет собой возможность осуществлять права и обязанности другого лица, поэтому употребление данного термина возможно только в единственном числе;
– отсутствует свобода воли, поскольку уполномоченный действует в интересах уполномочившего его лица;
– объем понятия «полномочие» не охватывает объемы понятий «права» и «обязанности»; полномочие есть основание для реализации чужих прав и обязанностей, в связи с чем юридически значимые действия, совершаемые уполномоченным лицом, влекут возникновение и изменение прав и обязанностей только для уполномочившего лица.
Публично-правовая доктрина и нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность государственных и муниципальных служащих, не демонстрируют такой строгости и единообразия в употреблении термина [3, с. 22]. Уже с дореволюционных времен наблюдается устойчивая тенденция к сведению полномочия к правам и обязанностям уполномоченного лица, поэтому для публичного права стало нормой использование термина во множественном числе [4, с. 146]. Наглядным примером служат названия ст. 285 и 286 УК РФ.
Данную точку зрения на правовую сущность полномочия разделяют М.Д. Давитадзе и М.А. Мусалов. В своих работах, посвященных проблемам квалификации злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий, они указывают на отсутствие в уголовном законе понятия «должностные полномочия» [5, с. 117; 6, с. 1415]. Авторы предлагают трактовать полномочия как права и обязанности должностных лиц, которыми они наделены соответствующими нормативно-правовыми актами.
В.И. Червонюк приводит аргументы в пользу толкования должностного полномочия как права должностного лица, которое следует расценивать в качестве юридического средства осуществления возложенной на это лицо обязанности [7, с. 168].
П.В. Никонов и В.Н. Шиханов отождествляют полномочия с правами и обязанностями должностных лиц, установленными нормативными правовыми актами [8, с. 175].
Все-таки закономерно использование в названии и диспозиции ст. 285 и 286 УК РФ категории «полномочия», а не «права и обязанности», поскольку должностное лицо формально лишено свободы воли и действует в интересах службы, в то время как реализация субъективного права означает, что лицо действует по собственному усмотрению и в своих интересах.
В.А. Рясенцев приводит дополнительные доводы в пользу того, что ошибочно приравнивать полномочие к праву, поскольку в отличие от субъективного права полномочие нельзя нарушить, оно не порождает право на иск и не может быть передано в порядке цессии [9, с. 34]. Юридическая обязанность – это необходимое действие (воздержание от действия), которое имеет нормативное закрепление. Кроме того, юридическая обязанность предполагает существование лица, требующего совершения действий обязанным лицом. Должностное лицо, совершая в рамках полномочия юридически значимые действия, не становится субъектом правоотношений, обязанности возникают у уполномочившего лица.
Разберем на примере. Глава муниципального образования уполномочен подписывать акты о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости работ (КС-3) в рамках заключенных муниципальных контрактов. Это полномочие нельзя назвать правом, так как глава действует не по собственному усмотрению, а согласно установленному порядку и в интересах муниципального образования. В частности, указанные в акте виды и объемы выполненных работ должны строго соответствовать локальному сметному расчету. Данное полномочие нельзя приравнять к обязанности. Во-первых, подписание указанных документов не носит необходимого характера. Во-вторых, отсутствует лицо, перед которым глава несет обязанность подписывать отчетную документацию. Исполнитель работ не имеет права требования к должностному лицу, поскольку, как было подчеркнуто ранее, обязанности по контракту возникают у муниципального образования, лично для должностного лица заключение и исполнение контракта не влечет юридических последствий. Само муниципальное об- разование – это субъект, который не требует подписания документов, а предоставляет возможность должностному лицу принимать решения о подписании КС-2 и КС-3, руководствуясь интересами муниципального образования.
Тот факт, что в уголовно-правовой доктрине достаточно прочно укоренилось представление о полномочии как о совокупности прав и обязанностей, во многом объясняется позицией Верховного Суда РФ, изложенной в постановлении Пленума ВС РФ: под злоупотреблением полномочиями следует понимать совершение лицом деяний, которые хотя и были непосредственно связаны с осуществлением им своих прав и обязанностей, однако не вызывались служебной необходимостью и объективно противоречили целям и задачам, для достижения которых это лицо было наделено соответствующими полномочиями.
Следует признать, что наибольшей ортодоксальностью и теоретической зрелостью отличаются суждения о правовой природе полномочия, высказанные И.В. Лексиным, Е.И. Орешиным, А.В. Шмидтом [1, с. 56; 2, с. 119; 10, с. 199]. В их научных работах должностное полномочие определяется как факультативная характеристика правового статуса лица, состоящая в нормативно закрепленной возможности принимать юридически значимые решения и осуществлять соответствующие действия (функции) в интересах государства и общества.
Уголовно-правовая концептуализация категории «должностное полномочие»
Концептуализация представляет собой результат осмысления правового феномена на уровне категорий. Категория как универсальная форма мышления отражает наиболее существенные признаки явления. Автором предпринята попытка посредством анализа и обобщения академических трудов и судебной практики выделить субстанциональные признаки должностного полномочия и предложить конструктивную основу использования данной категории в уголовноправовой доктрине.
Должностное полномочие – это дозволение должностному лицу осуществлять действия в интересах общества и государства, а также условия и основания их осущест- вления, регламентированные нормативноправовыми актами. Исходя из предложенного определения, конструкцию должностного полномочия целесообразно представить как структуру следующих элементов:
-
– уполномоченное лицо (должностное лицо);
-
– субъект уполномочивания;
-
– интересы субъекта уполномочивания;
-
– дозволенное действие;
-
– условия и основания осуществления дозволенного действия, регламентированные нормативно-правовыми актами;
-
– перечень нормативно-правовых актов, однозначно определяющих перечисленные элементы.
Рассмотрим элементы, демонстрируя тесную взаимосвязь между ними и тем самым обосновывая необходимый характер каждого из них.
Во-первых, должностное лицо, реализующее полномочие, является не представителем в классическом понимании института представительства, а выполняет общественно важные задачи, действуя в интересах общества и государства. Если в частноправовой сфере полномочие предоставляется конкретным физическим или юридическим лицом, то в публично-правой сфере уполномочивший субъект не сводится к одному лицу – должностные лица действуют одновременно в интересах нескольких субъектов, что обусловлено аффилированностью государственных и муниципальных учреждений и предприятий с публично-правовыми образованиями. Например, директор школы в сельском поселении действует в интересах школы как бюджетного учреждения соответствующего муниципального округа, являющегося учредителем школы, и комитета образования администрации муниципального округа, выполняющего функции и полномочия учредителя. Во-вторых, в гражданских правоотношениях наделение представителя полномочием носит индивидуальный характер, а в публичноправовой сфере – нормативный, так как действует ряд нормативно-правовых актов, закрепляющих за должностным лицом полномочия и устанавливающих круг интересов субъектов уполномочивания.
Индуктивным путем выделим субъекты уполномочивания должностных лиц и нормативно-правовые акты, раскрывающие содержание интересов соответствующих субъектов. В зависимости от уровня публичной власти, которой принадлежит должностное лицо, уполномочившими субъектами выступают Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование. Законные интересы данного уполномочившего субъекта нормативно закреплены в Конституции РФ или республик, уставах краев, областей, муниципальных образований и, как правило, выражаются в обеспечении благополучия и безопасности населения как высшей цели осуществления государственной власти и местного самоуправления.
Следующим субъектом уполномочивания выступают органы публичной власти, где должностное лицо непосредственно осуществляет деятельность. Интересы органов государственной власти уточняются в задачах и функциях, которые регламентируются в положении об органе, утверждаемом постановлением правительства субъекта Российской Федерации.
Еще одним субъектом уполномочивания являются государственные и муниципальные учреждения, унитарные предприятия, компании, корпорации. Законные интересы перечисленных субъектов конкретизируются в целях их деятельности, изложенных в уставах предприятий или учреждений.
Особо следует акцентировать внимание на том, что необходимыми элементами конструкции должностного полномочия выступают условия и основания осуществления дозволенного действия. Неотъемлемость этих составляющих в структуре должностного полномочия объясняется следующим образом: поскольку должностное лицо действует исключительно в интересах общества и государства, необходимо очертить границы этих действий, которыми выступают регламентированные нормативными правовыми актами условия и основания. Существует еще одна причина приоритетного рассмотрения именно этого элемента конструкции должностного полномочия. Условия и основания – краеугольный камень в решении проблемы единообразного разграничения составов пре- ступлений, предусмотренных ст. 285 и 286 УК РФ. Ранее было обозначено, что некоторые рекомендации постановления Пленума ВС РФ по квалификации должностных преступлений противоречат друг другу. Самое время предметно обсудить данный вопрос.
Согласно ч. 15 постановления Пленума ВС РФ как злоупотребление должностными полномочиями должны квалифицироваться действия должностного лица, которые входят в круг его должностных полномочий, однако отсутствуют обязательные условия или основания для их совершения. В то же время в соответствии с ч. 19 указанного постановления превышение должностных полномочий может выражаться в совершении должностным лицом действий, которые могут быть совершены только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте. Противоречие этих рекомендаций заключается в том, что действия, которые были совершены должностным лицом и которые он уполномочен совершать, но при этом отсутствовали обязательные условия и основания для их совершения, Верховный Суд предлагает одновременно квалифицировать и как злоупотребление, и как превышение. Прямым следствием выявленного противоречия является пересмотр уголовных дел в судах апелляционной и кассационной инстанций.
Главная причина того, что участники уголовного судопроизводства по-разному трактуют положения уголовного закона и постановления Пленума ВС РФ, в то время как сами рекомендации Пленума носят двоякий и непоследовательный характер, заключается в отсутствии конструктивной основы использования категории «должностное полномочие» в уголовно-правовой доктрине. Возвращаясь к ранее приведенным выдержкам из постановления Пленума ВС РФ, можно наглядно продемонстрировать, как конструкция полномочия влияет на квалификацию деяния. В случае, когда Верховный Суд дает указание квалифицировать действие как злоупотребление должностными полномочиями (ч. 15), конструкция должностного полномочия ограничивается дозволенным действием. В случае, когда Верховный Суд дает указание квалифицировать действие как превышение должностных полномочий (ч. 19), конструкция должностного полномочия включает не только дозволенное действие, но и условия и основания, необходимые для его совершения.
Апробация предложенной конструкции должностного полномочия на примере приговора, вынесенного Добрянским районным судом 19 июля 2021 г. по делу № 1-103/2021
Начальник МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства администрации Добрянского муниципального района», выполняя функции заказчика по муниципальному контракту:
– согласовал замену тротуарной плитки «Старый город», указанной в локальном сметном расчете к контракту, на тротуарную плитку «Катушка», которая не обладает улучшенными техническими и функциональными характеристиками по сравнению с тротуарной плиткой «Старый город»;
– подписал акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), в которых не была отражена замена более дешевой плитки и одновременно были отражены фактически невыполненные работы по закупке и высадке цветов-многолетников, что имело своим следствием необоснованное расходование бюджетных средств в размере 971 815,94 руб.3
Органы предварительного расследования квалифицировали указанные действия по ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 292 УК РФ. Однако суд, исследовав представленные доказательства, посчитал, что действия начальника МКУ органами предварительного следствия ошибочно квалифицированы по ч. 1 ст. 286 УК РФ, и квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 285 УК РФ. Особый интерес представляют аргументы, которые приводились в обоснование квалификации.
Органы предварительного расследования ссылались на ч. 7 ст. 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ4, согласно которой при исполнении муниципально- го контракта заказчик имеет полномочие согласовать замену товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. Начальник МКУ не имел полномочия согласовывать замену тротуарной плитки и, как следствие, принимать выполненные работы, приемка которых осуществляется посредством подписания акта по форме КС-2. Добрянский районный суд, в свою очередь, ссылаясь на Положение об Управлении жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, в котором перечислены функции начальника МКУ, в частности полномочие заключать контракты и распоряжаться финансовыми средствами Управления в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключил, что в силу своих должностных обязанностей он имел полномочия на подписание акта по форме КС-2.
Разногласия по квалификации деяния возникли из-за разного понимания того, что есть должностное полномочие. Органы предварительного следствия трактуют полномочие как дозволенное действие и основания (условия) для его совершения, а именно не просто «согласовать», а «согласовать замену при условии, что товары, работы, услуги лучше по качественным и техническим характеристикам», не просто «подписать акт КС-2», а «подписать акт КС-2, если виды и объем фактически выполненных работ соответствуют локальному сметному расчету». Суд сводит содержание полномочия исключительно к дозволенному действию, поэтому квалифицирует действия начальника МКУ как злоупотребление должностными полномочиями.
Анализируемый приговор суда наглядно показывает значимость концептуализации должностного полномочия для единообразного разграничения злоупотребления и превышения.
Как самостоятельный и замыкающий элемент конструкции должностного полномочия был выделен перечень нормативноправовых актов. Правильно определенные источники закрепления должностного полномочия выступают необходимой предпосылкой для правильного применения уголовного закона и, как следствие, вынесения законного и обоснованного приговора (ст. 297 УПК РФ). Верховный Суд РФ в ч. 22 постановления Пленума рекомендует судам выяснять, какими нормативными правовыми актами, а также иными документами установлены права и обязанности обвиняемого должностного лица, приводить их в приговоре и указывать, злоупотребление какими из этих прав и обязанностей или превышение каких из них вменяются в вину, ссылаясь при этом на конкретные нормы (статью, часть, пункт).
Настоящий приговор суда вскрывает причину ошибочной квалификации деяния, которая заключается в ненадлежащем исследовании законодательных и правоприменительных актов. Правильность квалификации действий начальника МКУ, которую дает Добрянский районный суд, можно поставить под сомнение:
-
– суд приходит к выводу о наличии полномочия подписывать акт по форме КС-2, ссылаясь только на Положение об Управлении жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, в котором сформулированы общие функции должностного лица, при этом не принимает во внимание содержание Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и самого муниципального контракта;
-
– суд выводит полномочие подписывать акт по форме КС-2 из перечня функций путем простого перечисления, без указания конкретных пунктов и частей данного Положения;
– вызывает большие вопросы вердикт суда о наличии полномочия подписывать акт по форме КС-2, который основывается на закрепленных в Положении функциях заключать контракты и распоряжаться финансовыми средствами Управления. Подобного рода дедукция неуместна.
Требование Верховного Суда РФ максимально конкретизировать полномочие посредством ссылки на пункт, часть, статью правового акта оправданно. Оставление без внимания районным судом положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и условий муниципального контракта привело к неверно построенной конструкции должностного полномочия и в итоге к ошибочной квалификации деяния. В частности, ч. 7 ст. 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ однозначно определяет полномо- чие начальника МКУ как заказчика по муниципальному контракту согласовывать замену тротуарной плитки только с улучшенными качественными характеристиками и только в этом случае осуществлять приемку работ посредством подписания акта по форме КС-2.
Изучение похожих приговоров суда позволило сделать вывод, что достаточно часто ни органы предварительного расследования, ни суды не включают в перечень правовых актов, регламентирующих должностные полномочия, государственные (муниципальные) контракты. В то же время во многих контрактах в разделе «Порядок расчетов» есть пункт, согласно которому, если объем фактически выполненных работ окажется меньше объема, определенного в проектно-сметной документации, заказчик производит оплату пропорционально объему фактически выполненных работ. Из этого следует, что должностное лицо, реализуя функции заказчика, имеет полномочие подписывать акт по форме КС-2 только в части выполненных работ. То есть полномочие неправомерно сводить только к дозволенному действию, проявляющемуся в подписании акта, игнорируя обязательные условия, установленные контрактной документацией.
Заключение
В свете предложенной концепции включения в категорию «должностное полномочие» оснований и условий осуществления дозволенного действия целесообразно уточнить новые критерии разграничения преступлений, предусмотренных ст. 285 и 286 УК РФ, и показать, как изменится представление о содержании деяний, соответствующих указанным составам. Отправной точкой для правильного применения уголовного закона служит перечень нормативно-правовых актов и иных документов, от полноты и релевантности которого зависит верная квалификация общественно опасного деяния. В связи с этим первый критерий разграничения – наличие нормативно-правовых актов, локальных актов, положений, писем, должностных инструкций, контрактной документации, регламентирующих условия и основания, наступление которых необходимо для реализации дозволенного действия.
Если в обозначенных нормативных правовых и правоприменительных актах не прописаны основания и условия для использования полномочий, то деяние следует квалифицировать как злоупотребление должностными полномочиями, поскольку не устанавливаются пределы допустимых действий, а значит, не представляется возможным квалифицировать деяние как «явно выходящее за пределы полномочий», то есть превышение. В случае, когда условия и основания имеют юридическое закрепление, то формируются достаточно весомые предпосылки для квалификации содеянного как превышения должностных полномочий. Когда устанавливаются границы дозволенного действия посредством закрепления в нормативных правовых актах условий и оснований, задача правоприменителя сводится к поиску ответа на вопрос о том, не выходит ли совершенное деяние за эти границы. Однако более точная квалификация становится возможной после применения второго критерия.
Второй критерий разграничения – степень конкретизации условий и оснований. Здесь речь идет о праве усмотрения должностного лица, которое предполагает отсутствие строго регламентированного порядка, необходимости соблюдения жестко установленных критериев и которое, как следствие, выражается в некоторой свободе действий, ограничиваемой интересами службы. Таким образом, чем ниже степень конкретизации условий и оснований, тем больше предпосылок для квалификации деяния как злоупотребления. Напротив, если правовыми актами устанавливаются определенный диапазон допустимых вариантов действий, четкие критерии, которым необходимо соответствовать для осуществления дозволенного действия, то выход за эти границы означает превышение должностных полномочий.
Продемонстрируем применение обозначенных критериев разграничения составов преступления на вступившем в законную силу приговоре суда.
Ленинским районным судом г. Ижевска был вынесен обвинительный приговор по ч. 1 ст. 285 УК РФ в отношении заместителя директора ГОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычай- ным ситуациям и пожарной безопасности Удмуртской Республики» (далее – ГОУ ДПО «УМЦ УР»)5. Судом было установлено, что ФИО1 злоупотребила должностными полномочиями. Это выражалось в увеличении размера премии работникам учреждения с последующим получением части от указанных премий. Применяя первый критерий разграничения, приходим к выводу, что действует ряд нормативных правовых актов, закрепляющих условия и основания для подписания приказов о премировании, а именно Устав ГОУ ДПО «УМЦ УР» от 31 декабря 2020 г. и Положение о премировании работников ГОУ ДПО «УМЦ УР» от 16 января 2013 г. Следовательно, имеются предпосылки для квалификации деяния как превышения должностных полномочий. Однако более весомые аргументы можно получить после применения второго критерия разграничения, в частности, определив, насколько строго очерчиваются рамки дозволенного поведения и вписывается ли в них совершенное противоправное деяние.
На основе анализа описательно-мотивировочной части приговора суда были выделены четыре основания и условия премирования: 1) периодичность (месяц, квартал, полугодие, год); 2) максимально допустимый размер премии – не более 34 % от оклада; 3) условия – ежемесячные премии начисляются за конечные результаты работы согласно трудовому вкладу; 4) источники стимулирующих выплат – если стимулирующие выплаты осуществляются за счет доходов от деятельности учреждения, то должна быть создана комиссия, поскольку директор не имеет полномочий единолично определять расходование внебюджетных денежных средств на выплаты стимулирующего характер. Таким образом, весьма резонно утверждать о достаточно высокой степени конкретизации условий и оснований для выплаты премий.
Чтобы сделать окончательный вывод о квалификации, необходимо провести детальный анализ совершенного деяния на предмет соответствия данным критериям премирования. Другими словами, сопоставить фактическое деяние с «эталонным» полномочием, сконструированным из положений нормативных правовых актов.
Судом было установлено, что суммы премий были несоразмерны трудовому вкладу работников, составляли более 100 % от размера оклада, выплачивались ФИО1 за счет внебюджетных источников денежных средств единолично, без образования комиссии. Таким образом, ФИО1 выдавала премии при отсутствии обязательных условий и оснований, а значит, не имела на то соответствующих полномочий и содеянное следует квалифицировать по ст. 286 УК РФ.
Кроме того, ФИО1 заключала с теми же работниками учреждения дополнительные соглашения к трудовому договору, в рамках которых были предусмотрены ежемесячные выплаты в размере 10 тыс. руб. Впоследствии часть этих выплат передавалась ФИО1. Согласно приказу ГОУ ДПО «УМЦ УР» с сотрудниками учреждения правомерно заключать такие соглашения, если дополнительные работы не входят в их обязанности по трудовому договору. Однако приказом не конкретизируются виды, характер, объем и стоимость таких работ. Формально ФИО1 действовала в рамках предоставленных ей полномочий, а именно реализовывала право усмотрения. Хотя судом было установлено, что отраженные в соглашении дополнительные виды работ не входят в круг обязанностей, закрепленных трудовым договором, после заключения соглашений фактический объем работы не увеличился, так как работники учреждения ранее выполняли работы, которые впоследствии стали предметом соглашения. Исходя из изложенного можно констатировать, что правовые основания и условия для заключения подобных соглашений были, но их заключение не вызвано служебной необходимостью, противоречит интересам службы, закрепленным в Уставе учреждения, состоящим в целевом и эффективном использовании денежных средств учреждения. Таким образом, последовательное применение выделенных нами критериев разграничения составов преступлений позволяет сделать вывод, что совершенное ФИО1 деяние соответствует объективной стороне ст. 285 УК РФ.