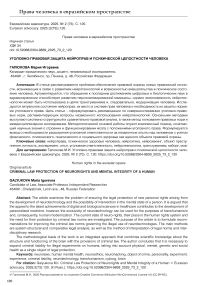Уголовно-правовая защита нейроправ и психической целостности человека
Автор: Галюкова М.И.
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Права человека в Евразийском пространстве
Статья в выпуске: 2 (73), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема обеспечения правовой охраны новых правомочий личности, возникающих в связи с развитием нейротехнологий и возможностью вмешательства в психическое состояние человека. Аргументируется, что обращение к последним достижениям цифровых и биологических наук в здравоохранении способствует развитию персонализированной медицины, однако эксклюзивность нейротехнологии может быть использована в целях трансгуманизма и, следовательно, модернизации человека. Исследуются актуальное состояние нейроправ, их место в системе прав человека и необходимость их защиты нормами уголовного права. Цель статьи – сформулировать рекомендации по совершенствованию уголовно-правовых норм, регламентирующих вопросы незаконного использования нейротехнологий. Основными методами выступают системно-структурный и сравнительно-правовой анализ, а также метод толкования правовых норм и междисциплинарное исследование. Методологической основой работы служит комплексный подход, сочетающий научные знания о строении и функционировании мозга с положениями уголовного права. Формулируется вывод о необходимости расширения уголовной ответственности за незаконные опыты над человеком с учетом физического, психического, генетического и социального здоровья как единого объекта правовой охраны.
Нейроправа, психическое здоровье человека, нейроэтика, нейрохакинг, объект преступления, личность, эксперимент, опыт, уголовная ответственность, нейротехнологии, трансгуманизм, киборг, мозг
Короткий адрес: https://sciup.org/140309900
IDR: 140309900 | УДК: 34 | DOI: 10.52068/2304-9839_2025_73_2_120
Текст научной статьи Уголовно-правовая защита нейроправ и психической целостности человека
Современные научные достижения в области нейробиологии и нейровизуализации неразрывно связаны с этическими, правовыми и социальными вопросами обеспечения конфиденциальности личной жизни человека, а также аспектами безопасности его здоровья.
Отметим, что 2024 год ознаменовался существенными достижениями в области НБИК-технологий, а именно созданы и разработаны: новые чипы Science для интерфейсов; двусторонний чип для спинного мозга; беспроводной доступ к мозгу через спинномозговую жидкость.
Кроме того, Precision Neuroscience, занимаясь нейровизуализацией и нейрореабилитацией, установила рекорд по количеству электродов в мозге человека, а российские ученые в рамках инновационного эксперимента подключили мозг крысы к искусственному интеллекту и модернизировали спинальный нейропротез при помощи нейроинтерфейса от компании «НейроЧат».
В этом же году из доклада ЮНЕСКО (22– 26 апреля 2024 г.) стало известно, что нейротехнологии могут записывать и передавать данные мозга и цифровые данные, связанные с активностью мозга, что может нарушать конфиденциальность психики. Помимо этого, нейротехнологии могут трансформировать личность. Например, с помощью методов модификации памяти люди могут изменить содержание воспоминаний и, следовательно, свою личность [15]. Данные тезисы вызвали обеспокоенность в политическом и научном сообществе, что привело к новому витку обсуждений о целесообразности защиты нейроправ человека [17].
Институт нейроправ человека достаточно молодой, он был основан в 2017 г. Рафаэлем Юстом на базе двух общественных организаций – Международная инициатива по изучению мозга (IBI) и Morningside Group [35]. Ученым активно была использована терминология, связанная с нейропсихологией и введенная в оборот J.S. Taylor, A. Harp, T. Elliott [34] еще в 1991 г.
Не вызывает сомнений факт, что фундаментом формирования нейроправ человека выступают нейронауки.
Термин «нейронауки» в официальном научном пространстве прозвучал только в 1962 г. как часть названия исследовательской программы Массачусетского технологического института Neurosciences Research Program [11], несмотря на то, что фактически данный вид наук существовал в медицине со времен Авиценны. Разумеется, современная неврология, нейрофизиология и нейрохирургия не имеют ничего общего, например, с попытками исследовать таламус (отдел головного мозга), предпринятыми Галеном. В то же время нейробиология, нейрохимия, нейровизуализация, социальная нейронаука, нейротеология, нейроэкономика прочно коинтегрированы в нейроинформатику, нейролингвистику и нейропсихологию, нейроэтику и нейромаркетинг. Нейронауки в совокупности позволяют понять строение мозга и получить представление о сознании, мыслительных процессах, высших психических функциях [1].
Следует подчеркнуть, что нейротехнологии – это в первую очередь группа технологий, получающих распространение на практике вследствие развития нейронаук (нейрофизиологии, нейробиологии, нейроинженерии, нейроинформатики и т. д.) [6, 30].
На сегодняшний день нейротехнологии можно определить как область технических устройств и процедур, используемых для доступа, мониторинга, исследования, оценки, манипулирования и (или) эмуляции структуры и функций нейронных систем животных или людей [25].
Правовое пространство в Российской Федерации открыто для развития новейших научных достижений, в том числе широкого использования нейротехнологий. Во исполнение указов Президента РФ от 28 февраля 2024 г. № 145 «О стратегии научно-технического развития Российской Федерации», от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», от 18 июня 2024 г. № 529 «Об утверждении приоритетных направлений научно-технического развития и перечня важнейших наукоемких технологий» создан межведомственный научный совет по нейронаукам (далее – Совет) (утв. Постановлением Президиума РАН от 26 ноября 2024 г. № 218), позволяющий рационально сочетать последние достижения науки с позициями биоэтики и права.
Постановлением Правительства РФ «Об утверждении перечня технологий, применяемых в рамках экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций», дорожной картой «Нейронет» предусмотрено последовательное развитие рынка средств человеко-машинных коммуникаций в рамках высокотехнологичной помощи путем нейропротезирования конечностей и органов чувств, разработки устройств и имплантов для нейромодуляции и лечения заболеваний нервной системы, использования нейроинтефей-сов, интегрированных в экзоскелеты, протезы, инвалидные коляски, системы «умный дом», а также крайне важные для пациентов после инсульта и травм мозга системы нейрореабилитации.
В настоящее время дорожную карту «Ней-ронет», утвержденную распоряжением Правительства от 30 марта 2018 г. № 552-р, успешно выполняет кластер «Сколково» и его структурные подразделения. Так, в 2021 г. ученые из Лаборатории «Сенсор-Тех» (резидент «Сколково») совместно с фондом поддержки слепоглухих «Соединение» при поддержке Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН и Центра коллективного проектирования Российского технологического университета МИРЭА создали имплант для вживления в кору головного мозга ELVIS [14].
В связи с изложенным возникает вопрос, действительно ли нейротехнологии опасны или это просто очередной этап эволюции человека.
Мы убеждены, что сами по себе нейротехнологии нейтральны, но их использование в отсутствие надлежащего правового контроля со стороны государства может повлечь существенные риски для здоровья человека и общества. В частности, Марчелло Иенка, Джакомо Валле, Стани-са Распопови в своем исследовании утверждают, что использование нейротехнологий может приводить к смещению границ персонального сознания человека. В связи с этим следует проводить динамическую оценку умственных способностей испытуемого, так как увеличение когнитивной нагрузки при использовании нейропротезов может привести к малопрогнозируемым результатам апробации. Ученые также подчеркивают, что необходима переоценка существующих стандартов безопасности нейроданных [33, 27].
Стремительное развитие НБИК-технологий, взаимодействующих с человеческим мозгом, поднимает ряд биоэтических аспектов, в том числе связанных с эволюцией человека. На первый план выходят такие понятия, как «психическая целостность», «психическая неприкосновенность», «человеческое (психическое) достоинство», «идентичность личности», «свобода мысли». Иными словами, использование нейротехнологий должно быть регламентировано с позиции нейроэтики, а гражданское и уголовное законодательство должно быть нацелено на урегулирование вопросов нейрохакинга.
Р. Болтон и Р. Томас выделяют нейрохакинг как разновидность биохакинга с его специфическими формами и этосом борьбы за демократизацию научно-технологических инноваций [32].
Действительно, нейрохакинг – это одна из форм биохакинга, направленная на вмешатель- ство в структуру или функцию нейронов для восстановления или улучшения работы мозга и центральной нервной системы. Его целью является достижение и сохранение оптимального психического здоровья человека [26].
Современная медицина успешно использует результаты инновационных технологий для лечения и реабилитации пациентов с поражением нервной системы. По сути, речь идет о нейрохакинге по медицинским показаниям. В остальных ситуациях, в том числе в случаях бытового, или «гаражного», нейромодифицирования человека, использование последнего должно быть не просто ограничено, а запрещено, поскольку может привести к бесконтрольному применению технологий двойного назначения.
Последствия нейрохакинга могут заключаться в психических расстройствах, функциональных и морфологических нарушениях работы центральной нервной системы и организма человека в целом, а также привести к созданию человека-киборга.
Игнорировать термин «киборг» и говорить о его некорректности в части применения к человеку, в том числе по причине отсутствия разработанной научной терминологии и явного заимствования понятия из фантастической литературы и фильмов [3], на сегодняшний день не представляется возможным, так как ученые уже вводят новую отрасль права – «права киборгов» [29] и с уверенностью заявляют о процессе киборгизации человека [24].
Вопрос исследования природы и сущности киборга является актуальным и по причине его активного использования сторонниками теории трансгуманизма [19].
П.С. Гуляева анализирует возможность использования медицинских наноботов в организме человека, не отрицая при этом перспективу применения и более масштабных конструкций, интегрированных в тело человека [9].
В.А. Чукреев под кибернетическим организмом (киборгом) понимает человека, чьи физические, анатомические, физиологические, психические способности выходят за пределы нормальных, обычных с помощью вживляемого или носимого устройства (интегрированная человеко-машинная система), и для целей уголовного права предлагает классифицировать людей-киборгов на людей, которым необходимы импланты для восстановления утраченных функций (больные или инвалиды), здоровых людей, которые вживляют в тело или приспосабливают снаружи тела устройства для придания себе дополнительных свойств, и людей, которые не знают, что ими управляют другие люди [28].
На наш взгляд, более точным будет являться использование термина «модицифированный человек», что позволит одновременно рассматривать проблему правового статуса человека-киборга и человека-химеры, т. е. человека, который в результате экспериментов сочетает в себе физические свойства человека и животного [13].
Модификация человека может возникать в результате вмешательства в геном либо в ситуациях человек-биоимплант, человек-БКП, человек-компьютер, человек-нанобот, человек-экзоскелет, человек-химера (в том числе гельминтная, вирусная или прионная и т. д. формы). В первом случае правомерно говорить о целенаправленно генно-модицифированном человеке, во втором следует ограничиться общим понятием модифицированного человека, так как формы и виды модификации человека будут увеличиваться с ростом научного прогресса.
С позиции уголовного права важно установить, что любая модификация человека должна быть регламентирована и осуществляться в рамках стандартов оказания медицинской помощи либо клинических рекомендаций, а также клинической апробации. Соответственно, не отрицая право человека на самостоятельное распоряжение своим телом и улучшение когнитивных и функциональных потребностей, необходимо констатировать, что использование био- и нейрохакинга должно быть регламентировано, от этого зависит, в каких ситуациях модифицированный человек может быть признан потерпевшим.
Соответственно, если мы называем модифицированного человека потерпевшим, то возникает вопрос, какие права в данном случае могут быть нарушены незаконным экспериментом.
Напомним, что нейрохакинг может быть как неинвазивным, так и инвазивным. Опасность последнего заключается в том, что, помимо реализации лечебной функции, внедренные в мозг импланты могут начать процесс социального конструирования реальности при помощи технологий обработки человеческого сознания: технологий high-hume, социальных технологий для поддержания общественного порядка, технологий виртуальной и дополненной реальности. Нейрокомпьютерные интерфейсы будут способствовать мягкому варианту киборгизации человека со всеми вытекающими социокультурными последствиями [30].
А.А. Бондаренко выделяет три подхода к легализации нейрохакинга:
-
1) полная легализация кибер-физических систем и разработка соответствующей нормативной правовой базы;
-
2) гибкое или смешанное регулирование, допускающее использование нейротехнологий (за исключением тех, которые сопряжены с неоправданными рисками);
-
3) полный запрет существующих технологий [7].
Реализация любого из этих направлений возможна только путем детерминирования нейроправ человека.
Нейроправа представляют собой новые виды человеческих правопритязаний, связанные с развитием нейро-, био-, информационно-коммуникационных технологий (НБИК-технологий) [16].
-
Р. Андорно и М. Иенко предложили первую классификацию нейроправ, в основе которой лежало право на когнитивную свободу [31].
К этому базовому нейроправу добавились право на неприкосновенность мыслительной деятельности (право на психическую неприкосновенность), право на психическую целостность, право на преемственность личности до и после нейротехнологий.
В рамках настоящей статьи мы остановимся только на праве на психическую целостность.
По сути, психическая целостность – это одна из граней психического здоровья.
А.И. Семешко и М.Г. Суханова справедливо отмечают, что для возможности защиты от причинения вреда психическому здоровью личности видится необходимым определить понятие, содержание и основы нормативного регулирования права на психическую целостность человека [22].
В научной литературе допускается смешение понятий «психическая целостность», «психическая неприкосновенность» и «психическое здоровье». Данный подход приводит к тому, что любая попытка разграничить все нейроправа еще более размывает границы между ними [1].
Разумеется, непросто определить целостность человека одной емкой дефиницией, хотя бы потому, что целостный человек – многоуровневая система, в которой вершинное место занимает сознание [18]. Необходимо выстроить подход к психической неприкосновенности как самостоятельной правовой категории, а психическую целостность детерминировать как внутреннюю составляющую психического здоровья, которая формирует идентичность личность.
Можно предположить, что неконтролируемое использование нейротехнологий способно привести к изменению психического статуса личности, в том числе в части восприятия человеком его собственной уникальности. Средства нейрохакинга могут быть использованы как для лечения, так и для модуляции нейросигналов. Например, американский психолог К. Даттон участвовал в опыте, когда под воздействием фармпрепаратов и электроимпульсов состояние его психики было приближено по параметрам к сознанию психопата [10]. Подобного рода эксперименты, в том числе с глубокой стимуляцией структур мозга, могут привести к изменению его работы и полной трансформации сознания. Безусловно, комплаенс «мозг – интерфейс» приведет к улучшению когнитивных способностей человека, но в то же время создаст мозг киборга, не исключена и потеря собственного «я», особенно если в результате доступа к мозгу происходит редактирование собственных воспоминаний человека.
Заявления о том, что мы используем нейротехнологии исключительно для улучшения здоровья человека и защиты его права на жизнь и свободу, включая психическую, носят декларативный характер и не обеспечены какими-либо социальными и правовыми регуляторами.
Уголовный закон защищает право на психическое здоровье человека (ст. 110, 110.1, 110.2, 111, 117, 119 УК РФ), однако имеющегося правового ресурса недостаточно. Прогрессивное развитие НБИК-технологий предоставляет потенциальному преступнику новые способы причинения вреда психическому здоровью человека.
Прежде чем предлагать способы адаптации уже существующих уголовно-правовых норм к современным реалиям либо создавать актуальные составы преступлений против киборгизации человека, следует определить объект уголовноправовой защиты.
Раздел VII УК РФ имеет название «Преступления против личности». При этом с 1996 г. не утихают споры о том, что является родовым объектом данного раздела и как он соотносится с видовым объектом преступления – личностью или человеком [8]. Мы полагаем, что четвертая промышленная революция дала однозначный ответ на этот вопрос: человек, который имеет физическое, психическое (в редакции ВОЗ – душевное), генетическое и социальное здоровье.
Поясним данную мысль на следующем примере. Ученый, используя аналог технологии Илона Маска с целью излечения парализованного человека, вживляет в его мозг чип, который полностью меняет сознание и восприятие собственного «я» испытуемого, т. е. меняется личность челове- ка. Данное действие пока затруднительно квалифицировать по какой-либо статье УК РФ, тем не менее деяние явно противозаконное и общественно опасное. В этом случае вред причиняется психическому здоровью человека, нарушается его психическая целостность, даже при условии, что его двигательная функция восстановлена. Соответственно, непосредственным объектом предполагаемого преступления будет здоровье человека (психическое), видовым – личность человека как «совокупность биологических, социальных и иных качеств» [23], родовым – человек. Дополнительно отметим, что психическое здоровье – это важная составляющая личности [5].
Понятие «человек» намного шире понятия «личность», так как личность – это определенный этап развития человека, при этом мозг не каждого человека сможет развить личность.
Вмешательство в личность возможно как напрямую (например, технологии нейролингвистического программирования), так и путем воздействия на физическую составляющую человека (внедрение чипа или электродов в мозг человека).
В российском законодательстве существует термин «клиническая апробация», определяемый как практическое применение разработанных и ранее не применявшихся методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи для подтверждения доказательств их эффективности (ст. 36.1 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).
В то же время в ситуациях, когда эксперимент проводится вне рамок клинической апробации в медицинском (научном) или ином учреждении, мы говорим об опыте над человеком.
Российское уголовное законодательство не предусматривает запрета на проведение незаконных исследований над человеком. При этом нельзя с уверенностью утверждать, что моделируемое деяние является пыткой (ст. 117 УК РФ). С определенной долей условности можно предположить, что имеется возможность квалифицировать содеянное по ст. 111 УК РФ, т. е. на основании признака причинения тяжкого вреда здоровью в виде психического расстройства. На наш взгляд, такая квалификация не позволяет в полной мере отразить всю степень общественной опасности содеянного.
Депутатом А.В. Чуевым был предложен проект федерального закона № 365581-3 «О внесении дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации, предусматривающих уголовную ответственность за проведение медицинских экспериментов (опытов) на людях без их добровольного согласия», однако он не получил должной поддержки и был снят с рассмотрения.
Мы полагаем, что законодателю следует вернуться к данному вопросу.
В заключение отметим, что нейроправа являются важной и самостоятельной составляющей четвертого поколения прав человека, при этом их содержание находится на начальном этапе формирования и тесно связано с конституционным и гражданским правом. Именно изучение структуры каждого нейроправа в отдельности и их совокупности позволит сформировать био-этические принципы и законодательные положения, направленные на защиту биоиндивидуальности человека. При этом не стоит забывать о том, что через призму нейроправ подлежит совершенствованию и уголовно-правовое законодательство, которое имеет базовые нормы, позволяющие реагировать на вызовы, предлагаемые обществу незаконным использованием нейротехнологий. Изложенное позволяет утверждать, что необходима более системная и в то же время специальная уголовно-правовая защита личности. Первым этапом ее разработки должно стать создание отдельного состава преступления против незаконного эксперимента над человеком с обязательным акцентированием внимания на объекте данного преступления.