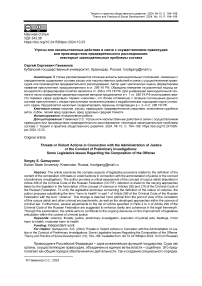Угрозы или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования: некоторые законодательные проблемы состава
Автор: Гамаюнов С.С.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 10, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются сложные аспекты законодательных положений, связанных с определением содержания состава угрозы или насильственных действий в связи с осуществлением правосудия или производства предварительного расследования. Автор дает критическую оценку формулировке названия преступления, предусмотренного в ст. 296 УК РФ. Обращено внимание на различный подход законодателя к формулировке понятия насилия в ст. 296 и 318 УК РФ. Для унификации законодательной техники в части определения характера насилия автором предлагается в ч. 1 ст. 296 УК РФ использовать вместо термина «вред здоровью» термин «насилие», что более оптимально с позиции соотношения данного состава преступления с иными преступными посягательствами и выработанными подходами науки уголовного права. Предлагается несколько скорректировать перечень потерпевших в ч. 2-4 ст. 296 УК РФ.
Насилие, угрозы, правосудие, предварительное следствие, исполнение судебных актов, побои, легкий вред здоровью, вред здоровью средней тяжести
Короткий адрес: https://sciup.org/149146590
IDR: 149146590 | УДК: 343.36 | DOI: 10.24158/tipor.2024.10.23
Текст научной статьи Угрозы или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования: некоторые законодательные проблемы состава
В частности, таким специальным порядком, выступающим гарантией осуществления правосудия, являются нормы гл. 31 УК РФ, предусматривающие ответственность за посягательства на общественные отношения в сфере обеспечения нормальной деятельностью всех видов судов, а также органов, им содействующих, – следственных подразделений, прокуратуры, экспертных учреждений, органов принудительного исполнения в РФ1.
В качестве одного из таких преступлений выступает угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия либо производством предварительного расследования (ст. 296 УК РФ). Несмотря на то что данное деяние имеет длительную историю представительства в отечественном уголовном законе, на сегодняшний день имеется ряд сложных и спорных моментов в законодательном его описании и теоретическом осмыслении. Так, часть отечественных ученых полагают, что нет необходимости осуществлять самостоятельную криминализацию посягательств на жизнь и здоровье специальных потерпевших в отдельных главах Особенной части УК РФ, достаточно квалификации соответствующих деяний по общей норме гл. 16 УК РФ (Курсаев, 2021: 40–42). Другие авторы поддерживают позицию законодателя в аспекте выделения насильственных преступлений против лиц, участвующих в осуществлении правосудия или производстве предварительного расследования, признавая ее вполне последовательной и необходимой (Радченко, 2013: 17).
Возникающие теоретические споры обусловлены в том числе небольшим количеством преступлений, квалифицируемых по ст. 296 УК РФ. Так, по данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, в 2003 г. по ст. 296 УК РФ было осуждено 36 человек, а в 2022 г. – 52 лица2.
Кроме того, доктринальные дискуссии предопределены законодательным подходом к названию состава преступления, предусмотренного в ст. 296 УК РФ.
Во-первых, использование слова «угроза», с одной стороны, оправданно тем, что виновный может применить один из перечисленных в диспозиции ч. 1 ст. 296 УК РФ вид угроз. С другой стороны, разнообразие видов угроз (лишить потерпевшего жизни, причинить вред его здоровью различной степени тяжести, уничтожить или повредить имущество) предполагает возможность и их сочетания, что в итоге требует использования множественного числа в названии (угрозы). При этом следует учитывать, что термин «угрозы» не следует рассматривать ограничительно, и даже установление одной из ее разновидностей позволяет констатировать наличие состава преступления.
Во-вторых, критические замечания вызывает использование в названии ст. 296 УК РФ словосочетания «насильственные действия». Законодатель нигде, кроме ст. 132 УК РФ, в именовании преступлений не задействует такое словосочетание. Применительно к посягательствам на здоровье личности используются лексические единицы «вред здоровью», «побои». При описании схожего состава преступления, предусмотренного в ст. 318 УК РФ, применительно к представителям власти используется словосочетание «применение насилия». Желание законодателя отделить угрозы, которые принято называть психическим насилием, от непосредственной их реализации, именуемой физическим насилием, понятно3. Однако, как представляется, термин «насилие» является более устоявшимся как в части законодательного его использования, так и в научном обиходе (Шарапов, 2009: 54).
В-третьих, угроза и физическое насилие, исходя из названия ст. 296 УК РФ, применяются исключительно в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования. Однако в диспозиции ч. 2 данной статьи перечисленная деятельность дополняется указанием на исполнение приговора, решения суда или иного судебного акта. Полагаем, что расширенное понимание преступного поведения должно отражаться не только в содержании диспозиции, но и в названии соответствующего преступления.
Следует обратить внимание на весьма ограниченное определение законодателем перечня потерпевших, обозначенных в ч. 1 и 2 ст. 296 УК РФ. В частности, к ним отнесены судьи, присяжные заседатели, иные лица, участвующие в отправлении правосудия, прокурор, следователь, лицо, производящее дознание, защитник, эксперт, специалист, сотрудник органов принудительного исполнения Российской Федерации и их близкие. Вместе с тем в рамках различных видов судопроизводства в рассмотрении дела могут участвовать и иные лица, к которым могут применяться определенные формы принуждения в связи с их деятельностью, что само по себе способно негативно отражаться на интересах правосудия. В частности, таковыми могут выступать переводчик, помощник судьи, секретарь судебного заседания. Представляется, что высказывание угроз или применение насилия к данным лицам следует криминализовать в рамках ч. 2 ст. 296 УК РФ.
В рамках уголовного судопроизводства прокурор осуществляет от имени государства уголовное преследование, а также поддерживает государственное обвинение (ст. 37 УПК РФ). При этом в ст. 43 УПК РФ регламентируется понятие и правовое положение частного обвинителя. Однако такой субъект не включен в число потерпевших от преступления, предусмотренного в ст. 296 УПК РФ, что вряд ли является правильным. Представляется, что и подобные лица также подлежат включению в число потерпевших в ст. 296 УПК РФ.
Рассмотрение содержания ч. 1 и 2 ст. 296 УК РФ позволяет констатировать, что уголовная ответственность за предусмотренные ими деяния возникает за высказывание намерения со стороны виновного лица причинить вред жизни или здоровью потерпевшего, а равно уничтожить или повредить его имущество.
Сам факт установления уголовной ответственности за угрозу убийством в рамках специального состава преступления (ст. 296 УК РФ) при наличии общего (ст. 119 УК РФ) является распространенным законодательным решением. Повышенная общественная опасность специального состава обусловлена важностью той деятельности, которую реализуют потерпевшие (осуществление правосудия, производство предварительного следствия, содействие данной деятельности, исполнение судебных решений) (Лопашенко и др., 2023: 98). Если следовать правилам квалификации, то угрозу убийством в отношении потерпевших, предусмотренных в ч. 1 или 2 ст. 296 УК РФ, следует квалифицировать по данным нормам, а не по ч. 2 ст. 119 кодекса, где указывается на специального потерпевшего (в отношении лица или его близких в связи с выполнением данным лицом служебной деятельности или общественного долга).
Вместе с тем, если проанализировать санкции ст. 296 и 119 УК РФ, прослеживается странная ситуация. В ч. 2 ст. 119 УК РФ самым строгим основным видом наказания выступает лишение свободы на срок до 5 лет. Тем самым это преступление относится к категории средней тяжести. В ч. 1 ст. 296 УК РФ – лишение свободы на срок до 3 лет, в ч. 2 данной статьи – лишение свободы на срок до 2 лет. Следовательно, оба преступления отнесены к категории небольшой тяжести. Таким образом, деяния, названные в ч. 1 и 2 ст. 296 УК РФ, фактически являются привилегированными составами по отношению к преступлению, указанному в ч. 2 ст. 119 УК РФ, а не специальными, за которые усиливается уголовная ответственность.
Полагаем, что санкции ч. 1 и 2 ст. 296 УК РФ применительно к угрозе убийством специальных потерпевших должны предусматривать более строгое наказание, нежели установлено в санкции ч. 2 ст. 119 УК РФ. Только такое положение позволит реализовать задачи и принципы уголовного права, закрепленные в гл. 1 УК РФ.
Установление уголовной ответственности за угрозу причинением вреда здоровью перечисленных ранее потерпевших также заслуживает поддержки, однако и здесь не все однозначно.
Во-первых, та же статья 119 УК РФ применительно к любому (ч. 1) или специальному (ч. 2) потерпевшему предусматривает самостоятельную уголовную ответственность за угрозу причинить вред здоровью не любой степени тяжести, а лишь тяжкий. Следовательно, законодатель посчитал, что сама по себе угроза причинения легкого или средней тяжести вреда здоровью не «дотягивает» до того уровня общественной опасности, которая бы позволяла посчитать такое поведение преступным.
Во-вторых, угроза причинением легкого или средней тяжести вреда здоровью выступает способом совершения некоторых иных преступлений (ст. 126, 131, 132 УК РФ и др.) и используется законодателем в качестве как криминообразующего признака, так и квалифицирующего. В этих ситуациях подобные угрозы повышают общественную опасность основного деяния, позволяя констатировать наличие определенного состава преступления, либо увеличивают тяжесть содеянного по сравнению с основным составом, ужесточая уголовно-правовые санкции, что имеет место и в рамках ст. 296 УК РФ.
В-третьих, законодатель по какой-то причине связывает насильственные угрозы лишь с предстоящим нанесением вреда здоровью, исключая возможность привлечения к уголовной ответственности за угрозу побоями. Такое положение, по мнению ряда ученых, с которыми мы солидарны, применительно к потерпевшим, предусмотренным в ч. 1 или 2 ст. 296 УК РФ, видится необоснованно ограниченным, особенно в сравнении со схожим в ст. 318 УК РФ (Савельева, Черепахин, 2016: 34). Законодатель не стал разделять угрозу с реально применяемым насилием в разных частях ст. 318 УК РФ. Так, в ч. 1 ст. 318 УК РФ установлена ответственность за насилие, не опасное для жизни или здоровья, а также за угрозу подобным видом насилия к представителю власти или их близким. В п. 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 июня 2023 г. № 14 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 317, 318, 319 Уголовного кодекса Российской Федерации» разъясняется следующее: «Под насилием, не опасным для жизни или здоровья, в ч. 1 ст. 318 УК РФ следует понимать побои или совершение иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы (связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении и др.), не повлекших причинения вреда здоровью потерпевшего, а под угрозой применения насилия – высказывания или иные действия лица, свидетельствующие о его намерении применить к потерпевшему любое физическое насилие, когда такая угроза воспринималась потерпевшим как реальная»1.
Следовательно, высказывание угроз побоями уголовно наказуемо применительно к представителям власти, но ненаказуемо в отношении лиц, осуществляющих правосудие, предварительное следствие, содействующих этому, а также исполняющих судебные акты. При этом тот же прокурор может признаваться в одной ситуации представителем власти и выступать потерпевшим согласно ст. 318 УК РФ, а в другой – лицом, участвующим в судебном производстве или производстве предварительного следствия, и выступать потерпевшим в соответствии с ч. 2, 3 или 4 ст. 296 УК РФ.
Все ранее сказанное позволяет прийти к выводу, что использование законодателем в ч. 1 ст. 296 УК РФ формулировки «угроза причинением вреда здоровью» следует признать неудачным, ограничивающим сферу защиты интересов правосудия, предварительного расследования, исполнения судебных актов. Ранее неоднократно указывалось на необходимость принятия единообразного подхода посредством использования термина «насилие», который является более широком и точным, нежели формулировка «вред здоровью».
Наиболее спорным видится установление ответственности за угрозу уничтожением или повреждением имущества потерпевших в рамках ч. 1 и 2 ст. 296 УК РФ. Сама по себе угроза уничтожить или повредить имущество любого физического лица не является уголовно наказуемой. Ответственность по ст. 167 УК РФ наступает лишь в случае реально причиненного значительного ущерба гражданину. Ввиду отнесения деяний, предусмотренных в ч. 1 и 2 ст. 167 УК РФ, к преступлениям небольшой или средней тяжести соответственно приготовление к ним ненаказуемо. Вместе с тем данный вид угрозы используется законодателем как способ совершения преступных действий для нескольких разновидностей преступлений. В частности, это понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ), вымогательство (ст. 163 УК РФ), понуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ) и ряд других. Однако общественная опасность деяния в целом обусловлена не самими по себе угрозами уничтожением или повреждением имущества потерпевшего, а их сочетанием с предстоящим деянием (половое сношение, передача имущества, заключение сделки и т. п.). Применительно к рассматриваемым преступлениям подобная ситуация также имеет место, поскольку лицо угрожает негативными последствиями имущественного характера не просто как таковыми, а в связи с деятельностью потерпевшего (осуществлением правосудия, производством предварительного следствия, исполнением судебных актов), пытаясь оказать в конечном счете негативное воздействие на нее (Абазалиев, 2007). Однако все же важно учитывать стоимость имущества, причинением вреда которому угрожает виновное лицо. Логично предположить, что угроза уничтожением или повреждением имущества потерпевшего возымеет свое действие, если оно достаточно ценно для него и может привести к существенному ухудшению его имущественного положения. Именно по этой причине законодатель и включил оценочный показатель в качестве последствия в ст. 167 УК РФ. Полагаем, что и в ст. 296 УК РФ следовало бы использовать аналогичную формулировку (угроза уничтожением или повреждением имущества в значительном размере).
Спорным выглядит соотношение ч. 1 и 2 с ч. 3 и 4 ст. 296 УК РФ. Последние две части фактически предусматривают квалифицированные составы преступлений, предусмотренных первыми двумя частями. Как уже отмечалось ранее, части 1 и 2 ст. 296 УК РФ предусматривают уголовно наказуемую угрозу соответствующего содержания. Части 3 и 4 ст. 296 УК РФ устанавливают ответственность за применение не опасного (ч. 3) или опасного (ч. 4) для жизни или здоровья всех видов потерпевших насилия. При этом начинаются части 3 и 4 ст. 296 УК РФ фразой «деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные…». Таким образом, для реализации указанных норм первоначально следует установить факт угрозы и лишь затем ее объективирования посредством применения определенного вида насилия. Во-первых, первоначальная угроза может касаться не только жизни и здоровья потерпевшего, но и сохранности его имущества. Во-вторых, виновные необязательно сначала высказывают угрозу насилием, а потом ее реализуют, они могут сразу осуществить насильственные действия.
Представляется, что части 3 и 4 ст. 296 УК РФ предусматривают самодостаточные преступные деяния, которые не связаны с преступлениями, указанными в ч. 1 и 2 ст. 296 УК РФ. Это два самостоятельных основных состава преступления. Единственное, потерпевшие в ч. 3 и 4 ст. 296 УК РФ включают в себя совокупно лиц, осуществляющих правосудие, предварительное следствие, содействующих правосудию и предварительному следствию, а также исполняющих судебные акты, т. е. указанных и в ч. 1, и в ч. 2 ст. 296 УК РФ. В связи с этим диспозиция ч. 3 ст. 296 УК РФ должна начинаться фразой «применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении…», а ч. 4 ст. 296 УК РФ – «применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении…».
Все сказанное свидетельствует о необходимости внесения соответствующих корректировок в содержание ст. 296 УК РФ, которые исключат спорные и не вполне удачные законодательные формулировки и, следовательно, облегчат практику применения обозначенных уголовноправовых норм.
Список литературы Угрозы или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования: некоторые законодательные проблемы состава
- Абазалиев Р.К. К совершенствованию уголовно-правовой борьбы с угрозами или насильственными действиями в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования // Российская юстиция. 2007. № 11. С. 63-65. EDN: HPJNJX
- Безверхов А.Г., Норвартян Ю.С. Соотношение категорий "насилие" и "угроза" в современном уголовном праве России // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер.: Право. 2018. Т. 9, № 4. С. 522-534. DOI: 10.21638/spbu14.2018.405 EDN: YQDQGD
- Безручко Е.В. Использование термина "насилие" в уголовном законодательстве России // Уголовное право. 2014. № 5. С. 24-26. EDN: TBWWLJ
- Курсаев А.В. Причины наличия "мертвых" норм в Уголовном кодексе Российской Федерации // Право: история и современность. 2021. № 1 (14). С. 37-44. DOI: 10.17277/pravo.2021.01.pp.037-044 EDN: WIBPAZ
- Лопашенко Н.А., Голикова А.В., Ковлагина Д.А., Комягин Р.А. Преступления против правосудия (глава 31 УК РФ): монография. М., 2023. 558 с. EDN: WDCZSM
- Радченко А.А. Преступные посягательства на участников процесса доказывания: монография. М., 2013. 253 с. EDN: TMUGXT
- Савельева Е.В., Черепахин В.А. Преступления против правосудия по УК Российской Федерации: монография. Астрахань, 2016. 134 с.
- Шарапов Р.Д. Преступное насилие. М., 2009. 490 с. EDN: QRCGCB