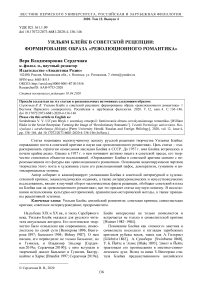Уильям Блейк в советской рецепции: формирование образа "революционного романтика"
Автор: Сердечная Вера Владимировна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 4 т.12, 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена малоизученному аспекту русской рецепции творчества Уильяма Блейка: оправданию поэта в советской критике и науке как «революционного романтика». Цель статьи - охарактеризовать стратегии осмысления наследия Блейка в СССР. До 1957 г. имя Блейка встречалось в печати крайне редко. Однако в 1957 г. о нем начинают активно писать в советской прессе, его творчество становится объектом исследований. «Оправдание» Блейка в советской критике связано с переосмыслением его фигуры как «революционного романтика». Основными акцентируемыми чертами творчества этого поэта и художника стали его революционный пафос, демократизм, гуманизм и антиклерикальные мотивы. Автор собирает и классифицирует упоминания Блейка в советской литературной и художественной критике, энциклопедических изданиях, а также литературоведческих и искусствоведческих исследованиях, вводит в научный оборот малоизвестные факты рецепции, обобщает советский взгляд на Блейка как на «революционного романтика»; все это придает статье научную новизну. В исследовании использованы культурно-исторический, сравнительно-исторический методы, а также принципы рецептивной эстетики.
Уильям блейк, английский романтизм, советская критика, символистская критика, советское литературоведение, предромантизм
Короткий адрес: https://sciup.org/147229719
IDR: 147229719 | УДК: 821.161.1.09 | DOI: 10.17072/2073-6681-2020-4-136-146
Текст научной статьи Уильям Блейк в советской рецепции: формирование образа "революционного романтика"
На рубеже XIX и XX вв., в эпоху Серебряного века, Уильям Блейк оказался для русского читателя актуальным автором. Его поэтическое творчество было осмыслено как современное, символистское по своей сути [Венгерова 1896; Венгерова 1897; Бальмонт 1904; Bidney 1987]. О нем писали, его переводили: не только Бальмонт, но и Гумилев, и Владимир Эльснер [Сердечная 2019а; Сердечная 2019б]; с ним вступали в творческий диалог Бальмонт и Гумилев, Балтрушайтис и Хармс [Brandist 1997; Сердечная 2019в].
Блейк интересовал не только символистов и встречается не только в символистской критике [Warner 1983–1984].
Понимание Блейка как «темного» мистика и символиста восходило к взглядам зарубежных критиков рубежа веков, таких как А. Гилкрист [Gilchrist 1863], А. Суинберн [Swinburne 1868], У. Б. Йейтс и Эллис [Blake 1893]. Элиот и Йейтс трактовали его произведения в мистико-символическом духе. Вслед за ними З. Венгерова считала Блейка предшественником английского
символизма: «Прародитель современного символизма в английском искусстве, соединяя в себе мистика-оккультиста с поэтом, для которого его таинственные видения являются лишь отражениями отвлеченных истин, Вильям Блэк указал искусству путь философского понимания природы и красоты, получающей у него сокровенный смысл» [Венгерова 1897: 156]. Бальмонт также считал Блейка предком и символистов, и прерафаэлитов [Бальмонт 1904].
Еще в 1919 г. книжка Блейка была упомянула в планах издательства «Всемирная литература» [Каталог 1919: 61], однако эти планы не были реализованы. Горький не любил Блейка за мистицизм и говорил Маршаку, что не стоит его переводить [Чуковский 2013, т. 13: 380]. Репутация мистика и декадента, созданная Блейку зарубежными критиками-модернистами и подхваченная русскими символистами, надолго закрыла ему путь в советскую печать.
История советской рецепции Блейка осталась малоисследованной. За рубежом была опубликована неполная и во многом ошибочная библиография [Bentley 1977]; в России – более точная, но все же неполная библиография c 1834 по 1991 гг. [Гиривенко, Недачина 1994]. Краткие обзоры советской рецепции включены в диссертации и монографии о Блейке [Васильева 1969; Косачева 2002; Смирнова 2003; Токарева 2006]. Сами исследователи советского периода писали в основном о единодушии советской блейкианы: «Советское литературоведение всегда рассматривало Блейка в социально-историческом контексте его эпохи» [Зверев 1982: 21]. Мы посчитали важным обратиться ко всем видам текстовых источников, создающих образ советского Блейка. Материалом послужили статьи в прессе и энциклопедических изданиях, а также научные исследования: статьи и монографии.
Вплоть до 1957 г. упоминания о поэте в советской прессе были крайне редки; Маршак не опубликовал ни одного перевода Блейка с 1918 по 1942 гг. В 1930 г. краткая статья «Блэк»1 появляется в «Литературной энциклопедии»; С. Р. Бабух отмечает в ней, что Блейк объединяет два главных направления: готический романтизм с его «ужасами» и культ природы. Правда, автор замечает, что в приключенческой готике Блейка превзошли Х. Уолпол, А. Ратклиф и В. Скотт, а в пейзажной лирике – Бернс и Вордсворт [Бабух 1930].
В 1950 г. Блейк крайне негативно упоминается в книжке В. Городинского «Музыка духовной нищеты», посвященной джазу. Поэт становится символом разложения западной цивилизации. Так, музыка композитора Карла Рагглса вызывает у критиков «ассоциации с творчеством Вильяма Блэка <…> больного мистика, которого весьма чтили и английские декаденты: “прерафаэлиты” и российские декаденты-символисты. Мистик с головы до ног, Карл Рагглс в своих бессвязных композициях силится “озвучить” дикие видения Вильяма Блэка, истерические поползновения в потусторонний мир, на небеса и преисподнюю…» [Городинский 1950: 117]. Очевидно, что для автора Блейк воплощает собой все недостатки «загнивающего» Запада. Однако встречалось и другое мнение о Блейке, условноположительное. А. К. Виноградов пишет в 1924 г., приводя монохромную копию страницы из «Песни Лоса», что Блейк – «и великий художник и великий поэт» [Виноградов 1924: 108–109].
В 1945 г. М. Н. Гутнер пишет главу о Блейке в трехтомной «Истории английской литературы», где одним из первых дает более точное написание имени поэта (Блейк, а не Блэк) и помещает его в контекст времени. Он считает Блейка предромантиком: по его словам, творчество поэта «проникнуто в целом воинствующе-гуманистическим, бунтарским пафосом, редким у английских предромантиков XVIII века. Завершая в своих ранних произведениях демократические традиции поэзии Гольдсмита и Каупера, Блейк предвещает в то же время отчасти творчество революционных романтиков XIX века» [Гут-нер 1945: 613]. В этой статье уже намечается будущее «оправдание» Блейка: Гутнер отмечает революционный настрой поэта, его поддержку французской революции и общение с «вождями английской демократии – Годвином и Томасом Пейном» [там же: 614].
В 1947 г. Блейк упоминается в переводной статье Н. Бентли: «Только очень немногие из иллюстраторов той эпохи обладали таким могучим интеллектом и творческим воображением, как Вильям Блэйк <…> большинство его произведений органически связано с мистической поэзией, которой он в равной мере обязан своей славой» [Бентли 1947: 11].
В 1956 г. Блейку посвящена страница в учебнике А. А. Аникста «История английской литературы». Автор не без осуждения говорит о религиозности Блейка: «Его поэзия проникнута религиозно-мистическим ощущением таинственных сил, управляющих жизнью» [Аникст 1956: 196]. Но он уже отмечает демократизм поэта: «Манере Блейка не чужда символика, которая оказывается у него средством выражения глубоко прогрессивных и демократических идей» [там же]. Аникст также пишет о поэте как о предшественнике Байрона и Шелли – «революционных» романтиков.
Советская критика следовала в этом отношении западной. В середине XX в. в зарубежном блейковедении наметился поворот: Блейка нача- ли исследовать как революционно-демократического поэта. Критики марксистского направления М. Шорер [Schorer 1946], Я. Броновски [Bronowski 1944; Bronowski 1969] и главным образом Д. Эрдман [Erdman 1954] доказали, что Блейк писал, обращаясь к своим современникам, и остро откликался на актуальную повестку дня, включая политическую. Эти книги читали русские исследователи.
В 1956 г. на русском языке публикуется книга британского историка-марксиста А. Л. Мортона «Английская утопия» (в Великобритании она вышла в 1952 г.), в которой сочувственно обозревается творчество Блейка. Здесь, во-первых, автор отмечает, что Блейк «не был ни в коем случае сумасшедшим мистиком» [Мортон 1956: 148]. Во-вторых, Мортон утверждает традицию говорить о Блейке как о поэте талантливом, даже великом, прежде всего – в силу демократичности его поэзии. Пророческие книги таят в себе не «извращения буржуазного ума», а демократическое содержание, пусть и высказанное в несколько смутных символах: «Все они, хотя и написаны в присущей Блейку символической манере, выражают основные идеи того радикального кружка, в котором он вращался и где преобладающее влияние принадлежало скорее Пейну, чем Годвину. В них переданы восторг по поводу свержения тирании и вера в наступление новой эры для Франции и всего мира» [там же: 149]. У Блейка Мортон находит и самобытную диалектику, что позволяет говорить о поэте как о марксисте: «…он обратил свою диалектику против механического материализма, который рассматривал как доктрину капитализма на данной фазе развития» [там же: 150]. Книга Мортона стала одним из ключей к пониманию Блейка как революционера и передового деятеля.
Советский Блейк официально «родился» вместе с оттепелью. В 1957 г., в год двухсотлетия Блейка, о нем выходит столько публикаций по всему Союзу, сколько не выходило до сих пор [Елистратова 1957; Некрасова 1957; Рогов 1957; Шагинян 1957 и др.]: очевидно, о нем было разрешено открыто писать и говорить. Важнейшую роль в «реабилитации» Блейка сыграло решение Всемирного совета мира: «По инициативе Всемирного совета мира 200-летие со дня рождения Блейка было встречено как праздник всего прогрессивного человечества» [Елистратова 1960: 68]. Юбилейные статьи вышли во многом похожими, с повторением одних и тех же соображений и даже одних и тех же цитат.
Блейк с его «подпорченной» символистами репутацией нуждался в серьезном оправдании. Аргументами для этого стали революционный пафос его стихов, «рабочее» происхождение, ан- тиклерикальные мотивы и гуманизм. Блейк в глазах советского критика становился настоящим революционером: «Война за независимость США и в особенности французская буржуазная революция 1789–1794 годов озарили своим пламенем все творчество поэта» [Елистратова 1957: 190]; «Темы рисунков и стихов Блейка и есть, в сущности, высокая пропаганда средствами искусства великих идей свободы, равенства, братства…» [Шагинян 1957: 4]
Для марксистского литературоведения важно было подчеркнуть близость Блейка к народу: он «вырос в ремесленной среде» [Елистратова 1957: 189]. Также было важно отметить отражение в его стихах классовой борьбы: «Поэзия Блейка, как и его живопись и графика, была живым вызовом общественной несправедливости, которую он так остро ощущал и так ненавидел» [там же: 190].
Было необходимо оправдание религиозности Блейка. Ключом к этому оправданию стали гуманизм и «народность» его веры. «С <…> официальной, ханжеской религией господ, оправдывающей “волей божией” общественное неравенство, угнетение, разрушительные войны, утопическая мечта Блейка <…> не имела ничего общего <…> Какие бы фантастические видения, какие бы силы неба и ада он ни изображал в своей поэзии, в центре ее всегда стоит человек» [Елистратова 1957: 190]. О «Иерусалиме» из поэмы «Мильтон» М. С. Шагинян сообщает, что он «поется в наши дни рабочим классом Англии как боевая революционная песня» [Шагинян 1957: 3], хотя в действительности «Иерусалим» до сегодняшнего дня бытует как религиозный гимн.
Наконец, пророческие поэмы Блейка трактовались как продукт творческого упадка: «Поворот, который, начиная со второй половины 1790-х годов, все заметнее проявляется в творчестве Блейка, во многом объясняется тем трагическим одиночеством, вынужденным отторжением от массового, народного читателя, на которое был обречен поэт» [Елистратова 1957: 191].
Хорошим тоном в литературоведении советского периода стало осуждать переводы Бальмонта и хвалить переводы Маршака: «Бальмонт, переводя Блейка, крайне односторонне интерпретировал его, отбирая из него по преимуществу самые мистические и темные вещи и особо усиливая их символическую отвлеченность <…> переводы С. Я. Маршака из Блейка <…> – это живые цветы искусства, которыми советский народ встречает двухсотлетие со дня рождения Вильяма Блейка, великого романтика-гуманиста» [Елистратова 1957: 192]; «В переводах Бальмонта Блейк предстает как поэт-мистик. Такому декадентскому осмыслению гениального английского поэта-демократа противостоит иной под- ход к его творчеству С. Я. Маршака, раскрывшего Блейка как поэта-бунтаря и защитника угнетенных» [Аникин, Михальская 1975, 200].
Представленные тенденции в освещении творчества Блейка сохранялись в течение всего советского периода. Только некоторые авторы боролись с узким тенденциозным освещением фигуры и творчества Блейка. Например, Т. Н. Васильева из Кишинева, которая вступалась за «пророческие поэмы», отстаивая их эстетическую ценность и глубину содержания: «Без “пророческих книг” Блейк еще не был Блейком. Именно здесь его поэтическое творчество достигло зрелости и расцвета» [Васильева 1969: 34].
На протяжении всей советской блейкианы исследователям было очень важно отстоять «своего», советского Блейка, выпутать его из пелен ложных зарубежных толкований. Так, М. Шаги-нян писала: «О Блэйке почти не было серьезных литературных исследований» [Шагинян 1957: 4]. Комментируя традицию западного блейкове-дения, А. Елистратова пишет: «Возрождение интереса к Блейку <…> надолго приобрело односторонний и даже нездоровый характер» [Елистратова 1960: 53]. Д. Урнов также отмечает: «…в кругах модернистов <…> популярность Блейка еще более возросла, причем на первый план выдвигается литературщина, заумь, эротика» [Урнов 1989: 91]. А библиография о Блейке, опубликованная Е. Некрасовой, носит красноречивое название «Лучшие общие работы о У. Блейке, написанные с прогрессивных позиций» [Некрасова 1960: 68], и включает труды Броновски, Шерера и Эрдмана и других критиков-марксистов.
В стремлении сделать Блейка главным образом революционером советские критики доходили до самых неожиданных высказываний, близких к вульгарному социологизму. Например, Д. М. Урнов так комментирует знаменитое стихотворение «Лондон»: «…революционный пожар вот-вот может перекинуться с континента на острова, в то же время в город могут быть введены прусские войска, вызванные английским королем, немцем по происхождению, так что апатия и тоска на лицах, наблюдаемых поэтом, – это не просто повседневные тяготы жизни, не только бедность, это тревога за судьбы родины» [Урнов 1989: 90]. Г. В. Аникин и Н. П. Михальская прямо объявляют Блейка антихристианином: «Нравственные идеи Блейка несовместимы с христианской этикой» [Аникин, Михальская 1975: 199].
Советская ударная «битва за Блейка» привела к важному результату. Уже в 1975 г. Е. А. Некрасова пишет о том, что советский читатель немало узнал о Блейке и полюбил его: «Блейк вдруг вошел в число общепризнанных и обще- принятых, как-то само собой разумеющихся мировых имен. То, над чем мы (С. Я. Маршак, я и еще несколько человек) бились десятилетиями, наконец растолковано и объяснено» [Некрасова 1975: 46]. Однако достаточно точен и ее вывод о том, что «эта популярность отчасти достигнута за счет некоторого упрощения – почти до прописных истин – философски-сложных и запутанных концепций его поэтических произведений» [там же]. Действительно, Блейк, прочитанный прежде всего как лирик, стал просто одним из ряда «революционных» романтиков.
В советской теории литературы романтизм был подразделен «на два основных течения (крыла) – консервативное (реакционное) и прогрессивное (революционное), которые различаются в первую очередь по характеру социальнополитических взглядов и деятельности романтиков, по преобладающей связи их с реакционными или прогрессивными социальными силами» [Ванслов 1966: 25]. Горький писал: «…пассив-ный романтизм <…> пытается или примирить человека с действительностью, приукрашивая ее, или же отвлечь от действительности к бесплодному углублению в свой внутренний мир, к мыслям о “роковых загадках жизни” <…> Активный романтизм стремится усилить волю человека к жизни, возбудить в нем мятеж против действительности, против всякого гнета ее» [Горький 2004: 615]. Эта классификация надолго утвердилась в советском литературоведении. Блейк, говоривший в своих пророчествах о революционном преобразовании мира, был однозначно отнесен к «прогрессивным» романтикам, так же как Байрон и Шелли.
Однако в 1957 г. исследователи еще не были уверены, что его можно в полной мере отнести к романтизму как таковому, и высказывались уклончиво: «Блейк был первым провозвестником романтического направления в английской литературе» [Елистратова 1957: 189]; «Он стал предтечей революционного романтизма Шелли и Байрона» [Некрасова 1957: 4].
Впрочем, и в Англии Блейк был признан одним из «большой шестерки» поэтов-романтиков только в 1970–1980-х гг. Большую роль в утверждении Блейка как романтика сыграли Д. Эрдман, решительно преодолевший миф об оторванности поэта от своего времени [Erdman 1954], и Г. Блум, написавший, в частности, о том, что «современная английская поэзия – изобретение Блейка и Вордсворта» [Bloom 1968: 17]. Блейка начинают включать в антологии романтической поэзии [Auden, Pearson 1950; Bewley 1969 и пр.]. Постепенно великая пятерка романтических поэтов (Вордсворт, Колридж, Байрон, Шелли, Китс) превратилась в великую шестерку, Big Six .
В СССР и позже в России исследователи Блейка разделились на два лагеря: одни уверенно говорили о Блейке в контексте предромантизма, другие относили его к романтикам. Убедительно о связи Блейка и романтизма в русской критике говорит А. М. Зверев: пророческие книги он называет первым романтическим эпосом, а Блейка – первооткрывателем романтического мифо-логизма [Зверев 1982: 19]. Однако тут же Зверев утверждает, что Блейк не принимает таких общих мест романтической мысли, как «примат идеального над материальным» [там же: 20], и здесь он рассуждает как исследователь лирики Блейка: в крупных пророчествах весьма явно выражается идея бренности физического тела, которое является результатом «грехопадения» в мифологии Блейка.
А. А. Елистратова одна из первых утверждала, что Блейк – это не просто предшественник романтизма, а поэт-романтик. Объединяет она великих поэтов-романтиков Англии, от Блейка до Китса, на основании единства социальной проблематики: «…они в разной форме и с разной степенью последовательности и глубины стремились ответить на те новые важнейшие запросы и требования, которые вытекали из революционных социально-исторических потрясений их времени, – эпохи крушения феодального строя и установления буржуазного господства» [Елистратова 1960: 43].
Признавая Блейка «пионером революционного романтизма», Т. Н. Васильева находит в его поэзии следующие признаки романтизма: субъективизм, демократизм, реакция на наполеоновские войны и промышленный переворот, борьба с догматизмом и буржуазной цивилизацией [Васильева 1969: 30–38].
-
Е . А. Некрасова отмечает: «Если применить к Блейку всю номенклатуру эстетических категорий, характерных для романтизма <…>, то все ответы будут точно соответствовать прогрессивной разновидности романтизма» [Некрасова 1975: 46]. Эти критерии – в основном тематические:
-
– критическое отношение к капиталистической действительности;
-
– преувеличенная оценка значения искусства в освободительной борьбе человечества;
-
– борьба с механистичностью теории подражания;
-
– элементы диалектики;
-
– мечта о небывалом расцвете искусства в грядущем царстве свободы [там же].
Таким образом, все крупные исследователи Блейка в СССР – А. А. Елистратова, Е. А. Некрасова, Т. Н. Васильева – настаивают на том, что он является полноправным представителем романтизма.
Крупнейшим исследователем Блейка как поэта в советское время стал кишиневский ученый Т. Н. Васильева. В ряде статей 1956–1976 гг. она создала объемный образ Блейка – мифографа, эпика, мыслителя. В статье монографического объема «Поэмы Блейка (“Пророческие книги” XVIII–XIX вв.)» приводится подробный анализ пророчеств с цитатами в подстрочном переводе [Васильева 1969]. Она впервые в истории советской науки делает вывод об объективной причине сложности его поэм: «Сложность его поэзии – сложность значительных, имеющих объективную ценность мыслей, возникших в субъективном стремлении охватить и переосмыслить все причинно-следственные связи, истолкованные в XVIII в. в духе рационалистической догмы» [там же: 35]. Более того, исследователь утверждает мысль о единстве творчества Блейка, которая также у нас еще не звучала: «…лирика составляла подтекст больших поэм и создавалась попутно с ними» [там же: 39]. Т. Н. Васильева говорила об оправданности сложной формы и непростого содержания поэм Блейка с позиций своего времени: «Коммунистическому грядущему, его создателям будет близок и дорог Блейк, певец Свободы, Красоты и истинной Человечности» [Васильева 1969: 310].
Деятельность Блейка-художника, Блейка-гравера привлекала меньше внимания. Е. А. Некрасова много лет исследовала Блейка как художника, выпустила несколько статей и две книги, познакомив тем самым советского читателя примерно с сотней произведений автора [Некрасова 1960; Некрасова 1962]. Она отмечала растущее с течением времени мастерство Блейка-художника, не совпадающее, по ее мнению, с развитием его литературного дара: «Если в литературном наследии Блейка мы ценим больше всего его раннюю безыскуственную лирику, то в области изобразительного искусства он создает лучшие свои произведения в последние годы жизни <…> Он равно владеет мастерством живой и упругой линии, четко ограничивающей пластически ясные формы, и сияющими, “как драгоценные камни”, красками, образующими простые, лаконичные композиции» [Некрасова 1960: 65]. Е. А. Некрасова также оценивала творчество Блейка как демократическое, революционное.
1980-е гг. были отмечены более активным «выходом» Блейка к диалогу с советской публикой. В 1970–1980-е гг. к Блейку обращаются в стихах И. Бродский («Песня невинности, она же – опыта», 1972, и др.), Г. Алексеев («Англия и Вильям Блейк», 1986), В. Блаженный (в ряде стихотворений). В 1982 г., после нескольких небольших сборников, вышло серьезное академи- ческое издание переводов Блейка, билингва, включившее большую часть лирики и несколько поэм, в том числе впервые переведенных [Блейк 1982]. Вместе с тем критические и литературоведческие статьи стали появляться реже: словно в рамках существующей парадигмы научного знания и литературной критики о Блейке уже все сказано ранее.
Так, Д. Урнов в своей главе в «Истории всемирной литературы» пишет о Блейке те же краткие биографические сведения, так же вписывает его в контекст революционного отношения к жизни, связывая это с протестантской религией Блейка: «…он действительно являлся наследником и продолжателем традиций религиознореволюционного протестантизма, того самого, которое, по словам Маркса, пользовалось языком и страстями Ветхого завета для выражения своей политической программы» [Урнов 1989: 89]. Даже творческое одиночество Блейка Урнов выводит из его протестантски-революционного духа: «…сектантства в Англии всегда опасались даже больше, чем атеизма, именно потому, что в религиозных разногласиях гнездилась сословноклассовая вражда, некогда приведшая к революции и гражданской войне» [там же]. Н. Старосельская в рецензии на сборник Блейка также указывает на «органичный демократизм, без которого творчество Блейка было бы немыслимо» [Старосельская 1980: 233]. Более глубоко и подробно пишет о Блейке в 1980-х гг. А. Зверев, воссоздавая сложное строение его мифологической вселенной и рассуждая о романтизме в целом, не разделяя его на «прогрессивный» и «пассивный» [Зверев 1982] и показывая знакомство с ключевой для блейковедения книгой Нортропа Фрая «Ужасающая симметрия» [Frye 1947].
Русской советской рецепции Блейка в той или иной мере следовала и рецепция в критике и переводах союзных республик. Она также началась в 1957 г. [Факторович 1957; Kenchoshvili 1958 и др.], была ориентирована на марксистскую критику и трактовала Блейка то как предроман-тика [Šilina 1982], то как революционного романтика (в работах Васильевой). В позднесоветских исследованиях уже активнее говорилось о связи Блейка с библейской традицией [Майсура-дзе 1990].
Мировое блейковедение в эти десятилетия шло вперед, предлагая новые методы анализа текстов и живописи Блейка. Продолжались исследования связи творчества Блейка с мистическими и религиозными учениями [Raine 1969 и др.]. Блейка исследовали с позиций постмодернистской деконструкции [Middleton 1983; Sławek 1985 и др.], синтетического анализа (т. е. неразрывного единства слова и изображения в его книгах) [Mitchell 1978 и др.], лингвистического анализа [Hilton 1982; Hilton, Vogler 1986; Essick 1989 и др.], психоанализа и феминистской критики [Tayler 1973; George 1980; Aers 1981; Ostri-ker 1982–1983 и др.]. В США были основаны два регулярных блейковедческих издания: журнал “Blake studies” и газета “Blake newsletter”, впоследствии ставшая журналом и переименованная в “Blake / An illustrated quarterly”.
Можно согласиться с выводом Г. А. Токаревой о том, что «смелые попытки литературоведов 1950–1960-х гг. дать общее представление о творчестве Блейка были лишь первым знакомством с художественной системой поэта, к тому же авторы были вынуждены интерпретировать его поэзию с учетом жестких идеологических требований эпохи» [Токарева 2006: 4]. Советская рецепция Блейка в общем следовала социальноисторическому подходу Эрдмана, Броновского и других критиков-марксистов.
Вместе с тем в русском блейковедении этой поры были заложены основы переводоведческого анализа [Сухарев 1976; Токарев 1980; Демидова 1987 и др.], который со временем – в научных исследованиях Т. Токаревой и И. Гусманова [Токарева 2006; Гусманов 2014–2016] – станет своего рода новой методологией исследования Блейка.
Путь, который прошел Блейк в русской рецепции и – шире – в мировой, является по-своему уникальным. Как и некоторые другие авторы эпохи романтизма, он был мало известен при жизни; однако после «открытия» Блейка в 1860-х гг. его популярность постоянно росла, и сегодня его можно по праву считать одним из самых известных английских романтиков. Образ самого Блейка, его персонажи и мотивы живописи отражены во многих культурных явлениях самого различного порядка: от симфонической до рок-музыки и от кинематографа до популярной литературы. Советская критическая рецепция внесла в этот процесс свой вклад, создала свой собственный образ Блейка – революционера и богоборца, образ, который был, может быть, и не так органичен для его произведений, зато успешно вписывал его в рамки концепции «революционного романтизма».
Примечание
-
1 Так фамилию Блейка писали в России вплоть до 1950-х гг.
WILLIAM BLAKE IN THE SOVIET RECEPTION:
FORMING THE IMAGE OF ‘REVOLUTIONARY ROMANTIC’
Vera V. Serdechnaia
Academic Editor
‘Analitika Rodis’ Publishing House
-
7, Rogozhskaya st., Noginsk, 142400, Moskow Oblast, Russian Federation. rintra@yandex.ru
SPIN-code: 5683-8515
ResearcherID: AAH-9753-2020
Submitted 10.04.2020
Список литературы Уильям Блейк в советской рецепции: формирование образа "революционного романтика"
- Аникин Г., Михальская Н. Уильям Блейк // История английской литературы. М.: Высшая школа, 1975. C.195-200.
- Аникст А. История английской литературы. М.: Учпедгиз, 1956. 464 с.
- Бабух С. Блэк // Литературная энциклопедия. М.: Коммунистическая академия, 1930. Т. 1. Кол. 521.
- Бальмонт К. Праотец современных символистов (Вильям Блэк, 1757-1827) // Бальмонт К. Горные вершины. М.: Гриф, 1904. С. 43-48.
- Бентли Н. Искусство книжной иллюстрации в XIX столетии: Блейк, прерафаэлиты, Бердслей // Британский союзник. 1947. № 29. С. 11.
- Блейк У. Стихи = Selected Verse / пер. С. Маршака и др.; ред. А. М. Зверев. М.: Прогресс, 1982. 558 с.
- Ванслов В. В. Эстетика романтизма. М.: Искусство, 1966. 402 с.
- Васильева Т. Поэмы В. Блейка («Пророческие книги» XVIII-XIX вв.) // Ученые записки Кишиневского государственного университета. 1969. № 108. С. 26-311.
- Венгерова З. А. Вилльям Блэк - родоначальник английского символизма // Венгерова З. А. Литературные характеристики. СПб.: Винеке, 1897. С. 153-182.
- Венгерова З. А. Родоначальник английского символизма // Северный вестник. 1896. № 9. С.81-99.
- Виноградов А. К. Организация центральной библиотеки С С С Р. как культурный памятник Ленину. М.: [б. и.], 1924. 530 с.
- Гиривенко А. Н., Недачина А. Р. (сост.) Английская литература в русской критике: библиографический указатель. Ч. 1: Средние века -XVIII век. М.: РАН. Институт научной информации по общественным наукам, 1994. С. 161-165.
- Городинский В. Музыка духовной нищеты. М., Л.: Государственное музыкальное издательство, 1950. 138 с.
- Горький М. Повести. Рассказы. Сказки. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. 730 с.
- Гусманов И. Г. Русский Блейк: лирика Уильяма Блейка в зеркале русского художественного перевода: монография. Т. 1-4. Орел: Орлов. гос. ун-т, 2014-2016.
- Гутнер М. Блейк // Анисимов М. П. и др. (ред.) История английской литературы. Л.: [б. и.], 1945. Т. 1. С. 613-622.
- Демидова О. Р. Некоторые стилистические особенности переводов стихотворения У. Блейка «Тигр» К. Бальмонтом и С. Маршаком // Анализ стилей зарубежной художественной и научной литературы. 1987. № 5. С. 126-133.
- Елистратова А. А. Вильям Блейк: Поэт и его время (К 200-летию со дня рождения) // Иностранная литература. 1957. № 10. С. 189-192.
- Елистратова А. А. Наследие английского романтизма и современность. М.: Академия наук СССР, 1960. 506 с.
- Зверев А. Величие Блейка // Блейк У. Стихи = Selected Verse / пер. С. Маршака и др., ред. А. Зверев. М.: Прогресс, 1982. С. 5-33.
- Каталог издательства «Всемирная литература». СПб.: [б. и.], 1919. 174 с.
- Кенчошвили - 30БЗ=го9зо^о о. ^0^058 [об&^оЬд^о Згодфо 8Ь5фз5бо] // 8Б5отго5о. от&о^оЬо. № 3. ^3. 163-165 (на гру-зинск.).
- Косачева Е. В. Йейтс и Блейк: Мистический язык и миф: дис. ... канд. филол. наук. М., 2002. 245 с.
- Майсурадзе М. В. Идея и образ человека в лирических циклах У. Блейка: дис. ... канд. филол. наук. Тбилиси, 1990. 145 с.
- Мортон А. Л. Английская Утопия / пер. с англ. О. В. Волкова. М.: Иностр. лит., 1956. 278 с.
- Некрасова Е. А. Блейк и Пальмер // Романтизм в английском искусстве: Очерки. М.: Искусство, 1975. С. 45-84.
- Некрасова Е. А. Вильям Блейк. М.: Искусство, 1960. 72 с.
- Некрасова Е. А. Вильям Блэйк // Советская культура. 1957. 28 ноября. С. 4.
- Некрасова Е. А. Творчество Уильяма Блейка. М.: МГУ, 1962. 183 с.
- Рогов В. Вильям Блэйк, 1757-1827 // Культура и жизнь. 1957. № 12. С. 76-77.
- Сердечная В. В. Духовные странники. Малоизвестные страницы творческого диалога Николая Гумилева с Уильямом Блейком // Русская литература. 2019. № 3. С. 182-189.
- Сердечная В. В. Не по-маршаковски: малоизвестные русские переводы Уильяма Блейка начала XX века // Вопросы литературы. 2019. № 1. С.178-204.
- Сердечная В. В. William Blake in diaries, correspondence and works of Russian writers: 1900s -1950s / Уильям Блейк в дневниках, переписке и произведениях русских писателей: 1900-е -1950-е годы // Scando-Slavica. 2019. Vol. 65. Issue 2. С. 170-191.
- Смирнова О. В. Пророческие поэмы Уильяма Блейка: дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2003. 480 с.
- Старосельская Н. Между эпохами (рецензия на книгу: Блейк В. Стихи. М., 1978.) // Иностранная литература. 1980. № 12. С. 232-233.
- Сухарев (Мурышкин) С. Л. Два «Тигра» // Полонская К. Н. (ред.) Мастерство перевода. Вып. 11. М.: Советский писатель, 1976. С. 296-317.
- Токарев Г. Н. Стихотворение У. Блейка «Лондон» в переводах С. Маршака: О влиянии контекста на перевод стихотворного произведения // Адибаев Х. А. (ред.) Вопросы поэтики худо-
- жественного произведения. Алма-Ата, 1980. С.128-140.
- Токарева Г. А. Миф в художественной системе Уильяма Блейка: дис. ... д-ра филол. наук. Воронеж, 2006. 466 с.
- Урнов Д. Романтизм: Блейк, «Озерная школа», Вальтер Скотт, Байрон, Шелли, Китс, эссеисты и другие прозаики // История всемирной литературы. М.: Наука, 1989. Т. 6. С. 87-91.
- ФакторовичД. Вильям Блейк // Звязда. 1957. 28 ноября (на белорус.).
- Чуковский К. И. Собрание сочинений: в 15 т. Т. 13. Дневник (1936-1969). М.: Агентство ФТМ. Лтд., 2013. 640 с.
- Шагинян М. Вильям Блэйк: К двухсотлетию со дня рождения // Известия. 1957. 28 ноября. С. 3-4.
- Aers D. Blake: Sex, Society and Ideology // Aers D. (ed.) Romanticism and Ideology. London: Routlegde and Kegan Paul, 1981. P. 27-43.
- Auden W. H., Pearson N. H. (eds.) Romantic Poets: Blake to Poe. N. Y.: Viking (Viking Portable), 1950. 540 p.
- Bentley G. E., Jr. Blake among the Slavs: A Checklist // Blake / An Illustrated Quarterly. 1977. Vol. 11. Issue 1 (Summer). P. 50-54.
- BewleyM. (ed.) The English Romantic Poets: An Anthology with Commentaries. New York: Random House (Modern Library Giant), 1969. 960 p.
- Bidney M. A Russian Symbolist View of William Blake // Comparative Literature. 1987. Vol. 39.4. P. 327-339.
- Blake W. The works / ed. by E. J. Ellis, W. B. Yeats. In 3 vols. London: Bernard Quaritch, 1893.
- Bloom H. The Ringers in the Tower: Studies in the Romance Tradition. University of Chicago Press, 1968. 352 p.
- Brandist C. Deconstructing the Rationality of Terror: William Blake and Daniil Kharms // Comparative Literature. 1997. Vol. 49, № 1 (Winter). P.59-75.
- Bronowski J. William Blake: A man without a mask. Seccer & Warburg, 1944. 159 p.
- Bronowski J. William Blake and the Age of Revolution. New York: Harper and Row, 1969. 207 p.
- Gilchrist A. Life of William Blake, 'Pictor Igno-tus': in 2 vols. Vol. 1-2. London; Cambridge: Mac-millan and Co., 1863.
- Erdman D. Blake: Prophet Against Empire: A Poet's Interpretation of the History of His Own Times. Dover, 1954. 528 p.
- Essick R. William Blake and the language of Adam. Oxford: Clarendon Press, 1989. x + 272 p.
- Frye N. Fearful symmetry. Princeton University Press, 1947. 462 p.
- George D. H. Blake and Freud. Ithaca: Cornell University Press, 1980. 253 p.
- Hilton N. Becoming Prolific Being Devoured // Studies in Romanticism. 1982. № 22. P. 417-424.
- Hilton N., Vogler Th. (eds.) Unnamed Forms: Blake and Textuality. Berkeley: University of California Press, 1986. xiii + 267 p.
- Middleton P. The Revolutionary Poetics of William Blake, part II - Silence, Syntax and Spectres // Oxford Literary Review. 1983. № 6. P. 35-51.
- Mitchell W. J. T. Blake's Composite Art: a Study of the Illuminated Poetry. Princeton University Press, 1978. xix + 232 p.
- Ostriker A. Desire Gratified and Ungratified: William Blake and Sexuality // Blake / An Illustrated Quarterly. 1982-1983. № 16.3. P. 156-165.
- Raine K. Blake and Tradition: in 2 vols. Rout-ledge & Kegan Paul, 1969.
- SchorerM. William Blake: the Politics of Vision. New York: H. Holt and Company, 1946. 522 p.
- Silina B. William Blake and English Pre-romanticism. Riga: P. Stuccas Latvijas Valsts uni-versitäte, 1982. 56 p.
- Slawek T. The Outlined Shadow. Phenomenology. Grammatology. Blake. Katowice: Uniwersytet Sl^ski, 1985. 166 p.
- Swinburne A. Ch. William Blake. A critical essay. London, 1868. 358 p.
- Tayler I. The Woman Scaly // Midwestern Modern Languages Association Bulletin. 1973. № 6. P. 74-87.
- Warner N. O. Shaw, Tolstoy and Blake's Russian Reputation // Blake / An Illustrated Quarterly. 198384. № 17.3 (Winter). P. 102-104.