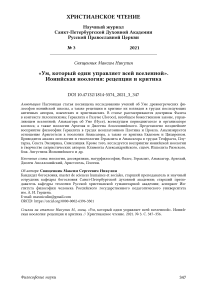«Ум, который один управляет всей вселенной». Ионийская ноология: рецепция и критика
Автор: Никулин Максим Сергеевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 3 (98), 2021 года.
Бесплатный доступ
Настоящая статья посвящена исследованию учений об Уме древнегреческих философов ионийской школы, а также рецепции и критике их взглядов в трудах последующих античных авторов, языческих и христианских. В статье рассматриваются доктрины Фалеса в контексте гилопсихизма; Гераклита о Разуме (Логосе), всеобщем божественном законе, управляющем вселенной; Анаксагора об Уме (Нусе), всеведущем перводвигателе и организаторе космоса; а также ноологии Архелая и Диогена Аполлонийского. Представлено позднейшее восприятие философии Гераклита в трудах неоплатоников Плотина и Прокла. Анализируется отношение Аристотеля к ноологии Анаксагора, а также ее критика Евдемом и Цицероном. Приводится анализ онтологии и гносеологии Гераклита и Анаксагора в трудах Теофраста, Плутарха, Секста Эмпирика, Симплиция. Кроме того, исследуется восприятие ионийской ноологии в творчестве патристических авторов: Климента Александрийского, сщмч. Ипполита Римского, блж. Августина Иппонийского и др.
Ноология, досократики, натурфилософия, фалес, гераклит, анаксагор, архелай, диоген аполлонийский, аристотель, плотин
Короткий адрес: https://sciup.org/140257075
IDR: 140257075 | DOI: 10.47132/1814-5574_2021_3_347
Текст научной статьи «Ум, который один управляет всей вселенной». Ионийская ноология: рецепция и критика
Традиционно к Милетской школе относят Фалеса, Анаксимандра и Анаксимена. Диоген Лаэртий (1-я пол. III в по Р. Х.), автор единственной сохранившейся биографической истории древнегреческой философии «Жизни и мнения прославленных философов», выделяет «ионийскую школу», но понимает ее весьма широко, включая туда также Анаксагора, Архелая, платоников, киников, стоиков и перипатетиков. В настоящей статье мы ограничимся рассмотрением ноологических взглядов милетцев и их географических «соседей» Гераклита, Анаксагора и его учеников.
Доксографический компендий «Мнения философов»1 сообщает, что Фалес Милетский (640–562 до Р. Х.) считал, что Бог — Ум (νοῦς) космоса, что мир одушевлен и полон демонов и что божественная сила пронизывает и сообщает движение первичной влаге (11 А 23 2 ; Plac. I, 7, 11). По мнению Цицерона, основатель Милетской школы первым рассматривал теологические вопросы, поскольку он занимался проблематикой первоначала (ἀρχή) и считал им воду, но полагал, что космос из воды был создан именно Умом (mens = voug) (11 А 23; Cic. Nat. D. I, 10, 25). Однако несостоятельность этих свидетельств, делающих Фалеса дуалистом и сближающих его с Анаксагором, доказал еще аббат В. Канай (V. Canaye) в своем трактате «О философии Фалеса» (1778). Фалес, несомненно, не дуалист и не материалист, но гилозоист или гилопсихист, то есть он признает оживленность или одушевленность материи. Фалес не выделял особое движущее начало, отдельное от материальной основы [Маковельский, 1999, 42, 76].
Гераклит Эфесский (ок. 540 — ок. 480 до Р. Х.), рассматриваемый Диогеном как философ-одиночка, изрек известную максиму: «Многознание уму не научает» (πολυμαθίη νόον ἔχειν οὐ διδάσκει) и отказал в наличии ума своим предшественникам — Гесиоду, Пифагору, Ксенофану и Гекатею (22 В 16; DK 22 B 40; D. L. IX, 1).
Вульгарное бэконианство полагает, что наука развивается посредством накопления информации с последующим установлением всеобщих законов. С этой точки зрения, понимание является продуктом «многознания». Однако Дж. Барнс ставит под сомнение интерпретацию Гераклита как протест против такой ранней формы бэконианства. По мнению исследователя, предметом осуждения Гераклита является не первая, а вторая часть слова πολυ-μαθίη. С этой позиции вина Пифагора не в том, что он много знал, а то, что он заимствовал мысли других. Глагол μανθάνω означает учиться, в особенности учиться у других. Студенты часто не ищут себя, и именно поэтому, как бы много они ни выучили, не могут претендовать на понимание. Дж. Локк утверждал, что свидетельство других может лишь поддержать вероятное мнение, но никогда не способствует знанию. Именно такую эпистемологическую концепцию исследователь атрибутирует Гераклиту [Barnes, 2005, 115].
Климент Александрийский использует слова Гераклита «Как можно утаиться от того, что никогда не заходит?» в экзегезе стиха Ис 29:15, в котором говорится о людях, думающих утаить свой замысел от Господа. Климент понимает это изречение философа в смысле указания на невозможность скрыться от умопостигаемого (νοητὸν) света, в отличие от света чувственного (αἰσθητὸν φῶς) (22 B 81; DK B 16; Clem. Paed. II, 99, 5).
Представитель среднего платонизма Цельс (2-я пол. II в. по Р. Х.) в полемике с христианами хотел показать им, что мысль св. ап. Павла «Мудрость (σοφία) мира сего — глупость (μωρία) для Бога» (1 Кор 3:19) заимствована у эллинских философов, учивших о различии человеческой и божественной мудрости. В доказательство этого тезиса философ приводит цитату Гераклита «Человеческая натура (qQog) не обладает разумом (γνώμας), а божественная обладает» (22 В 90; DK 22 В 78; Orig. C. Cels. VI, 12) и близкую по смыслу «Мужчина слывет неразумным (νήπιος) для божества (δαίμονος), как мальчик — для мужчины (перевод мой. — свящ. М. Н.)» (22 В 92; DK 22 В 79; Orig. Ibid.). В связи с этим можно упомянуть и еще одно выражение Гераклита: «личность — божество человека» (ἦθος ἀνθρώπωι δαίμων) (22 В 94; DK 22 В 119; Stob. IV, 40, 23).
Космологию Гераклита Э. Хасси резюмирует следующим образом. Всеобщий космический процесс можно рассматривать как два эпизода — возгорание и затухание вечного огня. Каждый из них подразделяется на два субпроцесса: нагревание и высыхание; охлаждение и увлажнение. Это соответствует четырем классическим космическим противоположностям — горячее, холодное, мокрое, сухое. Четыре стихии возникают как сочетание пар оппозиций: земля = холодное + сухое; вода = холодное + мокрое; огонь = горячее + сухое; воздух = горячее + мокрое. Все эти процессы повторяются с разной периодичностью (суточный, годовой и др. циклы). В определенный момент весь космос пребывает в огненной фазе [Hussey, 2006, 99-100]. По свидетельству сщмч. Ипполита Римского, Гераклит считал Бога «умным огнем» (22 А 4; Hippol. Ref. I, 4). То есть святой сближал пирологию Гераклита с его ноологией, к рассмотрению которой мы и переходим.
В непосредственной связи с ноологией Гераклита является и его учение о Логосе. Он называл Логосом судьбу (εἱμαρμένα), все предопределяющую, пронизывающую субстанцию вселенной и творящую все вещи через «бег-в-противоположные-сторо-ны» (22 B 28 c1; DK 22 Β 137; Plac. I, 27, 1; I, 28, 1; I, 7, 22). Сщмч. Ипполит Римский передает нам следующее изречение Гераклита: «οὐκ ἐμοῦ, ἀλλὰ τοῦ λόγου ἀκούσαντας ὁμολογεῖν σοφόν ἐστιν ἕν πάντα εἶναι» (DK 22 B 50; Hippol. Ref. IX, 9, 1) — «Для тех, кто услышал не меня, но Логос, мудро признавать, что все есть одно (перевод мой. — свящ. М. Н. )», которое вследствие синтаксической двусмысленности может быть переведено и так: «...есть одно мудрое Существо, которое есть все» (перевод мой. — свящ. М.Н. ). Это Мудрое (σοφόν) от всего обособлено (κεχωρισμένον) (DK 22 B 108; 22 B 83; Stob. III, 1, 174) и является Умом (Yvopnv), управляющим (EKue^vncE) вселенной (22 B 85; DK 22 B 41; D. L. IX, 1). Последний фрагмент А. В. Лебедев улучшает так: «ἕν τὸ Σοφὸν ἐπίστασθαι° Γνώμην ἥτε οἴη ἐκυβέρνησε πάντα διὰ πάντων» и переводит следующим образом: «Следует признавать только одно мудрое Существо (т. е. Бога): Ум, который один управляет всей вселенной». По мнению исследователя, архаичное понятие Демиурга было не изобретено, а воскрешено Платоном. Божественный космический Разум Гераклита и Анаксагора также функционирует в качестве Демиурга. Все вещи произошли от первоначального огня, «подобно тому как плавят золотой песок» (22 B 53bis; Arist. De cael. 304 a 21), что свидетельствует о том, что уже огонь Гераклита понимался как Демиург. Стоический «огонь-ремесленник» (πῦρ τεχνικόν) и связанная с ним идея «творческой природы» (фиогд TEXV^тng), по мнению ученого, также восходит скорее к Гераклиту, чем к платоновскому «Тимею» (связь воззрений Гераклита и стоиков постулирует и Калкидий, см. ниже). Ибо для Платона Демиург (Ум) был нематериальной сущностью в оппозиции к материи, тогда как и стоики, и Гераклит отождествляют творческое начало с физической сущностью, огнем. Гераклит и стоики следуют традиции ионийского натуралистического монизма, тогда как Платон развивает пифагорейский дуализм [Lebedev, 2019, 659].
По мнению Секста Эмпирика, в основании гносеологии Гераклита лежит его учение о Логосе, поскольку он считал критерием истины разум (λόγος), а не данные чувственного опыта. В подтверждение своего мнения Секст приводит слова Эфесского философа: «Глаза и уши — дурные свидетели для людей, если души у них варварские» (22 B 13; DK 22 B 107; Sext. Adv. math. VII, 126). Приведем весьма интересное, на наш взгляд, понимание Секстом учения Гераклита. Мерилом (κριτὴν) истинного знания является не индивидуальный, а всеобщий (κοινὸν) и божественный (θεῖον) логос. Окружающий человека мир разумен (λογικόν) и обладает сознанием (φρενῆρες). Человек втягивает в себя божественный разум (λόγον) вместе с дыханием и таким образом становится разумным (νοεροὶ). Во время сна нарушается связь индивидуума с внешним миром, поэтому заключенный в человеке ум (voug) обосабливается, лишается полноты связи с Объемлющим (τῆς πρὸς τὸ περιέχον συμφυίας) и сохраняет ее малую часть через дыхание. Вследствие этого спящий утрачивает память, а по пробуждении вновь через активизировавшиеся сенсорные каналы контактирует с Объемлющим и восстанавливает рациональную способность (λογικὴν … δύναμιν). Секст уподобляет отношение Логоса и человека с огнем и углями, которые раскаляются вблизи пламени и гаснут при удалении от него. (22 B 116; DK 22 A 16; Sext. Adv. math. VII, 127–130). Латинский платоник и, возможно, христианин Калкидий (V в. по Р. Х.) в своем «Комментарий к „Тимею“ Платона», утверждает, что учение стоиков близко мнению Гераклита о связи человеческого и божественного Разума (Логоса). Однако, по Калкидию, Гераклит одобрял практику гадания, поскольку учил, что во сне человек не утрачивает связь с Логосом, а, наоборот, усиливает ее и может даже получать от него откровения о будущем (22 B 116c; DK 22 A 20; Calc. In Tim. 260, 20).
Прежде рассмотрения ноологии Анаксагора Клазоменского (500-428 до Р. Х.), систематизатора основных проблем предшествующей натурфилософии, приведем краткое изложение его физической теории, которую Д. Грэм выражает следующими тезисами. Принцип нестановления означает, что никакая субстанция не появляется и не исчезает.
Вселенская смесь обеспечивает то, что все есть во всем. Вследствие бесконечной делимости материя может делиться ad infinitum. Принцип предоминантности означает, что субстанция, количество которой наиболее присутствует в смеси, имеет свои качества преимущественно представленными в результирующей субстанции. Из-за гомеомерности каждая субстанция состоит из порций абсолютно одного характера, то есть она гомогенна повсюду. Последний тезис остается спорным, так как элементы Анаксагора часто считают гомогенными, поскольку Аристотель называет их гомеомериями (подобочастными, то есть имеющими части как целое). Гомеомерии Аристотеля — это вещества, которые можно разделить на части того же вида (например, кровь и ее капли). Но неясно, объясняет ли здесь Аристотель элементы Анаксагора как гомеомерии, или просто отождествляет их с гомогенными в своей системе. Единственная вещь, которую Анаксагор эксплицитно идентифицирует как гомогенную, есть Ум, который контрастирует с изменчивостью элементов [Graham, 2006, 163–164].
Анаксагор считал Бога Умом, творящим космос (νοῦν κοσμοποιὸν τὸν θεόν) (59 А 48; Plac. I, 7, 15). За свою ноологическую концепцию и сам философ получил прозвище Ум (59 А 1), и ему, как герою, был воздвигнут алтарь с надписью «Уму» или, по-другому свидетельству, «Истине» (59 А 24; Aelian. Var. hist. VIII, 19). Изложение учения Анаксагора об Уме целесообразно начать с цитирования важнейшего сохранившегося фрагмента:
Все [вещи] содержат долю (μοῖραν) всего, Ум (νοῦς) же есть нечто неограниченное (ἄπειρον) и самовластное (αὐτοκρατὲς) и не смешан ни с одной вещью (μέμεικται οὐδενὶ χρήματι), но — единственный (μόνος) — сам по себе (αὐτὸς ἐπ’ ἐωυτοῦ). Если бы он не был сам по себе (ἐφ’ ἑαυτοῦ), но был смешан с чем-то другим, он был бы причастен (μετεῖχεν) всем вещам [сразу], будь он смешан с чем-то [одним]. Ибо, как я сказал выше, во всем содержится доля всего (ἐν παντὶ γὰρ παντὸς μοῖρα ἔνεστιν). Примешанные [вещи] препятствовали бы ему, [не давая] править (κρατεῖν) ни одной вещью так, как [он правит] в одиночку и сам по себе. Ибо он тончайшее (XenTOTaTov) и чистейшее (KaOaptiTaTov) из всех вещей, и предрешает (γνώμην … ἴσχει) абсолютно все, и обладает величайшим могуществом (ἰσχύει μέγιστον). И всеми [существами], обладающими душой (ψυχὴν), как большими, так и меньшими, правит (κρατεῖ) Ум. И совокупным круговращением (περιχωρήσιος) [мира] правит Ум, так что [благодаря ему это] круговращение вообще началось. Сперва круговращение началось с малого, [теперь] оно расширилось, а в будущем расширится еще больше. И то, что смешивается (cu^^iCTYo^eva), и то, что выделяется [из смеси] (anoKpivo^eva), и то, что разделяется (SiaKpivo^eva), — все это предрешает (ἔγνω) Ум. И все, чему суждено было быть, и все, что было, но чего теперь нет, и все, что есть теперь и будет в будущем, — все это упорядочил (διεκόσμησε) Ум, равно как и это круговращение (περιχώρησιν), в котором кружатся теперь выделяемые звезды, Солнце, Луна, воздух и эфир (59 B 12; Simpl. In Phys. 164, 24).
Из этого фрагмента К. Тэйлор выделяет ряд тезисов о природе и деятельности Ума. По природе ум безграничен, самоуправляющийся, отделенный от всего прочего, тончайший и чистейший, везде одинаковый. Деятельность Ума заключается в том, что он мыслит о всем, обладает величайшей силой, управляет одушевленным, инициирует и продолжает космическую ротацию, ведает все смешения и разделения всего, организует все бывшее, сущее и будущее. Вероятно, Анаксагор под Умом имеет в виду как ум вообще, представленный в различных индивидуальных сознаниях, так и единый вселенский Ум. Перечисленные природные свойства дифференцируют ум от прочих конституентов вселенной и характеризуют все умы, «большие и меньшие», то есть космический и индивидуальные — животные и человеческие. Энер-гийные свойства относятся к единому высшему Разуму, упорядочивающему космос как целое. Умы человека и животных явно подчинены космическому, но способ субординации не очевиден. Неясно, являются ли индивидуальные умы частями вселенского или агентами под его управлением [Taylor, 2005, 200–201].
По мнению Дж. Барнса, термин voug функционирует у Анаксагора как неисчисляемое существительное. Указание на тонкость Ума представляет попытку выразить его бестелесность, но он, определенно, протяжен в пространстве. По мнению исследователя, Анаксагор имел склонность приписывать Уму материальное существование и природу [Barnes, 2005, 319].
Демокрит высмеивал учение Анаксагора об Уме как движущей причине в космо-геническом процессе (59 А 5; D. L. IX, 41). Платон указывает на разочарование, испытанное его учителем по поводу доктрины Анаксагора. Сократ, услышав об учении философа о том, что причина и устроитель всех вещей — Ум, сначала пришел в восторг и думал, что нашел себе учителя по уму, поскольку считал, что Ум должен был оптимальным образом устроить космос. Он думал найти у Анаксагора объяснение причин всех вещей исходя из принципа наивысшего Блага, но, ревностно прочитав его книги, разочаровался, поскольку не нашел в них указания на подлинные причины порядка, а только отсылки на стихии (59 А 47; Plat. Phaed. 97). В другом месте Сократ, рассматривая этимологию понятия справедливое (τὸ δίκαιον), ссылается в том числе на Анаксагоров Ум, поскольку он упорядочивает все вещи, проходя через (διὰ ἰόντα) них (59 А 55; Plat. Crat. 413 с 4).
Аристотель среди предшественников своей идеи о космическом Уме-Перводвига-теле, помимо Анаксагора, называет еще более раннего предсказателя Гермотима Кла-зоменского (59 А 58; Arist. Met. А 3. 984 b 15). Стагирит представляет учение Анаксагора как признание двух начал: Одного и Иного, то есть простого и несмешанного Ума и неопределенного смешения, которое впоследствии через сопричастность частному виду (эйдосу) получает свое определение (59 А 61; Arist. Met. А 8, 989 а 30). Однако началом par excellence у Анаксагора является простой и чистый Ум, обладающий способностью как познания, так и движения (59 А 55; Arist. De an. А 2, 405 а 15). При этом свойства бесстрастности и беспримесности Ума позволяют ему, соответственно, двигать, оставаясь недвижимым, и господствовать над материей (59 А 55; Arist. Phys. Θ 5, 256 b 24).
Тем не менее, Аристотель приписывал Анаксагору признание также души (ψυχή) принципом движения, хотя он и учил, что космос получил первоначальный импульс от Ума (59 А 99; Arist. De an. А 2, 404 а 25). Кроме того, Аристотель отмечает, что в одних случаях, в отличие от Демокрита, у Анаксагора ум и душа различаются, а в других отождествляются, например, когда он говорит о присущности ума (в смысле разума — φρόνησις) всем живым существам (59 А 100; Arist. De an. 404 b 1). По некоторым сведениям, Анаксагор считал душу телом, состоящим из воздуха, тогда как ум внедряется извне (59 А 93; Plac. IV, 3, 2; Ibid. IV, 5, 11). При этом всем живым существам (Z«ia) присущ лишь активный разум (Aoyov ... EvepYnTiKov), но не пассивный ум (νοῦν … παθητικόν), толкователь ума (νοῦ ἑρμηνέα) (59 А 101; DK Ibid.; Plac. V, 20, 3). Приближенный Ирода Великого перипатетик Николай Дамасский (ок. 64 — после 4 до Р. Х.) сообщает, что Анаксагор, Демокрит и Эмпедокл учили о наличии ума (intellectus = νοῦς) и понимания (intelligentia = φρόνησις) даже у растений (59 А 117; De plant. I, 1. 815 а 15).
В то же время Стагирит подвергает критике ноологию Анаксагора по ряду моментов. Ему кажется, что Анаксагор использует это понятие как deus ex machina (μηχανή) всякий раз, когда он не может точно установить причину (59 А 47; Arist. Met. А 4, 985 а 18). Во-вторых, Аристотель видит противоречие в том, что, с одной стороны, Ум Анаксагора не испытывает воздействий, а с другой, обладает способностью познания (59 А 100; Arist. De an. 405 b 19). Наконец, Аристотель указывает на нестыковку в том, что по мнению Анаксагора, с одной стороны, Ум стремится разделить вещи, а с другой, они окончательно никогда не разъединятся (59 А 53; Arist. Phys. А 4, 188 а 5).
Теофраст Эресский (ок. 370 — между 288 и 285 до Р. Х.), крупнейший представитель перипатетической школы, ученик и преемник Аристотеля, в «Физических мнениях» понимает Ум Анаксагора как причину движения и возникновения, под действием которого гомеомерии породили космосы. При этом Теофраст отрицает признание Анаксагором бесконечного числа начал, сводя их к двум — бесконечной смеси и Уму (59 А 41; Simpl. In Phys. 27, 2). Гносеологию Анаксагора Теофраст передает как признание ума принципом всех ощущений (62 2; Theophr. De sensu. 38).
Другой ученик Аристотеля, Евдем Родосский (ок. 360 — ок. 300 до Р. Х.), оспаривал мнение Анаксагора об Уме как причине движения. В таком случае, рассуждает родосец, Ум мог бы однажды прекратить всякое движение так же немотивированно, как некогда его запустил. Кроме того, Евдем считал, что негативная оппозиция (покой) не может предварять позитивную (движение) (59 А 59; Simpl. In Phys. 1185, 9). В то же время он замечает, что Анаксагор, по большей части, объясняет генезис вещей самопроизвольностью (αὐτοματίζων) (59 А 47; Simpl. In Phys. 327, 26).
Цицерон также критиковал ноологию Анаксагора. По мнению римского философа, в Уме не может быть ни движения, чувственного или протяженного в бесконечность, ни ощущения, позволяющего ему чувствовать и приводить вселенную в движение. Если Ум — живое существо, то должно быть более внутреннее основание его жизни. Однако нет ничего внутренней ума, а внешним телом он окружен быть не может. Поэтому, заключает Цицерон, чистый, простой и отрешенный Ум находится за пределами понимания (59 А 48; Cic. Nat. D. 1, 11, 26).
Средний платоник и священнослужитель Плутарх Херонейский (ок. 45 — ок. 127 по Р. Х.) признает Анаксагора первым, кто выставил принципом (ἀρχήν) устройства вселенной не случай (Tuxnv) или необходимость (av«YKnv), но чистый и несмешанный Ум (vouv ... Ka9apov Kai aKpaTov), который во всех остальных смешанных предметах выделяет однородные частицы (ὁμοιομερείας) (59 А 15; Plut. Pericl. 4). Диоген Лаэртий также считает, что Анаксагор первый наряду с материей заговорил об Уме: «Все вещи были вперемешку, затем пришел Ум и их упорядочил» (πάντα χρήματα ἦν ὁμοῦ εἶτα νοῦς ἐλθὼν αὐτὰ διεκόσμησεν) (D. L. II, 6).
Климент Александрийский в «Увещании к эллинам» хвалит философов Анаксимандра, Анаксагора и Архелая за то, что они в поисках первоначала превзошли стихии и поднялись к более возвышенному принципу — бесконечному (τὸ ἄπειρον), причем последние два поставили над бесконечностью разум (νοῦς) (12 А 15; Clem. Protr. 5, 66). В то же время Александрийский дидаскал считает Ум Анаксагора бездеятельным и глупым, поскольку творящей причиной является, в конечном счете, не он, а «дурацкие вихри» (59 А 57; Clem. Strom. II, 14). Сщмч. Ипполит Римский также упоминает Анаксагора в связи с его учением о двух причинах — Уме как творящей и материи как становящейся (59 А 42; Hippol. Ref. I, 8, 1).
Неоплатоник и ученик Аммония Александрийского Симплиций Киликийский (ок. 490–560 по Р. Х.) довольно точно резюмирует теорию космогенеза Анаксагора в связи с его ноологией. Ум является причиной движения (κινεῖν) всего, в результате чего в ходе круговращения (περιχώρησις) из движущегося происходит выделение (ἀπεκρίνετο) и разделение (διεκρίθη), что и является происхождением всего (59 B 13; Simpl. In Phys. 300, 27). Кроме того, Симплиций, ссылаясь на вышеприведенную пространную цитату Анаксагора, считает его предтечей учения платонизма о двух мирах, умопостигаемом и чувственном. (59 В 14; Simpl. In Phys. 157, 5). Ум, Творец космоса, разделив виды (е!§п), т. е. гомеомерии, придал кинетический импульс вещам, пребывавшим вперемешку бесконечное время (59 А 45, Simpl. In Phys. 1123, 21). При этом, основываясь на мысли Анаксагора «Ум все знает (ἔγνω)» (см. выше), неоплатоник утверждает, что существует конечное число видов вещей, потому что бесконечное непознаваемо (59 В 7; Simpl. In De caelo. 608, 23). Вероятно, Симплиций здесь имеет в виду, что Ум может действительно знать каждый ингредиент смеси, поэтому каждый отделим аналитически, даже если и не актуально. В таком случае каждый ингредиент будет обладать необходимыми парменидовскими свойствами, чтобы служить базовой сущностью. Поэтому П. Курд характеризует теорию Анаксагора как рациональную космологию, совместимую с плюрализмом элеатов [Curd, 2006, 46–47].
Ученик Анаксагора и учитель Сократа Архелай Афинский (род. ок. 485 до Р. Х.), по свидетельству сщмч. Ипполита Римского, в отличие от своего учителя считал, что в Уме изначально также было некое количество смеси. Началом движения является разделение горячего и холодного, причем первое движется, а второе покоится. Также Архелай считал ум присущим всем животным в равной мере. Отличие их в уровне разумности зависит от скорости его использования (60 А 4; Hippol. Ref. I, 9, 1). Согласно «Мнениям философов», Архелай считал, что Бог — воздух и ум (ἀέρα καὶ νοῦν), но ум не миротворящий (κοσμοποιὸν) (60 А 12; DK Ibid. Plac. I, 7, 14). Блж. Августин Иппонийский в труде «О граде Божием» сообщает, что, по мнению Архе-лая, вечным гомеомериям имманентен Разум, управляющий ими посредством соединения и разделения (60 А 10; Aug. Civ. D. VIII, 2). Христианский неоплатоник Иоанн Филопон (ок. 490–570) в «Комментарии к трактату „О душе“ Аристотеля», ссылаясь на Стагирита, утверждает, что Архелай также под умом понимал и душу, поскольку именно она приводит в движение (60 А 18; Io. Philop. In De an).
Ученик Анаксагора Метродор Лампсакский (2-я пол. V в. до Р. Х.) вслед за учителем занимался аллегорической натурфилософской экзегезой поэм Гомера. По свидетельству византийского историка монаха Георгия Синкелла (VIII–IX в.), секретаря свт. Тарасия Константинопольского, Метродор, как и прочие анаксагоровцы, толковал мифического Зевса как Ум (61 6; Georg. Sync. 140С).
Естествоиспытатель и натурфилософ Диоген Аполлонийский (2-я пол. V в. до Р. Х.) пытался синтезировать аэрологию Анаксимена с ноологией Анаксагора. При этом он рассматривал космический Ум не как отдельную субстанцию, а как имманентное свойство воздуха. Так, блж. Августин свидетельствует, что Диоген, ученик Анаксимена, считал первоначалом (materiam) вещей воздух (aerem), наделенный божественным разумом (compotem divinae rationis), иначе он ничего не смог бы произвести (64 А 8; Aug. Civ. D. VIII, 2). Также и Симплиций сообщает, что Диоген в трактате «О природе» доказывает на основании аргументов, что в признаваемом им начале (архн) имеется много сознания (νόησις πολλή) (64 В 2; Simpl. In Phys. 151, 28). Теофраст считает, что Диоген устанавливал зависимость между уровнем мышления и качеством вдыхаемого воздуха. Человек мыслит (фpovЁы) чистым и сухим воздухом. Влага препятствует уму, вследствие чего во сне, во хмелю и при переедании человек хуже соображает. Потому и животные слабее разумом (8iavoia), что дышат не чистым воздухом и питаются влажной пищей (64 А 19; Theophr. De sensu. 44). Поэтому логичным является заключение о том, что Ум является самой чистой и теплой формой воздуха, дающей жизнь и когнитивные способности животным и людям [Гатри, 2017, 608].
Таким образом, можно сделать следующие выводы касательно ионийской ноо-логии. Учение Фалеса об Уме, если признавать долю истинности за позднейшими свидетельствами, следует понимать в контексте гилопсихизма.
Гераклит учил об Уме (yv^^q), управляющем вселенной. Он является одновременно всеобъемлющим и обособленным мудрым существом. Эфесский философ также именует его λόγος или νοῦς. Это всеобщий божественный закон, с которым следует соотносить свою речь. По мнению Гераклита, разум (γνώμη) принадлежит только божественной, а не человеческой природе, которой свойствен рассудок (φρόνησις). Плотин и Прокл развивают мысль философа о том, что критерием истинности является близость к всеобщему, целому, единому.
Анаксагор считал природу ума (voug) безграничной, самоуправляющейся, отделенной от всего прочего, тонкой, везде одинаковой. Такой ум (или душа) присущи всем живым существам. Космический Ум мыслит о всем, обладает величайшей силой, управляет одушевленными существами, инициирует и поддерживает космическую ротацию, ведает все смешения и разделения, организует сущее. Аристотель видит в Анаксагоре предшественника своего учения об Уме-Перводвигателе, но также критикует непоследовательность ноологии Клазоменца вместе с Евдемом и Цицероном. Теофраст, Плутарх, сщмч. Ипполит Римский и Симплиций относят Анаксагора к дуалистам, а Диоген Лаэртий и Климент Александрийский признают его первым, сделавшим высшим началом Ум.
Ум Гераклита и Анаксагора также функционирует в качестве Демиурга. Секст Эмпирик считает рационалистической гносеологию Гераклита, а Теофраст — Анаксагора.
Архелай и Диоген Аполлонийский синтезировали ноологию Анаксагора и аэрологию Анаксимена, делая мышление имманентным свойством воздуха.
В заключение хотелось бы заметить, что проблема раннегреческого идеализма остается открытой. Следует ли соглашаться с мнением А. Ф. Лосева о том, что в ранней классике идеальное — это всего лишь тонкое, легкое и светлое материальное, что ни Нус Анаксагора, ни Логос Гераклита, ни мышление Диогена Аполлонийского не изолированы от материальности, но являют собой собственную упорядоченность и закономерность вещей [Лосев, 2000, 571]? Или лучше последовать мнению А. В. Лебедева, доказывающего существование в ранней греческой метафизике идеализма (ментализма, то есть ноологии) и рассматривающего творение божественным Умом как форму такого объективного идеализма [Lebedev, 2019, 653–661]?
Список литературы «Ум, который один управляет всей вселенной». Ионийская ноология: рецепция и критика
- Greek New Testament. 5th ed / Ed. by B. Aland, K. Aland, J. Karavidopoulos, C. M. Martini, B. M. Metzger. Munster, 2014.
- Гайденко (2008) — Античная философия. Энциклопедический словарь / Ред. П. П. Гайденко, М. А. Солопова, С. В. Месяц и др. М., 2008.
- Гатри (2017) — Гатри У.К. Ч. История греческой философии. Т. 2: Досократовская традиция от Парменида до Демокрита. СПб., 2017.
- Лосев (2000) — Лосев А. Ф. История античной эстетики. Т. 1: Ранняя классика. М., 2000.
- Маковельский (1999) — МаковельскийА.О. Досократики. Доэлеатовский и элеатов-ский периоды. Минск, 1999.
- Плотин. Шестая Эннеада. Трактаты I-V / Пер. Т. Г. Сидаша. СПб., 2016.
- Фрагменты ранних греческих философов / Под ред. А. В. Лебедева. Ч.1: От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики. М., 1989.
- Barnes (2005) — Barnes J. The Presocratic Philosophers. London; New-York, 2005.
- Curd (2006) — Curd P. Parmenides and After: Unity and Plurality // Blackwell Companion to Ancient Philosophy / Ed. by M. L. Gill, P. Pellegrin. Malden, 2006. P. 34-55.
- DK — Die Fragmente der Vorsokratiker / Hrsg. von Diels H., Kranz W.B. 1-3. Berlin, 1959-1960.
- Graham (2006) — Graham D.W. Empedocles and Anaxagoras: Responses to Parmenides // The Cambridge Companion to Early Greek Philosophy / Ed. by A. A. Long. Cambridge, 2006. P. 159-180.
- Hussey (2006) — Hussey E. Heraclitus // The Cambridge Companion to Early Greek Philosophy / Ed. by A. A. Long. Cambridge, 2006. P. 88-112.
- Lebedev (2019) — LebedevA. V. Idealism (Mentalism) in Early Greek Metaphysics and Philosophical Theology: Pythagoras, Parmenides, Heraclitus, Xenophanes and Others (with Some Remarks on the «Gigantomachia about Being» in Plato's Sophist) // Индоевропейское языкознание и классическая филология-XXIII: Материалы чтений, посвященных памяти профессора Иосифа Моисеевича Тронского. СПб., 2019. С. 651-704.
- Plotinus / Ed. by A. H. Armstrong. London, 1979.
- Taylor (2005) — Taylor C. C. W. Anaxagoras and the atomists // Routledge History of Philosophy. V. 1: From the Beginning to Plato / Ed. by C. C. W. Taylor. London; New York, 2005. P. 192-224.