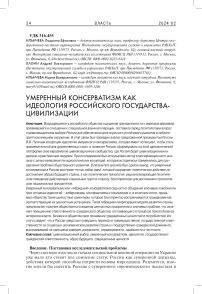Умеренный консерватизм как идеология Российского государства-цивилизации
Автор: Ильичева Л.Е., Лапин А.В., Ильичева М.В.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Тема
Статья в выпуске: 2, 2024 года.
Бесплатный доступ
Возродившееся у российского общества ощущение принадлежности к мировым державам, проявившееся в отношении к специальной военной операции, поставило перед политологами вопрос о цивилизационном выборе России для обеспечения долгосрочного устойчивого развития в неблагоприятном внешнем окружении. В этой связи был проведен анализ предложенной президентом России В.В. Путиным концепции идеологии умеренного консерватизма, которая имеет потенциал, чтобы стать привлекательной для дружественных стран, и позволит России сформировать на этой идеологической платформе свое евразийское цивилизационное сообщество, где Россия будет цивилизационным и духовно-нравственным лидером. При исследовании был использован метод классификационного анализа с целью выявления тех идеологических концепций, которые исторически применялись для преодоления проблем общественного развития. В результате анализа был сделан вывод, что умеренный консерватизм в России выступает не как набор идей, который направляет политическое действие на достижение образа будущего страны, а как политическая технология, рационализирующая политическое поведение действующих социальных групп в сторону, благоприятную для достижения стратегических национальных приоритетов. Умеренный консерватизм (или «гибридный» консерватизм) сущностно объединил ключевые компоненты трех основных идеологий - либерализма, консерватизма и социализма и, в конечном итоге, предъявил обществу такие ценностные ориентиры, которые благоприятно воспринимаются гражданами как соответствующие их ценностным установкам. Такая гибридная конфигурация модели развития страны предполагает наличие общественного видения ценностных приоритетов и ключевых проблем, что означает повышенную ответственность гражданского общества, отстаивающего в процессе поиска баланса интересов власти, бизнеса и общества свое понимание традиционных ценностей и потребностей. Из этого следует, что в России предстоит совершить переход от преимущественно государственной ответственности за социально-экономическое развитие страны к государственно-гражданской доминанте, выстраиваемой на принципах доверия, разумности, справедливости, надежности и честности.
Цивилизационный выбор, умеренный консерватизм, идеология, государственно-гражданская ответственность, образ будущего, традиционные ценности
Короткий адрес: https://sciup.org/170205566
IDR: 170205566 | УДК: 316.455 | DOI: 10.24412/2071-5358-2024-2-24-42
Текст научной статьи Умеренный консерватизм как идеология Российского государства-цивилизации
Введение. Постановка исследовательской проблемы
Через полтора года после начала специальной военной операции на Украине уже мало кто ставит под сомнение статус России как суверенной державы, действия которой способны потрясти основы мироздания. Разумеется, многие хотели бы сместить Россию с суверенного «проимперского» пьедестала и ослабить ее влияние на глобальные процессы лишь до региональных притязаний. Однако замысел, который сегодня реализует российское руководство в противостоянии с коллективным Западом, основывается на высокой вероятности сохранения Россией статуса великой суверенной державы, способной выдержать колоссальное враждебное давление по всем азимутам.
Именно новая реальность пробудила тоску общества по внутреннему имперскому ощущению принадлежности к великому народу-победителю, мировому лидеру, диктующему смыслы мироздания, детерминирующему внедрение долгосрочной модели государственного развития, успех которой только и может оправдать жертвенность, проявляемую гражданами при построении новой модели мироустройства с участием России как цивилизационного лидера, «цивилизации цивилизаций, оплота противостояния неоколониализму, свободного развития цивилизаций, культур» [Караганов 2022: 10]. Возрождающиеся имперские ожидания российского общества становятся опорой для утверждения в элитном дискурсе цивилизационной идентичности на основе «национализма “имперского” типа, проявляющегося в противостоянии большой (инклюзивной) русской нации Соединенным Штатам и их союзникам» [Ачкасов 2022: 217].
Конфликт действующей экономической модели западной цивилизации с ее природой и культурой обозначил «не только пределы роста, но и неприемлемость западной цивилизации в качестве планетарной модели будущего устройства мира» [Межуев 2016: 49]. Фактически состоявшийся разрыв с западнохристианской цивилизацией, которая, по словам С. Хантингтона, оправдывала западное культурное господство над другими обществами и заставляла эти общества копировать западные традиции и институты [Хантингтон 2003: 90], привел к смещению российской цивилизационной оптики в сторону азиатского региона. Это подтверждает тезис А.С. Панарина о цивилизационной биполушарности, т.е. циклической череде общецивилизационных эпицентров с Востока на Запад и обратно, во время которых Россия как гетерогенная западно-восточная страна приступила к выполнению своего судьбоносного предназначения по восстановлению единства мировой истории и «сращиванию разошедшихся мировых структур» [Панарин и др. 1999: 30].
В процессе этого «сращивания» Россия как лидер своей политически консолидированной цивилизационной общности стремится сквозь призму уникального цивилизационного видения («Россия – Третий Рим») [Панарин и др. 1999: 134] «проецировать вовне не только военную силу, но в первую очередь духовно-нравственные и моральные ценности» [Дробинин 2022].
Это объясняется тем, что в условиях жесткого межцивилизационного соперничества за потребительские и аксиологические привязанности граждан государства-лидеры возрождающихся цивилизаций стараются повлиять на базовые ценности, идеологические принципы, правила существования, нормы поведения и другие человеческие приверженности таким образом, чтобы в конечном итоге включить население иных государств в орбиту своей цивилизационной общности. И в этой борьбе если не победить, то, по крайней мере, успешно противостоять конкурентным общностям сможет только та цивилизационная общность, государство-лидер которой продемонстрирует гражданам других стран наиболее привлекательный образ своего настоящего и будущего с точки зрения соответствия транслируемых им потребительских и духовно-нравственных устоев консьюмерским нуждам и ментальным устремлениям граждан вовлекаемых стран.
Универсальность российской модели цивилизационной общности базируется не на том, что внутри нее продвигается общая для всех культура, а на праве каждого индивида в такой цивилизации свободно избирать свою культурную нишу, оставаясь при этом открытым и толерантным к самым разным культурам [Межуев 2016: 50]. Следовательно, чем больше стран будет вовлечено в цивилизационное сообщество во главе с Россией-лидером, чем большая численность населения примет наши внутрици-вилизационные политические, культурные, социальные и другие нормы поведения, регулирующие отношения между людьми, тем более масштабным и диверсифицированным станет внутренний рынок товаров, услуг и рабочей силы, тем большая доля мировой экономики будет находиться в нашей валютной зоне, тем более устойчивой и суверенной станет российская политическая система.
Такой цивилизационный посыл ставит перед Россией задачу конструирования страны, в которой «общество и государство доверяют друг другу и способны на совместное созидание в неблагоприятном окружении»1. Это означает, что сегодня в новой реальности одной из самых актуальных задач для российских политологов становится переосмысление сущности государства с точки зрения его умения использовать имеющийся экономический и технологический потенциал для достижения национальных целей – обеспечения благополучия и безопасности граждан на основе единства общества, укрепления его способности противостоять вызовам и рискам со стороны враждебной или инфантильной внешней среды.
Цивилизационный подход нашей элиты к осмыслению роли России в современном мире нашел свое отражение в Концепции внешней политики Российской Федерации, которая официально закрепила особое положение России как самобытного государства-цивилизации, обширной евразийской и евро-тихоокеанской державы, обеспечивающей гармоничное сосуществование различных народов, составляющих культурно-цивилизационную общность русского мира. Но статус России как государства-цивилизации не означает, что у нее не может быть близкого по духу цивилизационного окружения, для которого Россия является мировым аттрактором.
В этой связи на первый план выдвигается проблема онтологического обновления системы государственного устройства России с тем, чтобы реконструировать ее ценностно-смысловые конструкции и отстроить стратегию развития нашего общества от его текущего состояния к тому трансцендентно светлому образу, который, с одной стороны, является продуктом развития нашего нынешнего общественного сознания, адекватного уровню современной российской политической науки, с другой – a priori способен генерировать привлекательные сущности калибра будущих мировых идеологий, на фундаменте которых можно будет сформировать цивилизационное окружение, включающее дружественные государства, образующие в т.ч. единую экономическую и валютную зоны. Следует отметить, что число потенциально дружественных государств достаточно велико: например, по мнению главы МИДа РФ С.В. Лаврова, в число дружественных государств входят те страны мирового большинства, которые не попали в список недружественных государств, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 г. №430-р1, а это десятки государств2.
Достичь этого можно при условии, если Россия будет проводить такой политический курс, в основу которого встроен яркий и притягательный идеологический компонент, обеспечивающий проецирование в окружающее политическое, культурное и информационное пространства присущих нам духовнонравственных и моральных ценностей, вызывающих позитивный отклик со стороны политических элит и граждан стран мирового большинства.
Таким образом, можно сделать вывод, что для выживания в нынешних сложных условиях и дальнейшего процветания России жизненно важным становится предъявление миру и обществу такого идеологического посыла, который произведет перезапуск действующей в России системы национальных ценностно-смысловых приоритетов в целях формирования образа будущего, который будет способен консолидировать российское общество и вовлечь политические элиты и граждан других стран мира в российский политический и социально-экономический ареал партнерства.
И таким идеологическим посылом по предложению президента России В.В. Путина может стать умеренный консерватизм.
Теоретическая рамка исследования идеологии умеренного консерватизма
Отправной точкой для осмысления новой мировоззренческой и идеологической реальности можно признать известное выступление президента Российской Федерации В.В. Путина на XVIII заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» 21 октября 2021 г., в ходе которого он заявил о принятом политическом курсе России в парадигме идеологии умеренного консерватизма как «основы, опирающейся на традиции, сохранение и приумножение населения, реализм, выстраивание системы приоритетов, соотнесение необходимого и возможного, расчетливое формулирование цели, принципиальное неприятие экстремизма»3.
Следует подчеркнуть, что этим высказыванием В.В. Путин задал в первую очередь лишь идеологический вектор движения в направлении к национальным ценностно-смысловым приоритетам России, которые в то время еще не приобрели зримые очертания для их «погружения» в соответствующие указы и директивные документы. Тем не менее анализ идеологической рамки умеренного консерватизма позволил нам сделать вывод, что в восприятии В.В. Путина умеренный консерватизм, с одной стороны, имеет значение национального приоритета (сохранение и приумножение населения), с другой – стратегии деятельности (выстраивание системы приоритетов, формулирование целей), сформированной на базе принципов, которых нужно придерживаться в процессе реализации этой стратегии (следование традициям, реализм, соотнесение необходимого и возможного, практичность, неприятие экстремизма). Применяя трактовку понятия идеологии (по Д. Истону) как артикулированной (расчлененной) совокупности идеалов, целей и задач, которые помогают субъектам политики интерпретировать прошлое, понимать настоящее, предлагать образ будущего» [Политология 2006: 111], можно сделать вывод о необходимости осмысления идеологии умеренного консерватизма как совокупности идеалов (образ будущего в формате ценностей общества); целей в виде национальных приоритетов, описывающих целевое состояние страны или региона; задач, изложенных в формате стратегии достижения образа будущего страны или региона.
Можно заметить, что в заявленной формуле умеренного консерватизма В.В. Путин не упомянул об идеале в формате образа будущего страны, который является необходимым компонентом в формуле Д. Истона. А сделал он это позднее, в выступлении на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября 2023 г., где впервые дал свое видение мирового образа будущего, базирующегося на многообразии и равноправии всех стран, их взаимосвязанности; мира коллективных решений, всеобщей безопасности и справедливого доступа к благам современного развития1. Следует отметить, что российский национальный образ будущего вполне может быть гармонизирован с представленным В.В. Путиным общемировым образом будущего, т.к. и тот и другой произрастают из общечеловеческих ценностей равноправия, взаимосвязанности и взаимозависимости, безопасности и справедливости.
Коротко говоря, можно заключить, что образ будущего страны (идеал, изложенный в формате ценностей) и идеологическая рамка его достижения (стратегия, принципы ее формирования для достижения идеала и национальные приоритеты), описанные В.В. Путиным, по сути, задают парадигму развития страны: движение к образу будущего страны как идеалу и «квинтэссенции всего исторического опыта человечества2», изложенному в формате высших ценностей государства, который осуществляется с применением идеологического подхода в рамках стратегии умеренного консерватизма, потому что, по мнению В.В. Путина, именно эта идеология являет собой пример прагматизма и здравого смысла.
В то же самое время акцент на многообразии мира подразумевает, что стремление к заявленному образу будущего страны может быть реализовано в т.ч. и на основе альтернативных идеологических конструкций, использованию которых умеренный консерватизм не препятствует, т.к. для общества важнее решение задачи движения к идеалу, чем идеологические оттенки той или иной стратегии при условии соблюдения принципов формирования этой стратегии, принятых обществом.
Декларируя новый подход к роли идеологии в развитии мира, В.В. Путин развивает мысль Д. Истона об идеологии как совокупности идеалов, целей и задач. Он возлагает на идеологию дополнительно функцию формирования и реализации стратегии по проектированию и реализации образа будущего мира и страны, поскольку в интерпретации В.В. Путина образ будущего государства жестко обусловлен соответствующими принципами формирования стратегии достижения этого образа будущего (следование традициям, реализм, прагматизм и т.д.). В рамках этого подхода В.В. Путин ставит идеологию в подчиненное положение по отношению к ценностному содержанию образа будущего страны и принципам формирования стратегии его достижения.
Национальное целеполагание и принципы, положенные в основу стратегии достижения национальных целей, выступают как доминирующие факторы, в то время как идеологическая опция, связанная с политическим процессом построения баланса интересов всех главных групп общества на пути к образу будущего, является ведомой. Из этого следует, что для достижения образа будущего страны или региона будет вполне приемлемо, если какие-то из компонентов этого образа будут достигаться в рыночной среде с использованием либеральных подходов, а другие – в среде государственного регулирования с применением консервативных или социалистических идей.
Также следует отметить, что консенсус ключевых социальных групп по поводу содержания образа будущего по мере продвижения к нему может размываться и деформироваться вследствие вероятного изменения влиятельности тех или иных политических, социальных и экономических акторов, что, в свою очередь, потребует периодического переопределения национального целеполагания в зависимости от нового соотношения основных политических, социальных и экономических сил и, следовательно, уточнения стратегии достижения образа будущего.
Кстати, пример применения подхода в стиле умеренного консерватизма можно отметить в Йоханнесбургской декларации-II XV саммита БРИКС, прошедшего в августе 2023 г., в которой страны указали, что в основе духа БРИКС (читай – принципы реализации стратегии достижения образа будущего) лежат взаимоуважение и взаимопонимание, суверенное равенство, солидарность, демократия, открытость, инклюзивность, укрепление сотрудничества и кон-сенсус1, в то время как каждая страна выстраивает свой собственный образ будущего и свою стратегию его достижения на той или иной идеологической основе.
Надо сказать, что взгляды В.В. Путина на сущность идеологии совершили длительную эволюцию от того, что называли «путинизмом» в качестве альтернативы идеологии Российской Федерации нулевых годов, до умеренного консерватизма. Под видом «путинизма» разные политологи могли разглядеть то «плебисцитарно-демократический режим с харизматическим лидером во главе» [Мигранян 2004: 13], то новый идеологический синтез всех трех глобальных идеологий, более либеральный, нежели консервативный [Милошевич 2009: 50], то «патриотизм и социальный консерватизм» [Бьюкенен 2015] и даже конгломерат понятий, означающих монополизацию власти, фальсификацию избирательной системы, реакционный консерватизм [Сулакшин 2018: 7], и т.д.
Известный французский политолог Ж-Р. Равио определил «путинизм», с одной стороны, как сложившуюся внеидеологическую конфигурацию правящей элиты вокруг ядра, контролирующего принятие решений, а с другой – как объединяющий российскую правящую элиту путинский нарратив, который, тем не менее, позволяет улавливать глубинные источники ментальной и референтной сферы партии власти одновременно с учетом корпоративной солидарности и финансовых интересов элиты [Равио 2018: 5].
Еще в 2019 г. в то время главный идеолог Кремля В. Сурков опубликовал статью «Долгое государство Путина», в которой попытался описать «путинизм» как идеологию будущего, построенную на понятии народности, которая пре- допределяет форму государственности, ограничивает фантазии теоретиков, принуждает практиков к определенным поступкам1. Главным достоинством государства В.В. Путина было объявлено его умение слышать и понимать народ, видеть его насквозь, на всю глубину, и действовать сообразно. Поэтому в путинской системе, по словам В. Суркова, все институты подчинены не идеологическим установкам, а решению основной задачи – обеспечению доверительного общения и взаимодействия верховного правителя с гражданами. В такой внеидеологической модели государства различные ветви власти объявляются ценными лишь в той степени, в какой способны обеспечить коммуникацию граждан с президентом. Вся сила государства в таком случае держится на доверии только первому лицу, а это означает, что различные политические траектории (либерализм, консерватизм, социализм) в России по факту всегда заканчиваются реалиями, неотличимыми по идеологическим нюансам, в то время как скопированные у Запада многоуровневые политические институты носят характер скорее ритуальных (чтобы было, как у всех).
В какой-то степени В.В. Путин согласился с В. Сурковым в своем выступлении на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в 2020 г., в котором он отметил, что доверие к власти и гармоничные отношения государства и общества являются ключевыми условиями для установления оптимального баланса свободы действий и гарантий безопасности, причем эти условия действуют в любом государстве безотносительно к идеологической модели политического строя в этом государ-стве2. Из этого следует, что на тот момент времени в сознании В.В. Путина уже сложилась точка зрения о вторичности идеологии политического строя по сравнению с сущностью взаимоотношений общества и государства, в рамках которых готовность людей делегировать избранной власти самые широкие полномочия более важна, чем идеологическая окраска социальных групп избирателей.
Эволюция политических взглядов В.В. Путина, в конечном итоге, привела его к необходимости продвижения в России идеологии разумного/здорового/ умеренного консерватизма, которым он продекларировал свое убеждение, что у идеологии есть свое законное место в нашей стране. В этом смысле путинский консерватизм, по мнению профессора государственного управления Гарвардского университета Т. Колтона, хорошо сочетается с путинской стратегией сохранения власти и стабильности, с национализмом, геополитическими амбициями и превознесением исторической памяти [Колтон 2022].
По словам В.В. Путина, идеология умеренного консерватизма должна иметь твердую морально-этическую ценностную основу, производную от культурноисторического развития каждой нации, проживающей в государстве, которое, по признанию В.В. Путина, до сих пор является основной структурообразующей единицей мирового устройства3.
Однако в случае принятия умеренного консерватизма в качестве домини- рующей властной идеологии, политики и исполнительные органы власти в государстве вынуждены будут ориентироваться на соответствующие идеологические положения при принятии конкретных политических решений, за последствия которых они отвечают перед своими гражданами и перед избирателями. И здесь возникает некая правовая коллизия: с одной стороны, Конституция РФ разрешает идеологическое многообразие, но запрещает государственную идеологию («никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной»1), исходя из этого, идеология умеренного консерватизма не может быть легитимирована в государственных директивных документах. С другой стороны, законодательная и нормативноправовая практика принятия политических решений диктует требование включить принципы умеренного консерватизма в официальные стратегические документы, руководствуясь которыми политики, чиновники и законодатели будут разрабатывать свои предложения в общественную повестку дня, за которые будут готовы нести ответственность. Например, сегодня сложно представить, каким образом идейно-смысловой инвариант российской идеологии в понятии «русскость» [Россия и идеология... 2020: 6], предложенный известным российским экономистом Ю.М. Осиповым, законодатели или чиновники смогут преобразовать в конкретные целеполагающие установки социально-экономического развития страны.
Идеология умеренного консерватизма: генезис, структура, цели и задачи
Выход видится на пути представления идеологии умеренного консерватизма, да и других идеологий, как совокупности идеалов, целей и задач, которые помогают власти спроектировать такую стратегию, следуя которой государство сможет выстроить оптимальную траекторию своего движения для достижения образа будущего. Тогда становится более понятной логика разработчиков поправок к утверждающейся на десятилетия Конституции РФ, запретивших идеологическую сущность модели развития государства, допустив тем самым использование идеологии как прикладного инструмента, который может быть изменен, исходя из целесообразности достижения целей общества по наиболее эффективной траектории в рамках официальной стратегии. Как точно подметил А.И. Соловьев, когнитивной платформой целеполагания общественного развития в этом случае становится рационализм и профессиональный подход к решаемым государством проблемам, не зависящим от партийно-политической лояльности специалистов [Соловьев 2021: 58].
Подтверждение возможности инструментального подхода к идеологии можно найти в трудах Э. Лемберга, который определял идеологию как систему, движущую человеческое общество и управляющую им [Lemberg 1971]. Х. Арендт, исследовавшая сущность тоталитарных обществ, также подчеркивала, что реальное содержание идеологии, первоначально несущей определенную идею (классовой борьбы как закона истории или борьбы между расами как закона природы), на самом деле поглощается логикой проведения этих представлений в жизнь, используя которую, правители получают возможность манипулировать сознанием своих подданных для совершения ими во имя идеи даже негуманных поступков [Арендт 1996: 613].
Изменение в трактовке понятия идеологии, в свою очередь, отметил Ю. Хабермас, который утверждал, что на смену старым идеологиям приходит новая, менее «идеологическая», базирующаяся на технократическом сознании, в противоположность старым, основывающимся на нерегулируемой эксплуатации и подавлении [Хабермас 2007]. По мнению Ю. Хабермаса, эта новая идеология делает акцент на функциях «целерационального действия», организующего деятельность политической системы. Он отмечал, что именно технократическое сознание, нацеленное на устранение различий между практикой и техникой, вытесняет нравственность как категорию жизненных отношений, что приводит к размыванию институциональных рамок и укреплению систем «целерационального действия».
А.И. Соловьев дополняет современное понимание идеологии своим тезисом о том, что если первоначально идеологии стимулировали межгрупповые конфликты на ценностной основе, то сейчас на смену ценностной конфронтации пришло проблемно-ориентированное соперничество крупных социальных акторов и прагматическое сотрудничество частных интересов [Соловьев 2001: 5]. Идеологическое противостояние, таким образом, замещается конкурентной борьбой экономических агентов и политических акторов за доступ к ресурсам, наличие которых позволяет удовлетворить интересы соответствующих социальных групп.
Ф.Г. Войтоловский уточняет, что содержание любой идеологии должно отвечать в первую очередь интересам элит и тех доминирующих в обществе групп интересов, на которые они опираются, для того чтобы обеспечить их устойчивость в процессе получения и удержания власти в долгосрочной перспективе, даже в современных условиях глобальных трансформаций [Войтоловский 2007]. При этом А.С. Панарин напоминает, что по-настоящему эффективно защитить свои интересы все-таки могут лишь те общественные слои, элиты которых дадут наиболее убедительную версию совпадения групповых интересов с общенациональными [Панарин 1996: 336].
Можно сделать заключение, что трактовка политологами концепта идеологии за последние 200 лет прошла сложный и противоречивый исторический путь: от простого «выражения воли, а не описания вещей» [Dumont 1974: 9]; ложного сознания, последовательно преодолеваемого только с социальноклассовых позиций рабочего класса (К. Маркс); ложного знания, действующего как некое роковое стечение обстоятельств (К. Мангейм); ложной действительности, которая, по мнению неомарксистов франкфуртской школы, вся пропитана «гиперидеологизмом» [Ходанович 2016]; забвения идеологии общественно-политической жизни в условиях перехода государств в постиндустриальную стадию развития (Д. Белл) [Поломошнов 2016], означающего в реалиях России «насаждение идеологии компрадорского типа» [Иванов 2021: 14], до реидеологизации, т.е. трансформации прежней идеологической мифологии в идеологическую прагматику как целостный набор идей, который тем или иным способом направляет политическое действие, нацеленное на достижение модели будущего общества, сформированного на основе собственного мировоззрения и исходя из выбора собственных средств движения к этому будущему [Хейвуд 2005: 52].
С тем, что сегодня идеология становится новой формой самоидентификации не только общества, но и государственных образований и даже отдельных индивидов, согласна известный российский философ Т.А. Алексеева, которая считает, что идеология как форма самопознания, самоопределения и самоидентификации в хаотичном мире нестабильности и неопределенности сегодня под воздействием культурных факторов превращается в базовый коммуникационный фон социальных взаимодействий [Алексеева 2023].
Вектор изменения сущности идеологии в дальнейшем, судя по всему, как раз и будет заключаться в переходе к терпеливому, к фактически ручному подбору баланса интересов власти и общества, функционирующих в современной российской политической системе, в которой одновременно технологизируются все классические идеологические парадигмы – либерализм, консерватизм и социализм, взаимообусловленные «целерациональными» (по Ю. Хабермасу) задачами социально-экономического развития.
Настройка такой социальной модели развития страны скорее всего будет осуществляться путем усиления или ослабления тех или иных идеологических компонентов, исходя из программного стратегического целеполагания и текущей политической и экономической ситуации. Сегодня эта уникальная гибридная «путинская» модель страны, базирующаяся на либеральных возможностях для бизнеса, общественном плюрализме, свободе личности, консервативных имперских идеях, традиционных ценностях и социальной ориентации государства, уже прошла цикл политического конструирования, апробации и находится, можно сказать, «в опытно-промышленной эксплуатации» для отработки системных решений и обучения государственного аппарата навыкам управления в условиях борьбы за суверенность, «живучесть» и «импортонезависимость» России.
Администрирование такой гибридной модели предполагает переход системы государственного управления от использования регулятивных механизмов преимущественно на основе норм и шаблонов к тонкой настройке соотношения отдельных идеологических компонентов на основе научнопрактических суждений в зависимости от конкретной «целерациональности» и текущей ситуации (например, проявление неолиберальных смягчений в пользу развития малого и среднего предпринимательства в случае необходимости увеличения доли МСП в ВВП страны, неоконсервативной строгости для укрепления духовно-нравственных ценностей в целях обеспечения гражданского единения общества в период проведения СВО и социалистической опеки социально уязвимых слоев населения для демонстрации социального характера российского государства).
Из этого можно заключить, что идеологической основой рассмотренной гибридной модели развития страны как раз и может послужить тот самый «путинский» умеренный консерватизм (можно назвать его «гибридным» консерватизмом), воплощающий в себе черты всех основных идеологических течений, скорость вовлечения которых сегодня регулируется лично президентом и правительством, исходя из государственного понимания траектории достижения стратегических национальных приоритетов: это сбережение народа России, развитие человеческого потенциала, обеспечение государственной и общественной безопасности и т.д.1 Особенностью такой гибридной модели развития является то, что умеренный консерватизм выступает здесь не только как совокупность идей, целей и задач, которая стратегирует политическое действие на достижение образа будущего России, но и как политическая технология, рационализирующая базовый коммуникационный фон социальных взаимодействий (по Т.А. Алексеевой) действующих социальных групп в сторону, благоприятную для достижения стратегических национальных приоритетов.
Компиляция классических идеологий, формирующих умеренный, «гибридный» консерватизм, имеющий явный синкретический, смешанный характер, прослеживается и в подходе государства к идентификации традиционных ценностей1. Так, например, в число утвержденных традиционных ценностей входят как чисто либеральные ценности (жизнь, достоинство, права и свободы человека, созидательный труд), так и ценности, относящиеся к консервативной парадигме (патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, историческая память и преемственность поколений), а также социалистические ценности (справедливость, гуманизм, милосердие, приоритет духовного над материальным, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, единство народов России).
Таким образом, государство, провозгласившее умеренный консерватизм в качестве основной идеологической парадигмы, сущностно объединившей ключевые компоненты трех «больших» идеологий, предъявило обществу такие ценностные ориентиры, которые благоприятно воспринимаются гражданами как соответствующие их ценностным установкам. Одновременно с этим власть стала рассматривать идеологию в качестве технологии, способа, инструмента, используя которые государство планирует обеспечить достижение такого образа будущего страны, фундаментом которого являются традиционные ценности. Это можно видеть в инструментальном подходе к наименованию традиционных ценностей в указе Президента России «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»: каждую традиционную ценность можно рассматривать не как цель, а как средство достижения образа будущего страны, ради которой гражданам необходимо проявлять патриотизм, гражданственность, осуществлять созидательный труд и т.д. Из этого следует, что как образ будущего государства должен быть релевантен высоким духовно-нравственным ценностям, продвигаемым в общество, так и содержание общенациональных ценностей должно быть адекватно представлениям общества о величии России.
Следует отметить, что в российских ценностных ориентирах скрыта внутренняя дихотомия, скрытый идеологический конфликт, который может привести к неожиданным последствиям. Например, индивидуализм личности («права и свободы человека» из либеральной парадигмы) может вступить в противоречие с установкой, предполагающей доминирование коллективного мнения («коллективизм» из социалистической парадигмы); «созидательный труд» в либеральной интерпретации может конфликтовать с социалистическим «приоритетом духовного над материальным»; либеральное «право на жизнь» может оспаривать консервативное «служение Отечеству», предполагающее при необходимости отдать жизнь за Родину, и т.д. На практике это означает вероятность перекоса одних ценностей в пользу других, более реалистичных и непротиворечивых, либо вообще скорое забвение некоторых из них как излишне декларативных. В противном случае на почве идеологических раз- ночтений могут возникнуть серьезные социальные конфликты с непредсказуемыми последствиями.
Поскольку идеологические процессы при реализации стратегии и принципов умеренного консерватизма – это прежде всего субъект-субъектные отношения, т.к. сущность идеологии составляют процессы взаимовлияния людей как ее суверенных носителей [Жилина 2009], то должен быть и объект идеологии, изменение которого является смыслом развития человеческого общества. Таким объектом, по нашему мнению, становится наша текущая реальность, которую общество стремится преобразовать в целях обеспечения своей общественной безопасности и собственного благополучия. Но одновременно с этим объектом идеологии становится и сам человек, сознание которого меняется вместе с переустройством реальности, и, соответственно, трансформируется его отношение к обществу и миру.
Отсюда важнейшим условием реализации концепции умеренного консерватизма является наличие образа будущего, о котором мы будем говорить не как о состоянии, к которому мы идем, а как о политической цели, которую мы учреждаем и к которой мы стремимся [Гусейнов 2019]. Такой политической целью со всей очевидностью является воссоздание величия России как суверенной мировой державы, государства-цивилизации и лидера евразийского цивилизационного сообщества, потому что обеспечить безопасность страны и благополучие граждан России можно лишь пребывая в великодержавном статусе, любой иной вариант предполагает постепенную унизительную зависимость от других стран и, как следствие, упадок и деградацию.
Этот посыл подтверждается результатами исследования, проведенного в интересах Администрации Президента России в 2022 г., по выявлению «общенационального цивилизационного кода», который, с одной стороны, выступает неким ограничителем «спектра допустимого», затрагивающего глубинное восприятие роли и места человека в государстве и обществе, а с другой – является инструментом познания базовых ценностей, скрепляющих основу концепций и стратегий формируемого мировоззрения российского общества [Харичев и др. 2022]. Одним из самых значимых итогов этого исследования как раз стало осмысление укоренившегося во внутреннем мире наших граждан мировоззренческого образа страны в значении «величие России», сущность которого имеет не только идеологическое, но и онтологическое значение.
Дискуссия по методике исследования идеологии умеренного консерватизма
Естественное великодержавное состояние России, как говорилось ранее, предполагает наличие образа будущего, опирающегося на традиционные ценности, продвигаемые в общество, и гибридной модели развития страны в парадигме умеренного консерватизма, управляемой путем тонкой настройки соотношения отдельных идеологических компонентов на основе принципов целерациональности.
Однако современная культурно-историческая эпоха постпостмодернизма, в которую вкатывается наше гиперсетевое и перманентно трансформируемое общество, состоящее из сверхмобильных и сверхкреативных индивидуальных и групповых участников, характеризуется прежде всего тем, что сегодня скорость принятия решений становится более значимой, чем ощущение реальности времени и пространства, а влияние на человека через интеллектуальные метаморфозы осуществляется в первую очередь через отказ от единой идеологии в пользу множества миропониманий самого различного уровня [Равочкин
2022]. В этих условиях для формирования в обществе единого смыслового поля нужно применить рациональный подход, в рамках которого в государстве должен возобладать целерациональный и справедливый синтез социальноисторического самоощущения, цивилизационной самооценки, ценностно ориентированного самочувствия и экономического самосовершенствования.
Для реализации такого подхода рациональным выглядит предложение ученых Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, считающих, что в России необходимо образовать два контура управления экономическим ростом и структурной перестройкой хозяйства: к сфере государственной ответственности отнести ключевое импортозамещение, прежде всего в части критической, в т.ч. энергетической, инфраструктуры, авиапрома, автопрома, электроники, станкостроения, фармацевтической отрасли и т.д., а решение задачи регулярного импортозамещения оставить частному бизнесу1.
Такая экономическая модель уточняет действующую модель развития страны и задает соответствующий формат политической надстройки, в которой сфера государственного регулирования работает в консервативной парадигме здравого смысла, поскольку здравый смысл не настроен на выработку блестящих оригинальных решений, зато надежно предохраняет от наихудших решений [Лекции по политологии 2014: 143], стабилизируя тем самым рыночные отношения по принципу общественной целесообразности. Экономический же базис действует в либеральной рыночной среде, предполагающей свободу творчества и инноваций. Взаимодействие сфер государственного регулирования и рыночных отношений происходит посредством формирования и предъявления рынку проектов, поддерживаемых государством и имеющих общественное значение.
Предложенная экономическая модель, между тем, генерирует и определенные риски: прогнозируется снижение экономической активности, сокращение экспорта и импорта, переход к дефицитному бюджету и реализация других неблагоприятных сценариев. Главный же риск санкционного периода в среднесрочной перспективе – вероятный технологический откат российской экономики вследствие отсечения России от наиболее эффективных западных технологий, что приведет к некоторой технологической деградации экономики.
Можно сделать заключение, что для успешного развития России можно использовать целерациональный социально-консервативно-либеральный подход к управлению, заключающийся в поддержании управляемого баланса консервативных и либеральных компонентов, в рамках которого формирование стратегий и целевых государственных и социальных программ по созданию критически значимых продуктов и услуг (т.е. не только импортозамеще-ние!) осуществляется, исходя из консервативных позиций, а реализация собственно государственного заказа происходит в либеральной рыночной среде.
Такая гибридная конфигурация модели развития страны, с одной стороны, предполагает повышенную ответственность власти за адекватность принимаемых в сфере стратегического государственного планирования политических решений, касающихся образа будущего страны, поскольку эти решения затрагивают частные интересы практически всех граждан. С другой стороны, формируемая властью политическая повестка социально-экономического и политического развития государства так или иначе должна включать общественное видение ценностных приоритетов и тех ключевых проблем, которые власть с высоты своего положения не всегда замечает. Это означает повышенную ответственность и гражданского общества, отстаивающего в процессе поиска баланса интересов власти, бизнеса и общества свое понимание традиционных ценностей и потребностей.
Другими словами, нам предстоит совершить переход от преимущественно государственной ответственности за социально-экономическое развитие страны к государственно-гражданской доминанте, выстраиваемой на принципах доверия, разумности, справедливости, надежности и честности, но все же пока при ведущей роли государства. Такая постановка задачи предполагает преобладание в обществе атмосферы гражданского единения, необходимой в первую очередь для включения граждан непосредственно в процесс формирования политических решений по большинству социально-политических, национально-государственных и социокультурных проблем. Такое гражданское единство предполагает разность множественности идеалов, воли и действия, отмеченных своеобразием мотиваций и спецификой проявлений, создающих симфоническую целостность и последовательно приближающих общество к разрешению назревших и актуальных для него задач и направлений развития [Глаголев 2017].
Бурно развивающиеся цифро-сетевые форматы индивидуальных и групповых взаимодействий в обществе способствуют росту гражданского активизма, все более четко проявляющегося в публичной политике, которая становится доминирующей институциональной формой многих социально-политических процессов в стране. Участие в публичной политике придает ощущение субъектности даже тем небольшим дифференцированным группам, которые ранее и не претендовали на проецирование смыслов, касающихся образа будущего страны и участия в контуре государственного и муниципального управления. Самым ярким примером возрастания общественной активности является рекордный рост числа россиян-волонтеров. Так, например, Центр исследований развития гражданского общества Высшей школы управления выяснил, что в 2022 г. около 44% респондентов занимались добровольческой деятельностью, в то время как в 2020–2021 гг. доля волонтеров составляла 23%1.
Сегодня в России четко обозначилась тенденция опоры на собственные силы, на свои национальные и цивилизационные традиции, на уважение к исторической памяти, к моральным ценностям и идейно подсвеченным нарративам славного советского прошлого. Поэтому крайне важно эффективно использовать этот накопившийся в обществе положительный социокультурный потенциал, который в целом гораздо глубже политических предпочтений, для преодоления отчуждения власти от народа, для зарождения и укрепления доверия власти к обществу, в то время как ранее в центре интересов власти находились вопросы повышения доверия общества к власти.
Государственно-гражданская ответственность как основание для формирования решений и совершения действий, направленных на достижение образа будущего, ставит перед гражданским обществом вопрос о его способности соответствовать тем высоким смыслам, которые закладываются в этот образ будущего. В подтверждение этих слов можно обратиться к результатам иссле- дований молодежной среды как той части общества, которая и будет жить в проектируемом сегодня образе будущего. Проведенные недавно нашими коллегами из ИСПИ ФНИСЦ РАН исследования [Зубок, Селиверстова 2022] показали, что сегодня у молодежи, например, освоение реальности осуществляется посредством расширения практик участия в жизни общества, вовлечения в социально-экономические, трудовые, общественно-политические отношения, проявления в них собственной субъектности. Способом же преодоления противоречия объективного и субъективного является как примирение с реальностью, так и целенаправленное ее изменение, движимое инновационным потенциалом молодежи и их новыми представлениями о должном, важном и значимом, т.е. о смыслах в образе будущего. Наша молодежь сегодня – это саморазвивающийся субъект изменения реальности, находящийся на границе внутреннего и внешнего аспектов социальных изменений в пространстве неопределенности и риска.
Результаты этого исследования подтверждают нашу гипотезу о реальности достижения гражданской ответственности общества, поскольку при доминирующем значении смыслов, которые могут интерпретироваться больше как ориентация на частное, чем общественное (преобладание таких целей, как семья, комфортное жизненное пространство, здравоохранение), каждый второй молодой человек высказывается в пользу общественной значимости образования, созидательного труда и активного гражданского общества, связывая с ними не только свое собственное, но и коллективное будущее.
Из этого следует, что от того, насколько разумно и деликатно мы сможем помочь нашей молодежи выстроить траекторию изменения реальности к образу будущего, будет зависеть эффективность новой экономической модели, построенной в парадигме умеренного консерватизма с элементами государственно-гражданской ответственности.
Наличие в обществе большой группы граждан, которая потенциально имеет способность и возможность взять на себя часть ответственности за развитие страны, была выявлена в рамках исследования, проведенного нами в 2021– 2023 гг. в 10 регионах России. Так, например, по результатам исследования было установлено, что в исследованных регионах доминируют ценностные группы слабой и сильной индивидуалистической ориентации (до 80% всего населения в некоторых регионах), которые, с одной стороны, проявляют решимость рисковать на пути к богатству, но, с другой – креативно мыслят в основном в эгоистической парадигме, их деятельность пока что не направлена на достижение общественных интересов [Ильичева, Кондрашов, Лапин 2022]. Эти люди обладают созидательной энергией, умением противостоять трудностям, однако они рассчитывают в этой жизни только на самих себя, а власть, в свою очередь, пока что никак не использует этот грандиозный потенциал, не вступает с ними в обсуждение вопросов организации государственно-частного партнерства для развития страны, что свидетельствует о том, что власть пока не готова доверить нашим гражданам ключи от будущего. Но на вопрос, какие отношения между властью и обществом в наибольшей степени отвечают идеалу для будущего России, более 44% респондентов высказали мнение, что между властью и обществом должны быть отношения, основанные на равной ответственности государства и граждан за результаты их деятельности.
Исходя из этого, представляется вдвойне необходимым включение гражданского общества в процесс обсуждения прав и свобод граждан, в т.ч. в цифровом пространстве, в рамках формирования гибридной модели развития страны для того, чтобы обеспечить тонкую настройку процесса саморегулирования путем содержательного наполнения этих прав и свобод, выбора правильных инструментов саморегулирования, обеспечения действенного общественного контроля и увязки прав и свобод граждан прежде всего с общественными и национальными целями и приоритетами с учетом интересов каждого гражданина.
Заключение
Повзрослевшее в ходе СВО российское общество сегодня предъявляет запрос на усиление цивилизационно- и государственно ориентированного многообразия социокультурных начал различных социальных групп в обществе, выражающегося в проявлении деятельной гражданственности, направленной на пересборку смыслов, лежащих в основе общественно значимых критериев желаемого будущего, и целей, направленных на его достижение [Зубок, Селиверстова 2022]. В этом смысле современный запрос российского общества на цивилизационный выбор направлен в сторону признания оптимальной на сегодняшний день модели формата суверенного государства-цивилизации, обеспечивающей прежде всего собственную безопасность, проецирующей при этом на окружающие ее страны российские духовно-нравственные и моральные ценности.
Этот выбор базируется прежде всего на исторической памяти, напоминающей о том, сколько предательств со стороны элит тех или иных государств было совершено по отношению к России в периоды ее политической слабости. Сегодня российское общество собственное благополучие и безопасность пока еще ставит выше иллюзорного, по их мнению, цивилизационного лидерства, отягощаемого, как правило, издержками содержания стран, элиты которых лицемерно декларировали безусловную преданность России, а на самом деле продавали свой суверенитет за посулы, отвечающие их интересам.
Обжегшись на взаимоотношениях с Украиной, Россия как государство-цивилизация стремится выстраивать отношения с дружественными странами на основе баланса взаимных политических, экономических, культурных и иных интересов, не беря при этом на себя ответственность за их безопасность. Даже союзные отношения с Республикой Беларусь предусматривают лишь реализацию совместной оборонной политики, но не обязательства сторон по обеспечению безопасности друг друга1.
Для дружественных государств привлекательность образа будущего России как государства-цивилизации будет опираться на те идеологические представления умеренного консерватизма, которые уже начинают нами осознаваться через понимание своего места в будущем российском социальном пространстве и в системе общественных отношений. Для государств, для которых наши образ жизни и духовно-нравственные ценности близки по восприятию, Россия будет стремиться сформировать евразийский цивилизационный альянс, в котором каждая страна-участница будет обладать правом свободного выбора путей своего развития с учетом взаимных интересов при условии, что безопасность одних стран не может быть достигнута за счет угрозы безопасности других.
Применение на пути к такому общепризнанному образу будущего, одинаково желанному как для наших граждан, так и для дружественных народов, еще и принципа совместной государственно-гражданской ответственности, основывающегося на доверии российской власти к нашему повзрослевшему обществу, станет демонстрацией способности властных групп выстраивать уважительное и доверительное отношение к гражданам и социальным группам. Таким путем в коллективном бессознательном нашего цивилизационного окружения сможет глубоко укорениться образ будущего нашей страны как части внутреннего мира нашего цивилизационного альянса, в котором будут фокусироваться схожие переживания и эмоциональные состояния, скрепляющие узы братства и единой судьбы через единство истории и общность мировоззрений.
Однако следует помнить, что основные проблемы перехода к стратегии достижения образа будущего страны в рамках идеологии умеренного консерватизма с элементами государственно-гражданской ответственности за судьбы страны находятся не только в плоскости детерминации высоких смыслов, за воплощение в жизнь которых можно и на Голгофу пойти, но и в российских реалиях, зачастую превращающих стержневые общественные надежды и амбициозные политические декларации в выхолощенное содержание государственных поступков.
Список литературы Умеренный консерватизм как идеология Российского государства-цивилизации
- Алексеева Т.А. 2023. Роль идеологии в современном мире. - Международные отношения: грани настоящего и будущего (под ред. И.С. Иванова, И.Н. Тимофеева, Е.О. Карпинской, Е.А. Солодухиной, С.М. Гавриловой). М.: НП РСМД. С. 294-308.
- Арендт Х. 1996. Истоки тоталитаризма (пер. с англ. И.В. Борисовой, Ю.А. Кимелева, А.Д. Ковалева, Ю.Б. Мишкенене, Л.А. Седова; послесл. Ю.Н. Давыдова; под ред. М.С. Ковалевой, Д.М. Носова). М.: ЦентрКом. 672 с.
- Ачкасов В.А. 2022. Зачем русским статус «государствообразующего народа»? - Политическая экспертиза. ПОЛИТЭКС. Т. 18. № 2. С. 215-224.
- Бьюкенен П. 2015. Секреты глобального путинизма. М.: Алгоритм. 224 с.
- Войтоловский Ф.Г. 2007. Идеологическая рефлексия мировой политики. -Международные процессы. Т. 5. № 3(15). С. 44-56.
- Глаголев В.С. 2017. Гражданское единение России: задачи и проблемы. -Интегративная перспектива в гуманитарных науках. № 1. С. 43-50.
- Гусейнов А.А. 2019. От личности к обществу, или В каком обществе мы живем? — И вновь на перепутье? Постсоветским трансформациям 30 лет...: монография (под общ. ред. М.К. Горшкова, Г.А. Тосуняна). М.: Изд-во ФНИСЦ РАН. С. 177-178.
- Дробинин А.Ю. 2022. Уроки истории и образ будущего: размышления о внешней политике России. - Международная жизнь. 03.08.
- Жилина В.А. 2009. Проблема определения идеологического субъекта. -Вестник Челябинского государственного университета. № 29(167). С. 44-50.
- Зубок Ю.А., Селиверстова Н.А. 2022. Смысловые компоненты образа будущего страны в представлениях молодежи. - Наука. Культура. Общество. Т. 28. № 4. С. 56-74. DOI: 10.19181/nko.2022.28.4.
- Иванов В.Н. 2021. Идеология:pro et contra. М.: У Никитских ворот. 72 с.
- Ильичева Л.Е., Кондрашов А.О., Лапин А.В. 2022. Ценностные детерминанты социальной напряженности в российских регионах. - Политическая экспертиза. ПОЛИТЭКС. № 4. С. 362-391.
- Караганов С.А. 2022. От не Запада к Мировому большинству. - Россия в глобальной политике. Т. 20. № 5. С. 6-18.
- Колтон Т. 2022. В чем смысл путинского консерватизма. Валдайские записки. - Россия в глобальной политике. 28.01.2022. Доступ: https://globalaifairs.ru/ articles/smysl-putinskogo-konservatizma/ (проверено 15.03.2024).
- Лекции по политологии (авт. колл: В.И. Якунин - рук.авт. колл., С.Г. Кара-Мурза, А.А. Вершинин, А.В. Каменский). 2014. М.: Научный эксперт. 304 с.
- Межуев В.М. 2016. Цивилизация или цивилизации? (к спорам вокруг понятия цивилизации). - Знание. Понимание. Умение. № 2. С. 40-52. DOI: 10.17805/ zpu.2016.2A
- Мигранян А.М. 2004. Что такое «путинизм»? - Россия и мусульманский мир. № 11. С. 4-17.
- Милошевич З. 2009. «Путинизм» - современная идеология Российской Федерации. - Вестник Череповецкого государственного университета. № 1(20). С. 49-54.
- Панарин А.С. 1996. Философия политики: учебное пособие для вузов М.: Новая школа. 422 с.
- Панарин А.С., Василенко И.А., Карцев Е.А., Новикова Л.И., Овчинников Г.К., Сиземская И.Н. 1999. Философия истории: учебное пособие (под ред. А.С. Панарина). М.: УИЦ «Гардарики». 223 с.
- Политология: учебник (под общ. ред. В.С. Комаровского). 2-е изд., доп. и перераб. 2006. М.: Изд-во РАГС. 598 с.
- Поломошнов Б. 2016. Д. Белл: Конец идеологии. Доступ: https://фб2.рф/d-bell-laquo-konec-ideologii-raquo-17200899 (проверено 15.03.2024).
- Равио Ж.-Р. 2018. Путинизм как преторианская система. - Russie.Nei.Visions. № 106. Ифри, март 2018. 32 с. Доступ: https://www.ifri.org/sites/default/iiles/ atoms/iiles/rnv_106_raviot_putinizm_2018.pdf (проверено 15.03.2024).
- Равочкин Н.Н. 2022. Социально-философские дискурсы постпостмодернизма. - Гуманитарные и социальные науки. Т. 94. № 5. С. 2-9. DOI: 10.18522/2070-1403-2022-94-5-2-9.
- Россия и идеология (опыт практического философско-хозяйственного концептуализма) (под ред. Ю.М. Осипова, Е.С. Зотовой, Н.П. Недзвецкой). 2020. М.: Изд-во МГУ им. М.В. Ломоносова. 152 с.
- Соловьев А.И. 2001. Политическая идеология: логика исторической эволюции. - Полис. Политические исследования. № 2. С. 5-23.
- Соловьев А.И. 2021. Политика и управление государством. Очерки теории и методологии: монография. М.: Аспект Пресс. 252 с.
- Сулакшин С.С. 2018. Российское государство превращается в криминальное. - Россия в эпоху развитого путинизма: материалы научной конференции. Москва, 31 мая 2018 г. М.: Наука и политика.
- Хабермас Ю. 2007. Техника и наука как «идеология» (пер. с нем. М.Л. Хорькова). М.: Праксис. 202 с.
- Хантингтон С. 2003. Столкновение цивилизаций (пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова). М.: АСТ. 603 с.
- Харичев А.Д., Шутов А.Ю., Полосин А.В., Соколова Е.Н. 2022. Восприятие базовых ценностей, факторов и структур социально-исторического развития России (по материалам исследований и апробации). - Журнал политических исследований. Т. 6. № 3. С. 9-19. doi.org/10.12737/2587-6295-2022-6-3.
- Хейвуд Э. 2005. Политология: учебник для студентов вузов (пер. с англ. под ред. Г.Г. Водолазова, В.Ю. Бельского). М.: ЮНИТИ-ДАНА. 525 с.
- Ходанович В.Н. 2016. Проблема идеологии в философии франкфуртской школы. - Современные проблемы и пути их решения в науке, производстве и образовании. № 1. С. 102-110.
- Dumont F. 1974. Les ideologies. Paris: Presses universitaires de France. 183 p. Lemberg E. 1971. Ideologie und Gesellscgaft, eine Theorie der ideologischen Systeme, ihrer Struktur und Funktion. Stuttgart: W Kohlhammer. 350 p.