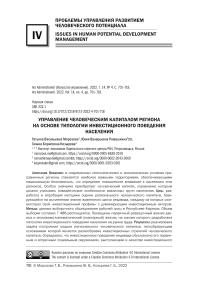Управление человеческим капиталом региона на основе типологии инвестиционного поведения населения
Автор: Морозова Т.В., Ромашкина Ю.В., Козырева Г.Б.
Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi
Рубрика: Проблемы управления развитием человеческого потенциала
Статья в выпуске: 4 т.14, 2022 года.
Бесплатный доступ
Введение: в современных геополитических и экономических условиях приграничные регионы становятся наиболее важными территориями, обеспечивающими национальную безопасность, что определяет повышенное внимание к населению этих регионов. Особое значение приобретает человеческий капитал, управление которым должно учитывать поведенческие особенности различных групп населения.
Региональный человеческий капитал, стратегия поведения на рынке труда, типология инвестиционного поведения, инвестиционный актор, управление человеческим капиталом, многомерная модель, региональное управление
Короткий адрес: https://sciup.org/147246741
IDR: 147246741 | УДК: 332.1 | DOI: 10.17072/2218-9173-2022-4-701-718
Текст научной статьи Управление человеческим капиталом региона на основе типологии инвестиционного поведения населения
1 ,
Социально-экономические кризисы последних лет оказали сильнейшее воздействие на все сферы жизнедеятельности общества, особенно проявившись в проблемах занятости и реальной заработной платы, в институциональных сдвигах структуры образования (Lee et al., 2020; Tadesse and Muluye, 2020). Эти кризисы актуализировали разработку методики оценки регионального человеческого капитала для выявления крайне уязвимых систем его формирования. Вместе с тем исследования, сфокусированные на изучении человеческого капитала на мезоуровне, не получили широкого распространения. И данное направление представляется перспективным с точки зрения регионального развития, особенно для Российской Федерации с ее обширным территориальным разнообразием.
В условиях внешнего санкционного давления на страну и необходимости переустройства экономики вопросы формирования человеческого капитала, его развития и управления им приобретают все большую значимость. Повышение производительности труда, развитие наукоемкого производства, создание инновационных продуктов невозможно без обеспечения отраслей национальной экономики кадрами, которые обладают востребованными профессиональными и личностными компетенциями. В свою очередь социальные и экономические характеристики оказывают влияние на формирование и качество человеческого капитала, при этом наблюдается неоднородное пространственное распределение этого капитала в разрезе регионов.
Проблема оценки человеческого капитала субъектов Российской Федерации не просто значима, она обостряется в связи с сохраняющейся дифференциацией регионов, возрастающей ролью отдельных приграничных регионов в современных геополитических условиях (Рустамова, 2022). В этой ситуации оценка человеческого капитала приграничного региона и управление им приобретают стратегическое значение для всей страны. Актуализируется получение объективных характеристик институциональных систем, регулирующих процессы формирования, развития и инвестирования человеческого капитала. Кроме того, возрастает важность информации о совокупности акторов, формирующих и инвестирующих человеческий капитал, моделях их поведения, отражающих степень влияния (стимулы / препятствие) на развитие человеческого капитала.
Научная проблема исследования заключается в необходимости разработки новых теоретических (системных) подходов к исследованию человеческого капитала и управлению им на основе измерения и моделирования процессов его формирования, развития и воспроизводства применительно к российским регионам в условиях современных вызовов.
Эмпирическая проблема исследования связана с вопросами управления человеческими ресурсами и измерения человеческого капитала как на общегосударственном, так и на региональном уровнях. Кроме того, научное и практическое значение имеет измерение пространственной мобильности человеческого капитала и его динамики во времени.
Цель данной работы – разработка и апробация методики оценки регионального человеческого капитала, базирующейся на вычленении этапов жизненного цикла индивида, каждому из которых соответствует свой «инвестиционный профиль» с доминирующим инвестиционным актором. Сформирована рабочая гипотеза: «выбор стратегии использования накопленного индивидуального человеческого капитала связан с этапами жизненного цикла человека, на каждом из которых формируются модели поведения на рынке труда и в социуме».
В исследовании поставлена задача построения многомерной модели регионального человеческого капитала, типообразующим основанием которой выступает разнообразие инвестиционных стратегий человеческого капитала.
МЕТОДОЛОГИЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) ИССЛЕДОВАНИЯ
Среди ученых-экономистов общепризнано, что накопление человеческого капитала является одним из главных «моторов» экономического роста, ключевым фактором экономического и социального благосостояния современных обществ. ХХ столетие было названо экономистами веком человеческого капитала (Goldin, 2001, p. 263). Уже ясно, что с еще большим правом эта характеристика будет применима к нынешнему XXI столетию.
Развитие теории человеческого капитала началось с работ Т. Шульца и Г. Беккера, провозгласивших его такой же формой капитала, как физический и финансовый капитал, и подчеркнувших его важность для будущего экономического роста. Шульц утверждал, что «экономисты не уделяют достаточного внимания той простой истине, что люди инвестируют сами в себя и что эти инвестиции очень велики. Приобретенные человеком ценные качества, которые могут быть усилены соответствующими вложениями, мы называем человеческим капиталом» (Schultz, 1961, p. 4). По мнению Беккера, человеческий капитал «формируется за счет инвестиций в человека, среди которых можно назвать обучение, подготовку на производстве, расходы на здравоохранение, миграцию и т. д.» (Becker, 1962, p. 9).
Дж. Кендрик представляет человека как предпринимателя, инвестирующего в собственный человеческий капитал аналогично тому, как предприниматели вкладываются в свое предприятие, увеличивая будущий доход (Kendrick, 1976, p. 116). C. А. Дятлов дополняет: «...человеческий капитал – это сформированный в результате инвестиций и накопленный человеком определенный запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые целесообразно используются в той или иной сфере общественного воспроизводства, содействуют росту производительности труда и производства и тем самым влияют на рост доходов (заработков данного человека)» (Дятлов, 1994, с. 24).
С начала формирования теории человеческого капитала ученые ставили перед собой задачу измерения как отдельных компонентов человеческого капитала, так и его комплексного показателя (Graham and Roy, 1979; Jorgenson and Fraumeni, 1989; Weisbrod, 1961). В зависимости от уровня исследуемого человеческого капитала (микро, мезо и макро) различаются и методики его оценки.
Человеческий капитал, будучи фактором конкурентоспособности региона, может выступать индикатором социального неравенства на региональном уровне (Зубаревич, 2008; Castelló-Climent and Doménech, 2021). Исследование вопросов неоднородности (в том числе региональной) количественных и качественных характеристик человеческого капитала является одним из важнейших направлений современной экономической науки. Пик теоретических работ по данному направлению пришелся на первое десятилетие 2000-х годов. К началу этого периода задача ранжирования человеческого капитала на региональном уровне была сформулирована как относительно самостоятельная, не сводимая ни к разнообразию региональных практик и феноменов, ни к оценке пропорций между человеческим капиталом индивида, фирмы (корпорации) и государства (Нуреев, 2007).
Позднее интерес исследователей переключился на рассмотрение самых разнообразных региональных рейтингов, дифференцирующих распределение индивидуальных составляющих, которые используются при расчете интегральных индексов. При этом применяются усредненные показатели состояния человеческого капитала на страновом уровне: уровень грамотности, усредненное число лет обучения, доля обучающейся молодежи, распределение работников по уровню имеющегося образования, качество знаний учащихся в соответствии с международными тестами и т. д. В 2009 году запущен специальный проект по разработке индекса человеческого капитала для межстрановых сопоставлений. Россия вошла в этот проект, но только по ограниченному кругу сопоставимых статистических показателей (Liu, 2011).
Развитие исследований человеческого капитала на региональном уровне реализуется по некоторым регионам России (Хмелева, 2012; Гурбан, 2014; Грачев, 2019; Volkov, 2020). Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации ежегодно оценивает человеческое развитие, используя методику ООН для человеческого потенциала, которая существенно расходится с методиками Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) для человеческого капитала (ВВП на душу населения вместо заработной платы, упрощенная оценка образования и ожидаемая продолжительность жизни вместо периода занятости) (Григорьев и Бобылев, 2015; Горбунова, 2012). Стоит выделить также работы Р. И. Капелюшникова, связывающие использование человеческого капитала с этапами жизни человека. Подразделяя жизнь индивида на этапы накопления человеческого капитала, его использования и аннулирования в связи с уходом с рынка труда, автор проводит интегральную стоимостную оценку человеческого капитала на уровне государства (Капелюшников, 2012a, 2012b).
Однако, несмотря на большое количество работ по теме измерения человеческого капитала, следует констатировать, что универсальных, общепризнанных научных подходов и методик его оценки до сих пор не сформировано ни в российском, ни в мировом научном сообществе. Наработанные теоретические и методологические концепции имеют ограниченный характер, включают в основном количественные оценки человеческого капитала на макроуровне, не учитывая всей системы факторов, определяющих его количественные и качественные параметры на мезо- и микроуровне. Даже методика оценки человеческого капитала ОЭСР имеет существенные пробелы, что признают разработчики и продолжают ее совершенствование (Keeley, 2007).
В основе представленного исследования лежат эволюционный и структурно-функциональный подходы к оценке регионального человеческого капитала. Эволюционная компонента связана с этапами жизненного цикла человеческого капитала, структурно-функциональная – с инвестиционными стратегиями и поведением индивида в соответствии с этапами жизненного цикла человеческого капитала. Поскольку носителем человеческого капитала является индивид, то рассматриваемая в исследовании совокупность индивидов ограничена четырьмя возрастными когортами согласно доминирующим типам их экономической активности: стадия получения профессионального образования для входа в состав рабочей силы, стадия активной трудовой занятости и развития компетенций и навыков, стадия профессиональной зрелости и стадия выхода из состава рабочей силы.
Понятие человеческого капитала относится к категории сложных, многокомпонентных и многоуровневых систем, оценка которых предполагает использование множественного набора разнородных показателей.
Представленное исследование базируется на данных, полученных Росстатом в результате выборочного социологического обследования рабочей силы1. Объем выборки по Карелии составил 7 486 респондентов. В соответствии с утвержденными методическими положениями2 обследование проводится ежегодно путем анкетирования населения в возрасте от 15 лет и старше. Репрезентативность выборки обеспечивается применением выборочного метода отбора домохозяйств. В текущем исследовании источником послужили данные за 2018 год. В качестве методов статистического анализа и обработки эмпирических данных использовались инструменты пакета SPSS v. 17.0.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На первом этапе на основе первичного разведывательного анализа эмпирических данных, а также обзора существующих исследований в области особенностей возрастной психофизиологии была сформирована рабочая гипотеза: «выбор стратегии использования накопленного индивидуального человеческого капитала связан с этапами жизненного цикла человека, на каждом из которых формируются модели поведения на рынке труда и в социуме». С учетом имеющихся данных дальнейший анализ предполагал проверку связи основных социально-демографических показателей населения со стратегией поведения на рынке труда и отнесением к статусу участия в рабочей силе (занятый, безработный, не относящийся к рабочей силе).
На втором этапе исследования для проверки гипотезы на эмпирических данных был проведен экономико-математический анализ. Для разделения населения на основные группы и дальнейшего построения типологии инвестиционного поведения населения использовался двухэтапный кластерный анализ, который позволяет работать с различными типами переменных (Пациорковский и Пациорковская, 2005) и использовать различные критерии кластеризации (Мандель, 1988, с. 59). При анализе было отобрано пять переменных: возраст, уровень образования, количество несовершеннолетних детей, семейное положение, экономическая активность (участие в рабочей силе).
В результате экономико-математического анализа выделено четыре кластера.
I кластер включает 9,8 % населения Республики Карелия. Малочисленность этой группы обусловлена особенностями возрастного состава региона: на 86,6 % эта группа состоит из молодежи в возрасте от 15 до 24 лет. Основная доля этой группы не входит в состав экономически активного населения, лишь 20 % заняты или находятся в поиске работы. Подавляющее большинство респондентов (97 %) никогда не состояли в браке; значительная часть респондентов проживают в родительских семьях, где, кроме них, есть несовершеннолетние дети.
Во II кластере (25,5 % респондентов) сосредоточено наиболее образованное население (30 % имеют высшее образование) в возрасте от 25 до 44 лет, завершившее период получения образования и вышедшее на рынок труда. Все респонденты, оказавшиеся в данной группе, проживают в семьях с несовершеннолетними детьми, и абсолютное большинство (87 %) состоят в браке. В данном кластере 88 % респондентов имеют оплачиваемую работу.
В III кластере (30,2 % респондентов) сосредоточено занятое население. По возрастной структуре данная группа наименее однородна, однако выделяется значительная доля лиц предпенсионного и пенсионного возраста. По семейному положению большинство представителей данного кластера состоят в зарегистрированном браке. Несовершеннолетних детей в домохо- зяйствах респондентов в данном кластере нет, однако более 40 % проживают в семьях с количеством членов более двух. Чаще всего это совершеннолетние дети, находящиеся в экономической зависимости от родительской семьи.
IV кластер (34,5 % респондентов) на 90 % состоит из пожилого населения в возрасте 55 лет и старше, завершившего свою трудовую деятельность. Эти люди не работают и не ищут работу (98 %), тем самым образуя группу экономически неактивного населения. Наибольшая многочисленность IV кластера обусловлена особенностями возрастной структуры региона. Представители данного кластера состоят в зарегистрированном браке либо уже овдовели, их дети создали свои семьи и проживают отдельно. Более половины респондентов (57,7 %) имеют среднее профессиональное или начальное профессиональное образование, однако их человеческий капитал не задействован в экономике региона.
Наконец, третий этап настоящего исследования включал интерпретацию полученной кластеризации и построение типологии инвестиционного поведения населения региона.
Каждому кластеру соответствует определенная стратегия инвестиционного поведения индивида и домохозяйства, и выбор ее обусловлен совокупностью социально-демографических факторов. Для каждого этапа жизненного цикла человека характерна своя стратегия поведения индивида при формировании и реализации человеческого капитала на рынке труда. При этом все выделенные стратегии реализуются благодаря доминирующим инвестиционным акторам.
Особенности и доминирующие характеристики инвестиционного поведения представителей каждого из выявленных кластеров, упорядоченных согласно этапам жизненного цикла человека, представлены в таблице.
Таблица /Table
Типология инвестиционного поведения регионального человеческого капитала / Typology of regional human capital investment behavior
|
Показатель |
Стратегия накопления (I кластер) |
Стратегия максимизации выгоды (II кластер) |
Стратегия сохранения позиций на рынке труда (III кластер) |
Стратегия ухода с рынка труда (IV кластер) |
|
Доля населения в возрасте от 15 лет |
9,8 % |
25,5 % |
30,2 % |
34,5 % |
|
Доминирующий инвестиционный актор |
Семья + индивид |
Работодатель + работник |
Работник |
Государство |
|
Семейное положение |
Не состоят в браке |
В браке, зарегистрирован-ном или нет |
В зарегистрированном браке |
В браке или овдовели |
|
Основной вид деятельности |
Получение образования |
Работа |
Работа |
Семья, хобби |
Источник: составлено авторами.
Стратегия накопления человеческого капитала соответствует первому кластеру. Это наиболее молодая и наименее представленная по численности группа населения. Согласно возрастной периодизации, предложенной Д. Бромли, данная группа населения охватывает периоды поздней юности – от 15 до 21 года и ранней взрослости – от 21 до 25 лет (Bromley, 1966, p. 45–52). По данным исследований антропологов и физиологов, в период ранней взрослости наблюдается максимизация развития внимания, мышления и памяти, чтоспособствуетэффективномунакоплениютакихкомпонентовчеловеческого капитала, как знания, навыки, умения (Bromley, 1966, p. 78). Вместе с тем в социальном аспекте личность приобретает полную юридическую и экономическую ответственность, права и обязанности. Однако большинство людей, придерживающихся данной стратегии, еще не достигли финансовой независимости.
Главным актором, определяющим направление развития человеческого капитала, является родительская семья, которая принимает на себя значительную часть издержек, связанных с принятием данной стратегии. При этом ключевым критерием в принятии инвестиционного решения со стороны семьи в пользу профессионального образования детей является конкурентное преимущество при трудоустройстве лиц с высшим образованием.
Стратегии максимизации выгоды , или капитализации человеческого капитала (соответствует второму кластеру) придерживаются 25,5 % населения Республики Карелия, из них 81,2 % – лица в возрасте от 25 до 44 лет. В соответствии свозрастнойпериодизациейД. Бромлиданныйпериодотноситсяксреднейвзрос-лости (Bromley, 1966, p. 104). Он характеризуется изменением социальных ролей в семье и обществе: как правило, в это время индивид покидает родительскую семью, создает новую ячейку общества и у него появляются собственные дети.
С точки зрения физиологии и когнитивных способностей, в данном возрасте наблюдается пик творческих способностей и стабилизация интеллектуального развития. Изменение социальных ролей в семье и состава семьи обусловливает высокую мотивацию к поиску наиболее привлекательных условий труда и наиболее эффективной капитализации своих способностей. Именно в этот период происходит формирование профессионального опыта и навыков, которые станут основным критерием доходов в будущем.
Результаты исследования показывают, что около 50 % занятых респондентов, реализуя стратегию максимизации выгоды, выбирают работу, не связанную с полученной специальностью. Этот факт подвергает сомнению эффективность инвестиций в человеческий капитал в предыдущем периоде, а также механизмов распределения и перераспределения на рынке труда.
Доминирующим инвестиционным актором в рамках этой стратегии выступает работодатель, заинтересованный в формировании специфического человеческого капитала для своего предприятия и закреплении работника на рабочем месте. Немаловажную роль в инвестиционном процессе играет и сам работник. Имея необходимую мотивацию, он максимально использует собственный потенциал для развития нужных способностей и тем самым создает «подушку безопасности» для повышения уровня конкурентоспособности. От опыта, приобретенного в период средней взрослости, во многом зависят доходы в период поздней взрослости.
Стратегия сохранения позиций на рынке труда соответствует третьему кластеру. В периодизации, предложенной Д. Бромли, это период поздней взрослости (Bromley, 1966, p. 104). Данная группа населения, как правило, маломобильна как в территориально-трудовом, так и в социально-трудовом аспекте (Шаповаленко, 2005, с. 303). Принятие третьей стратегии обусловлено физиологическими и социальными факторами. На этом этапе жизни происходит спад физических возможностей, способностей к обучению и адаптации к новым технологиям. К этому времени индивид уже закрепляется на своем рабочем месте и достигает «потолка» своего карьерного роста. Уровень достигнутых результатов в предыдущем периоде определяет уровень дохода в текущем. Примечательно, что у занятых, придерживающихся данной стратегии, в 54 % случаев работа не связана с полученной специальностью. При поиске новой работы соискатели предпенсионного возраста все чаще сталкиваются с возрастной дискриминацией, что мотивирует лиц данной возрастной группы «держаться» за свои рабочие места.
Доминирующим инвестиционным актором здесь выступает работник. Заинтересованность работодателя в данном работнике определяется опытом работы последнего, его приверженностью предприятию и низкой социальнотрудовой мобильностью. Данная группа населения, оказавшись без работы, является наиболее уязвимой ввиду наличия дискриминации на рынке труда и отсутствия финансовых средств в виде пенсионных выплат.
Стратегия ухода с рынка труда соответствует четвертому кластеру. Четвертая группа на 90 % состоит из пожилых людей в возрасте 60 лет и старше, завершивших свою трудовую деятельность и являющихся экономически неактивными (98 %). Д. Бромли назвал период 55–65 лет предпенсионным, в соответствии с принятым на момент создания периодизации возрастом выхода на пенсию в западных странах (Bromley, 1966, p. 156). Фактически для многих российских пенсионеров прекращение трудовой деятельности тоже происходит в возрасте 60–65 лет. Группа населения, придерживающаяся стратегии ухода с рынка труда, наиболее многочисленна (34,6 %), что обусловлено особенностями демографической структуры Республики Карелия.
Формирование стратегии ухода с рынка труда связано с перераспределением совокупного труда семьи. Актуальным для носителей этой стратегии является продление возможности реализации человеческого капитала индивида в области активного долголетия, и доминирующим инвестиционным актором, обеспечивающим набор медицинских услуг, поддерживающих здоровье граждан третьего возраста (период активности после выхода на пенсию), выступает государство. Помимо этого, накопленный ими человеческий капитал в виде знаний и компетенций может трансформироваться в инвестиции человеческого капитала будущих поколений.
Таким образом, обозначенная в рамках исследования научная гипотеза нашла подтверждение. Этапы жизненного цикла человека определяют выбор стратегии использования накопленного индивидуального человеческого капитала. При этом каждая из выделенных стратегий реализуется благодаря доминирующему инвестиционному актору.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках представленного исследования разработана и апробирована методика оценки регионального человеческого капитала, базирующаяся на вычленении этапов жизненного цикла индивида. Для каждого такого этапа характерен особый институционально закрепленный «инвестиционный профиль» с доминирующим инвестиционным актором – семья, работник, работодатель, государство.
Каждая группа индивидов, которой присущ тот или иной «инвестиционный профиль», обладает количественными и качественными характеристиками, в сумме образующими характеристики региона, такие как демографическая структура, образовательный потенциал, формальные и неформальные институциональные правила, структура социального обеспечения населения услугами и пр.
Разработанная типология инвестиционного поведения населения на рынке труда включает четыре основные стратегии развития человеческого капитала: накопление, максимизация выгоды (или капитализация), сохранение позиций на рынке труда, уход с рынка труда. Эти стратегии тесно связаны с социальными и психофизиологическими особенностями человека на каждом этапе жизненного цикла: ранней взрослости, средней взрослости, поздней взрослости и предпенсионного / пенсионного возраста.
Общеизвестно, что основной вклад в развитие экономики региона вносит группа экономически активного населения. Проведенный кластерный анализ показал типологическую неоднородность этой группы, лидерами которой являются преимущественно представители II и III кластеров, составившие около 60 % выборочной совокупности. Между этими кластерами, в свою очередь, существуют различия инвестиционных стратегий и доминирующих инвестиционных акторов. Так, представители II кластера, имеющие перед другими группами возрастное и профессиональное преимущество, реализуют нарынке труда стратегиюмаксимизации выгоды. Основнойинвестор их человеческого капитала – работодатель. Представители III кластера относятся к более старшей возрастной категории работников – предпенсионного и раннего пенсионного возраста. Накопив высокий профессиональной опыт, они придерживаются стратегии сохранения позиций на рынке труда. Доминирующими инвесторами этого человеческого капитала являются сами работники.
Исследование показало, что трудовая деятельность более половины занятого населения, реализующего стратегии максимизации выгоды и сохранения позиций на рынке труда, не связана с полученной первой специальностью. Данная проблема характерна для многих регионов России: трудовую карьеру по специальности реализуют менее половины выпускников учебных заведений (Варшавская, 2016, с. 41). На наш взгляд, проблема несоответствия выбора сферы трудовой деятельности и полученного образования является результатом одновременного влияния нескольких групп факторов: институциональных, структурных, личностных.
Институциональные факторы постсоветского периода, ориентированные на свободу выбора «трудового дебюта» гражданина, обусловили утрату за последние десятилетия в российском обществе эффективной взаимосвязи между институтами образования и рынка труда. Группа структурных факторов определяется прежде всего особенностями отраслевой структуры экономики региона (например, промышленная – аграрная, добывающая – перерабатывающая, сервисная – производственная, инновационная – традиционная), формирующими специфику спроса на рабочую силу в разных секторах экономики. Являющееся следствием структурных факторов неравенство конкурентных возможностей разных профессиональных групп на региональном рынке труда, в свою очередь, предопределяет трансформацию профессиональной реализации рабочей силы. В группе личностных факторов несоответствие между полученным образованием и сферой трудовой деятельности проявляется через случайность выбора будущей профессии (несформиро-ванное самоопределение, низкий проходной балл, служба в армии, приоритет уровня оплаты труда, престижа, моды и т. д.). В таких условиях самая эффективная трудовая стратегия – капитализация потенциала наиболее трудоспособного (по возрасту, образованию, здоровью, мобильности) и экономически активного населения – реализуется с ограничениями, связанными с несоответствием полученного образования выбранной сфере труда.
Разработанная многомерная структурная модель человеческого капитала Республики Карелия может стать информационным источником для обоснования необходимости диверсификации региональной социальноэкономической политики развития человеческого капитала, который является важнейшим фактором конкурентоспособности территории. Такая политика должна быть нацелена на создание благоприятной институциональной среды для развития ключевых инвесторов человеческого капитала и носителей. При этом основным направлением региональной политики должна стать поддержка процесса формирования, накопления и использования человеческого капитала региона, осуществляемая через:
– систему мер семейной политики по созданию условий и доступных форм творческого воспитания и обучения детей младших возрастных групп;
– создание условий для раннего профессионального самоопределения учащихся общеобразовательных учреждений;
– разработку социальных инноваций по поддержке молодой семьи;
– развитие форм и создание площадок для взаимодействия учреждений профессиональной подготовки с предприятиями и учреждениями разных сфер экономики;
– стимулирование социальной ответственности бизнеса за квалификационное развитие и поддержку здоровья работников;
– формирование условий, благоприятствующих передаче профессиональных компетенций граждан третьего возраста следующим поколениям;
– разработку мер повышения ожидаемой продолжительности активной жизни;
– разработку стратегий и программ по созданию современных высокотехнологичных рабочих мест с целью предотвращения миграционного оттока активных и высококвалифицированных групп населения.
Полученные в данном исследовании результаты коррелируют с результатами, ранее полученными Р. И. Капелюшниковым, который изучил поведение населения на рынке труда в разные периоды жизненного цикла (Капелюш-ников, 2012a, 2012b). Его исследование базируется на данных по всей стране и отражает усредненную картину на макроуровне, имеющую большое значение при разработке государственных программ и стратегий. Однако не менее значимы данные работы на мезоуровне ввиду большой региональной дифференциации. Отражение ситуации в конкретном регионе представляется важным при формировании региональной политики.
Разработанная в настоящем исследовании многомерная модель регионального человеческого капитала может стать инструментом для анализа и мониторинга регионального неравенства, выявления зон наибольшего социально-экономического неблагополучия, поиска эффективных инструментов для преодоления деструктивных процессов регионального развития, что особенно актуально для депрессивных территорий Российской Федерации.
Результаты исследования позволяют предположить, что в будущем возможны изменения инвестиционного поведения населения на рынке труда, обусловленные происходящими переменами в институциональной матрице регионов: масштабным политическим и экономическим кризисом, структурными сдвигами в экономике в целом и на рынке труда в частности, увеличением пенсионного возраста на фоне продолжающегося демографического кризиса. И анализ этих изменений представляется актуальной задачей для будущих исследований.
Список литературы Управление человеческим капиталом региона на основе типологии инвестиционного поведения населения
- Варшавская Е. Я. Успешность перехода "учеба-работа": для кого дорога легче? // Социологические исследования. 2016. № 2. С. 39-46. EDN: VWRNPB
- Горбунова О. Н. Результаты России на международном уровне. Индекс человеческого развития: изменение методики. Индекс России в мире и среди стран постсоветского пространства // Социально-экономические явления и процессы. 2012. № 11. C. 78-81. EDN: QBSGQR
- Грачев С. А. Разработка инструментария оценки результативности функционирования человеческого капитала в инновационной экономике региона // Вопросы инновационной экономики. 2019. Т. 9, № 3. С. 763-770. DOI: 10.18334/vinec.9.3.40835 EDN: LAKWBE
- Гурбан И. А. Национальный человеческий капитал России: региональная дифференциация // Фундаментальные исследования. 2014. № 5. С. 1063-1069. EDN: SCDDYT
- Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2015 год / Под ред. Л. М. Григорьева и С. Н. Бобылева. М.: Аналит. центр при Правительстве Рос. Федерации, 2015. 260 с.