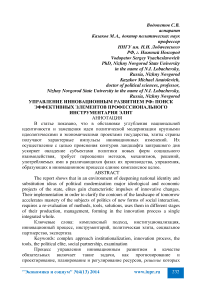Управление инновационным развитием РФ: поиск эффективных элементов профессионального инструментария элит
Автор: Водопетов С.В., Казаков М.А.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Статья в выпуске: 4-2 (13), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье показано, что в обстановке углубления национальной идентичности и замещения идеи политической модернизации крупными идеологическими и экономическими проектами государства, элиты страны получают характерные импульсы инновационных изменений. Их осуществление с целью прояснения контуров ландшафта завтрашнего дня ускоряет овладение субъектами политики новых форм социального взаимодействия, требует переоценки методов, механизмов, решений, употребляемых ими в различающихся фазах их производства, управления, образующих в инновационном процессе единое комплексное целое.
Комплексный подход, институционализация, инновационный процесс, инструментарий, политическая элита, социальное партнерство, экспертиза
Короткий адрес: https://sciup.org/140109251
IDR: 140109251
Текст научной статьи Управление инновационным развитием РФ: поиск эффективных элементов профессионального инструментария элит
Процесс управления инновационным развитием в качестве обязательных включает такие задачи, как прогнозирование и проектирование, планирование и регулирование ресурсов, решение которых
(как самостоятельная задача и способность элит), находит концентрированное выражение в феномене руководства общественной жизнью. Частично на вопрос: «как это делается?» – отвечает профессиональный инструментарий элит, состояние и анализ развития которого составляет предмет статьи.
Благосостояние большинства граждан страны помимо их трудовой деятельности зависит от того, являются ли принимаемые элитой решения компетентными, и главное, выражают ли они их интересы или выгодны лишь руководящей иерархии. В таком ракурсе политические и иные элиты занимают ключевое место в политологическом дискурсе, подтверждающем свое значение средствами, ресурсами и возможностями их деятельности. Их анализ в нашем случае требует различения собственно средств и технологий – инструментов (техник, процедур) как сравнительно ограниченного набора выработанных в культуре и существующих вне зависимости от человека, предметных или идеальных (пред)конструкций для взаимодействия с обществом и его преобразования .
Научный интерес к роли элит и ее инструментам актуален и потому, что действия, предпринимаемые людьми, образующими костяк элитных групп, вполне наблюдаемы, подлежат анализу и верификации , т.к. закреплены в соглашениях, законах, правилах, знаниях. Но для того, чтобы эти составные стали ресурсом инновационной экономики, а затем и политики, они должны быть представлены не в теоретической форме, а в инструментальном (технологическом) виде. Смена «оптики» объясняет востребованность комплексного подхода . В отличие от системного в нем, могут объединяться функциональные единицы, занятые различными типами деятельности. Это порождает ряд проблем в проявлении и воспроизводстве элит как собственно политического субъекта, умеющего соотносить содержание своей деятельности с востребованной временем позицией, ценностями и уместными инструментами рефлексии и реализации.
Политические элиты и социальные инновации как явления, представленные реальными людьми, играющими определенные роли и выполняющими конкретные функции, имеют высокую, но разную степень институционализации . Ее проблемы, которыми реально занимается узкий круг ученых и ведомств, становятся, условно, первыми, на пути формирования нового инструментария элит в условиях глобализации как катализатора модернизационных процессов. В общем виде, институционализация определяет особый тип связей личности, общества и государства, что можно объединить во властных отношениях, каковые мыслятся на основе различных моделей в зависимости от места, которое политика занимает в обществе и по отношению к рядовым гражданам.
В этом смысле роль элиты как института проявляется в выработке и трансляции в общество определенных систем знаний и правил, в рамках которых проведение и управление инновациями осуществляется в соответствии с национальной культурой и сопряженного с ней институционального порядка. В «особенном», – все гораздо сложнее.
Структурирование политики, в большей степени опирается на внутреннюю организацию деятельности элит, имеющей в качестве пред-конструкции нормы и правила, образы и представления, паттерны и примеры взаимодействия из арсенала социального неравенства. Именно они определяют позицию элит к требуемым обществом изменениям, которые в силу опосредующей их нецелостности понимаются и отражаются в их поведении не одинаково, а соответственно имеющейся у субъектов культур(ы). Ее содержание обуславливает появление различий в оценках и практиках преобразований.
Изучение их исторических и современных примеров свидетельствует, что социальные преобразования, происходящие в обществе, зависят, прежде всего, от деятельности правящей группы, в другом случае – от активности одной из элитарных групп, наконец, в ряде других – от удачной или неудачной попытки представителей контрэлиты занять ключевые позиции в государстве, используя недовольство масс. Трансформация структуры политической элиты, изменение ее ценностных, культурных и идеологических приоритетов, развитие социальной циркуляции, механизмов отбора и участия новых членов задают не только контуры политического пространства, но и определяют характер проявления и функционирования общественных институтов.
Более того, в обстановке углубления национальной идентичности и замещения идеи политической модернизации крупными идеологическими и экономическими проектами государства, элиты страны получают характерные импульсы инновационных изменений. Их осуществление с целью прояснения контуров ландшафта завтрашнего дня ускоряет овладение субъектами политики новых форм социального взаимодействия – партнерства, требует переоценки методов, механизмов, решений, употребляемых ими в различающихся фазах их производства, управления, образующих в инновационном процессе (ИП) единое комплексное целое.
Результаты авторских исследований в рамках уже не «нового институционализма» и не модной транзитологии [1] подчеркивают продуктивность тенденции синтеза методов политической и социологической науки на базе дифференциации разного рода теорий, включая вновь актуальных национальных интересов. Она пытается снять антагонизм ценностей и интересов, субъектов и институтов, не по принципу «или-или», а на пути взаимодействия научных дисциплин и их акторов в объяснении сложных явлений. Среди них социальное партнерство как таковое, но важнее в конкретике принципов, черт и акций, т.е. как государственно-частное партнерство (ГЧП) есть и объект исследования, и инструмент интеграции субъектов с различными целями в разных сферах общества.
В силу чего в поиске ответов на разрывы в теории и практиках подобных явлений наряду с утилитаристскими совершенствуются и методы, способные вложить в «цель деятельности» смысл, групповые ценности и приоритеты, отразив тем самым большее число человеческих свойств социального взаимодействия. Его динамика не укладывается ныне лишь в эволюцию институтов власти, и становится точкой отсчета для анализа более широкой группы факторов и эффектов, выявляемых как на базе рационально-позитивной, так и критической методологии. В ней важное место отводится институциональному строительству «государства развития» (партнера) и умеренно оптимистичному взгляду на будущее «общества модерна» при условии закрепления указанной ориентации элитой.
Социально-историческая миссия элит состоит в том, что только она, с точки зрения основателей их теории, способна организовать и упорядочить систему общественного взаимодействия. Творческая деятельность элиты выстраивает фундамент социальной интеграции, противопоставляет разрушительному произволу или апатии масс свою волю и рациональность. Уместно напомнить и то, что функциональная роль понятия «элиты» в социальных и политических науках заключается в том, чтобы ввести представление о движущих силах развития тогда, когда другие источники инновационного процесса (естественные и институциональные) оказываются в силу разных обстоятельств неопределенными. На смену иерархическому подходу в исследовании элит (О. Крыштановская) приходит их понимание как социальных групп, «которые связаны с представлением самых актуальных, востребованных хозяйственных и публичных услуг, … и оказывают преобладающее влияние на развитие России как интегрированной и при этом открытой, современной и конкурентоспособной нации» [2].
Но как только дискурс о них выходит за рамки коллективных ожиданий и переходит в разряд категорий, подлежащих операционализации и эмпирической проверке, встает ряд вопросов, лежащих как плоскости институционализации элит, проявлении их феномена, так и состава, функций, ресурсов, механизмов отбора и принятия решений, а значит, критериев признания обществом их деятельности. В первом их блоке ключевое значение имеют конкретные основы социального порядка [3]. Держится ли он на индивидуальных заслугах и достижениях, признаваемых автономными структурами социального действия, т.е. институтами (среди которых и партнерство как среда). Или, как в российском варианте, он задан характером власти в обществе и реализуется посредством государственного регулирования с заложенными в нем преимуществами.
Во втором блоке, с учетом того, что, и глобализация, и модернизация способны влиять на элиты, заставляя их (даже в целях самосохранения) следовать духу современных трендов, на первый план выходит отбор комплексных решений как предлагаемых, так и существующих в виде вызовов для политической элиты. Они в свою очередь осложнены тем, что есть острая необходимость в выработке инновационного решения. Оно требует сделать выбор при отсутствии очевидных альтернатив и представляет собой результат умственно-психологической и творческой деятельности, который приводит к выбору определенной альтернативы действий относительно освоения новейших сфер деятельности, реализации неиспользованного потенциала, внедрения и задействования новых, нестандартных методик и техник, что содействуют развитию и повышению эффективности функционирования объектов, которые их употребляют.
Таким образом, ставится вопрос о возможности создания технологии (как схемы деятельности) позволяющей выработать инновационное решение в рамках преобладающего у политических элит институционального подхода при принятии политических решений. Она сразу требует замера способностей действующих элитных групп как ключевых акторов модернизации. В верхней планке их индексов – готовность выступать в роли модернизационных элит в режиме партнерства. И комплекс обеспечивающих ее умений: а) входить в существующие и строить новые профессиональные общности, субъективироваться в них и вырабатывать собственную позицию; б) подходить к ней не с точки зрения функций монополиста или лоббиста, а посредством перевода разного рода межуровневых, межведомственных несоответствий в состояние сотрудничества; в) выявлять опасности слабых мест не столько на практике, сколько в ходе проектной деятельности, моделирования и прогнозирования [4].
В любом варианте как качественные характеристики или как элементы новой технологии это условия успешного профессионального и инновационного развития элит, недостаток которых на практике следует из оценки результатов запуска и работы инновационных проектов, программ, механизмов, их ограничений, выделяющих предваряющие процедуры к выработке инновационного решения. После сопоставления имеющихся данных [5], приходится фиксировать и факт того, что, несмотря на наличие структуры институтов, возросшего «в разы» – целевого финансирования систем управления ИП разного уровня, числа «элит» общественных (якобы контролирующих) организаций, намеченные цели инновационного процесса в РФ не достигнуты.
В таблице 1 сравниваются фактические значения индикаторов инновационного развития со значениями, прописанными в двух государственных программах-стратегиях. Цифры свидетельствуют, что намеченных рубежей достичь не удалось и, что по таким индикаторам, как индекс инновационной активности, удельный вес инновационной продукции в общем объеме продаж в промышленности, доля ВВП на исследования к 2020 г. требует удвоения-утроения имеющихся значений. См. Таблицу 1 [Цит. по 6].
|
Индикатор инновационного развития |
2010 г. |
Стратегия до 2015 г.** |
Факт |
Стратегия до 2020 г.* |
||
|
инерц. |
позитив. |
|||||
|
2012 г. |
2013 г. |
2020 г. |
||||
|
Удельный вес инновационной продукции в общем объеме продаж промышленной продукции, % |
4,8 |
8,5 |
16,2 |
7,8 |
7,2 |
25,0 |
|
Удельный вес предприятий, осуществлявших технологические инновации, в их общем числе, % |
9,3 |
14,4 |
17,0 |
10,3 |
9,6 |
25,0 |
|
Внутренние затраты на исследования и разработки в ВВП, % |
1,3 |
1,70 |
2,2 |
1,12 |
1,5 |
3,0 |
|
Коэффициент изобретательской активности (число патентных заявок на изобретения, поданных российскими заявителями в стране, в расчете на 10 тыс. населения) |
2,0 |
1,96 |
4,7 |
3,1 |
2,1 |
2,8 |
|
Удельный вес используемых передовых производственных технологий, включающих объекты интеллектуальной собственности, в общем их числе, % |
– |
4,9 |
6,2 |
3,2 |
– |
– |
|
Удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей, % |
32,8 |
28,4 |
35,4 |
38,6 |
33,1 |
35,0 |
Источники: Федеральная служба государственной статистики РФ. - ;
*Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. Расп.
Правительства РФ № 2227-р от 08.01.2011 г.;
**Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года. Утв. Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике (протокол от 15.02.2006 №1).
Предшествующая информация свидетельствует о том, что в стране достаточно механизмов для запуска и контроля инновационных процессов, имеются соответствующие структуры управления, опирающиеся на ряд устоявшихся систем (стратегия, тактика, техника, финансирование). Решающих сдвигов, тем не менее, за последние 5-7 лет не произошло. Созданный в 2009 г. инновационный центр «Сколково» пока только выходит на проектную мощность, другие институты развития тоже не презентовали возможности революционного подхода к модернизации экономики. Если говорить о причинах в рамках существующей системы управления, то необходимо указать на сложность задачи и поиска скоординированного по всем отраслям решения, а также отсутствие эффективного инструмента разработки элементов инновационной стратегии и тактических управленческих решений в ее рамках.
В этом контексте возникает вопрос не столько о критериях, индексах и параметрах действенности принятых стратегий, что не маловажно. Сколько о недооснащенности самого инструментария как некоего комплекса инструментов, обеспечивающих проработку исходных положений национальной стратегии инновационного развития, которая, в свою очередь, уже «рекомендует местным властям стимулировать развитие региональной инновационной инфраструктуры, в том числе и венчурных фондов». Поэтому из регионов и идут предложения, направленные на разрешение проблем развития инновационных структур не только местного, но и федерального уровня [7]. Что само по себе полезно и позволяет рассматривать эту коммуникацию в качестве эффективного элемента достройки требуемого инструментария.
С другой стороны, мотивация местных элит к инновациям будем тем выше, чем больше предлагаемые центром нововведения будут отвечать их неотложным нуждам. Пока же принятые стратегии больше реализуются в виде, ранее – создания, ныне преимущественного финансирования нескольких структур – Агентства стратегических инициатив, названного Сколково, Российская Венчурная компания и др., которые должны были стать локомотивами процесса и генерировать инновации. Стратегия развития этих элементов инновационной инфраструктуры РФ между тем, в значительной степени, сопряжена с политическими элитами, что нивелирует те возможности, которые они предоставляют как внешние, деполитизированные структуры.
Отсутствие согласованности «по всему фронту» будет приводить и далее к оторванному от стратегических задач государства инвестированию, с другой стороны – учет мнения политических элит обнажает очевидные границы для диффузии и развития инноваций, поскольку любой их представитель ограничен существующими во власти процессами и регламентами. Вот почему, наряду с индивидуальными исследованиями этих аспектов необходимо всячески стимулировать коллективные (междисциплинарные, межвузовские, межрегиональные, международные) экспертные проекты , благодаря которым обеспечивается не только систематизация, но и прогресс знаний. «Их производству, трансферу и практическому приложению ведущими университетами отводится первостепенная роль в процессах экономической переориентации и дальнейшего социального и экономического развития» [8].
Отсутствие четкого инструмента согласования стратегических задач с механизмом экспертизы, дающей заключение (рекомендации) для механизма «овеществления знаний», их преломление в процессе принятия политического решения можно считать одной из причин низких темпов роста инновационного процесса. Менеджмент структур данного типа пользуется традиционным инструментарием экспертных оценок, методом Дельфи, данными опросов, мониторинга органов статистики, мнений научного и бизнес-сообществ, но результат говорит, что этого недостаточно. Все эти методы по-своему ограничены, к примеру, технические и научные эксперты в состоянии разработать новое предложение/решение, но не способны объективно оценить процесс его реализации в условиях трансформирующейся экономики и политической системы в целом.
Кроме того, даже при наличии нескольких консолидированных экспертных мнений и предложений уже на этапе подготовки решения начинают активно работать отраслевые, ведомственные и региональные интересы, отражающие, как правило, характер основных трендов, но в «свою пользу». Эти же интересы могут «сработать» и при отборе экспертов (для того же метода Дельфи), обеспечивая «нужный результат». Такие факторы не перекрывают эволюцию инновационных сегментов, но значительно снижают работу их механизмов, действующих в рамках определенных структур. По этой причине «личный состав» президентских и министерских комиссий и советов, комитетов в Госдуме и далее по «вертикали», действия, в общем, на благо, так или иначе (с учетом степени зависимости) ориентируется на интересы органа власти, к которому он «приписан».
В регионах возникновение и действия института научной экспертизы (как центра обеспечения инновационной деятельности с дифференциацией по профилю и уровням) имеет свою предысторию, связанную с процессом формирования зоны публичного анализа на пересечении двух сфер профессиональной деятельности, каждая из которых, в принципе, может существовать в автономном режиме. Это: а) академические исследования и б) политическое планирование в рамках структур государственной и муниципальной власти. Именно наложение друг на друга этих двух различных, но потенциально взаимодополняющих сфер и дает эффект в виде феномена публичной экспертизы, в лице индивидуумов и групп экспертов, организационных структур и профессиональных ассоциаций, участвующих в инновационном процессе. Динамика этого участия, отражая изменения последних лет, сопряжена с ограничением экспертного сообщества в качестве источника выработки инновационных стандартов. Изменить ситуацию в центре и на местах мог бы новый инструмент содействия выработки политических решений в сфере инноваций.
Каким он видится? Кроме указанных аспектов, он, во-первых, должен быть надведомственным , иначе неизбежно лоббирование групповых интересов. В связи с этим, выработка инновационных предложений, как для общей стратегии, так и отдельных направлений и даже по конкретным проблемам должна обеспечиваться не только законодательно прописанным участием представителей бизнеса, науки и производства в ГЧП, но и по сетевому принципу. Такое условие необходимо, поскольку вероятность появления принципиально новых идей в штатных комиссиях и комитетах сравнительно мала. Они чаще в состоянии фильтровать уже имеющиеся нововведения (причем и на параметры фильтров оказывает влияние борьба отмеченных интересов), чем продвигать отличные от несущественных изменений инновации. В свою очередь, сетевая экспертная группа это масштабный ресурс для развития всей структуры науки и технологий в России.
Другим важным элементом нового инструментария должна стать профессиональная модерация. Ее работа не должна подчиняться исполнительной власти, в отношении принципов это может быть Общественная Палата, но только в области технологических и других инноваций. Модерация должна контролировать развитие обсуждения, нацеливать его на достижение практического результата, гарантируя при этом паритет участников. Важно понимать, что основным оппонентом инновационного развития является административно-политическая часть элиты. С одной стороны, следуя из термина – административная машина будет сопротивляться введению/выполнению дополнительных и нерегламентированных усилий инновационного развития, с другой – политически противостоять формированию модернизационной и инновационной элиты. Поэтому, ключевой задачей диалога, консолидированная позиция которого учитывается в решении проблем инновационного развития, является факт того, чтобы процесс обсуждения мог противостоять политическому (аппаратному) весу его участников.
Предположительно, что механизм в виде предварительной дискуссии, где акторы четко отобраны по ролям, участие каждого согласовано с вышестоящей инстанцией, ход дискуссии жестко модерируется согласно установленному плану, все участники имеют конкретный пул информации, а результатом форума всегда является конкретное решение – стал бы серьезным подспорьем инновационному развитию России. И управлению им со стороны элит, участие в котором позитивно меняет их профессиональное пространство.
Такой механизм, будучи площадкой разностороннего и публичного обсуждения, сможет обеспечить селекцию и аккумуляцию идей, выбор оптимально-поступательных вариантов движения, служить дополнительным элементом обратной связи в ходе их реализации. В этом случае и при благоприятствующей пока законодательной базе реально появление ярких отечественных концепций, учитывающих особенности новых форм управления на партнерских методах социального взаимодействия, публичных механизмов, оснащающих элиты государства и гражданского общества соответствующими компетенциями к инновационному решению, развивающему потенциал государственно-частного партнерства.
Список литературы Управление инновационным развитием РФ: поиск эффективных элементов профессионального инструментария элит
- Казаков М.А. Институционализация российских элит - актуальная тема современной истории и политологии // Война. Общество. Человек: Сборник статей Международной научно-практической конференции «Война. Общество. Человек», 21 февраля 2014 г. - Н. Новгород: НФ УРАО, 2014. - С. 109-118; Казаков М.А., Савельева И.В. Институционализация региональных элит в процессе реализации национальных интересов современной России // Вестник Тамбовского университета: Сер. Гуманитарные науки. - Тамбов, 2014. - Вып. 2 (130). - С. 182-187; Казаков М.А. Постсоветский транзит региональной элиты в современном политическом процессе России: автореф. дис. … док. полит. наук: 23.00.02. - Н. Новгород, 2005. - 48 с.
- Крыштановская О.В. Анатомия российской элиты. -М.: Захаров, 2005. -384 с.; Афанасьев М. Н. Российские элиты развития: запрос на новый курс. М.: Фонд «Либеральная миссия», 2009. -132 с.
- Гудков Л., Дубин Б. Иллюзия модернизации: российская бюрократия в роли «элиты»//Pro et Contra, 2007. -Том 11. -№ 3 (37). -С. 73-97.
- Тощенко Ж.Т. Прогнозирование, проектирование и планирование в социальном управлении//Социология власти, 2005. -№ 5. -С. 29-30.
- Водопетов С.В. Развитие инструментария политических элит для национального инновационного развития//Инновации и инвестиции, 2014. -№ 8. -С.
- Трифонов В.А., Бунин М.Н. Венчурные фонды как действенный инструмент поддержки и развития реального сектора экономики (на примере Сибирского федерального округа)//Вестник Кемеровского государственного университета. -№ 1 (57). -Т.1. -Кемерово: Изд-во «Кем ГУ», 2014. -С. 230-236.
- Грудзинский А.О., Бедный А.Б. Инноватор -целевая модель выпускника ведущего университета//Гуманитарии в XXI веке/Под. общ. ред. проф. З.Х. Саралиевой: В 2 т. Т.1. -Н. Новгород: Изд-во НИСОЦ, 2013. С. 236-240.
- Статистика инноваций в России//Федеральная служба государственной статистики URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/ind_2020/pril3.pdf (дата обращения: 28.03.2014 г.);
- Сборник «Индикаторы инновационной деятельности» 2014г. // Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» URL: http://www.hse.ru/primarydata/ii2014 (дата обращения: 29.04.2014 г.).