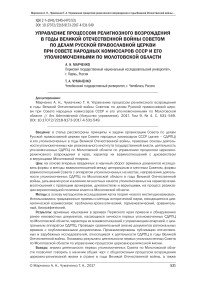Управление процессом религиозного возрождения в годы Великой Отечественной войны советом по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров СССР и его уполномоченными по Молотовской области
Автор: Марченко А.Н., Чумаченко Т.А.
Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi
Рубрика: Государственная политика и политические институты: история и современность
Статья в выпуске: 4, 2017 года.
Бесплатный доступ
Введение: в статье рассмотрены принципы и задачи организации Совета по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров СССР (далее - СДРПЦ) и его уполномоченных в годы Великой Отечественной войны, правовые основы деятельности уполномоченных как регионального института государственной власти, деятельность уполномоченных СДРПЦ по Молотовской области по управлению процессом церковно-религиозного возрождения в крае, характер их взаимоотношений с духовенством и верующими Молотовской епархии. Цель: на основе впервые введенных в научный оборот архивных документов исследовать формы и методы взаимоотношений между центральным и местным Советом, формы взаимоотношений Совета с аппаратом уполномоченных на местах, направления деятельности уполномоченных СДРПЦ по Молотовской области в годы Великой Отечественной войны, дать анализ роли и влияния личностных качеств уполномоченных на характер взаимоотношений с правящим архиереем, духовенством и верующими, на процесс реализации вероисповедной политики власти в Молотовской области. Методы: в основу методологии исследования легла теория «нового институционализма». Использовались традиционные приемы и методы исторической науки, находящиеся в диалектической взаимосвязи: проблемно-хронологический, герменевтический, сравнительный, биографический. Результаты: архивные изыскания в архивах Пермского края привели к обнаружению ранее неизвестных документов, касающихся личности первых уполномоченных СДРПЦ по Молотовской области, характера их взаимоотношений с управляющим епархией, с центральным аппаратом СДРПЦ. Проведен сравнительный анализ документов региональных архивов с опубликованными документами. Проанализированы публикации отечественных и зарубежных исследователей, относящиеся к деятельности СДРПЦ в годы Великой Отечественной войны. Показаны результаты деятельности первых уполномоченных Совета по Молотовской области по управлению процессом церковно-религиозной жизни. Выводы: анализ деятельности первых уполномоченных Совета по Молотовской области позволяет говорить о наличии общих черт с общесоюзным процессом возрождения церковно-религиозной жизни в стране в годы Великой Отечественной войны, а также выделить особенное в становлении государственно-церковных отношений на территории области. С одной стороны, уполномоченные способствовали воссозданию церковно-административной структуры, открытию церквей, с другой - в их поведении закладывался стереотип нового государственного чиновника «по делам религий», лично убежденного, что он вправе диктовать условия церковному руководству, грубо вмешиваться в дела религиозных объединений. Научная новизна исследования определяется введением в научный оборот ряда архивных документов, позволяющих реконструировать неизвестные страницы государственно-церковных отношений в Молотовской области, истории Молотовской епархии РПЦ. Результаты исследования могут быть использованы для подготовки учебных пособий, спецкурсов и семинаров как по общероссийской, так и региональной истории государственно-церковных отношений в России и истории Русской православной церкви.
Великая отечественная война, молотовская епархия, совет по делам русской православной церкви при снк ссср, уполномоченный совета по делам рпц по молотовской области
Короткий адрес: https://sciup.org/147204258
IDR: 147204258 | УДК: 2-761941/19459(470.53) | DOI: 10.17072/2218-9173-2017-4-531-549
Текст научной статьи Управление процессом религиозного возрождения в годы Великой Отечественной войны советом по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров СССР и его уполномоченными по Молотовской области
Сентябрь 1943 года стал началом нового этапа в развитии взаимоотношений между советским государством и Русской православной церковью. Комплекс внутри- и внешнеполитических обстоятельств, сложившихся в годы Великой Отечественной войны, привел к коренным изменениям в государственной религиозной политике и к началу возрождения церковнорелигиозной жизни в СССР. По всей территории страны, не оккупированной врагом, началось открытие православных храмов, происходила организация церковных общин, возобновление деятельности ранее упраздненных органов церковного управления.
Необходимо отметить, что этот сложный процесс «церковного ренессанса», инициированный сверху по личной инициативе И. В. Сталина, после многих лет целенаправленного уничтожения в СССР религиозных структур нуждался в четком и системном управлении со стороны советского государства. В целях обеспечения регулирования и контроля за развитием религиозной жизни в стране при Совете народных комиссаров (СНК) СССР были созданы специальные органы государственного управления – СДРПЦ, занимавшийся исключительно вопросами Русской православной церкви, и Совет по делам религиозных культов (СДРК), ведавший деятельностью всех остальных религиозных организаций. На местах, в том числе и в Молотовской (Пермской) области, проводниками новой религиозной государственной политики выступали уполномоченные Совета, осуществлявшие управление процессом возрождения религиозной жизни советских граждан и самой Русской православной церкви.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Деятельность СДРПЦ в годы Великой Отечественной войны нашла свое отражение в монографических и диссертационных исследованиях отечественных историков (Васильева, 2001; Одинцов, 2005; Цыпин, 2006; Федотов,
2005; Чумаченко, 2011; Шкаровский, 1999). О. Ю. Васильева, М. В. Шкаров-ский, прот. В. Цыпин подчеркивают руководящую функцию Совета, видят в нем «око государево», институт «обер-прокурорства», «двуликий орган», «обслуживающий политические игры власти». Напротив, М. И. Одинцов, свящ. А. Федотов и др. считают создание и деятельность Совета, особенно в первые годы его функционирования, «позитивным шагом, так как через него Церковь получила возможность более-менее полноценного диалога с государством» (Федотов, 2005, с. 206). Д. В. Константинов отмечал роль председателя СДРПЦ как дипломатичного, «достаточно гибкого», в определенной степени «благожелательно настроенного к Церкви партийного деятеля» (Constantinov, 1979, p. 32).
Необходимо отметить, что зарубежные историки и политологи в своих исследованиях 1960–1980-х годов в СДРПЦ видели лишь инструмент государственной власти в использовании Церкви в своих политических интересах (Kolarz, 1961; Pospielovsky, 1984; Ellis, 1986; Bodevig, 1988).
Осмысление рассекреченных материалов российских архивов, а также выводов отечественных историков привели к появлению зарубежных исследований, содержание которых свидетельствует об отходе авторов от характеристики вероисповедной политики советского государства как однозначно атеистической (Поспеловский, 1995; Davis, 1995; Pospielovsky, 1997; Раккуччи, 2016).
Деятельность СДРПЦ неоднозначно оценивается отечественными и зарубежными исследователями. Ученые часто отождествляют несколько факторов: государственные установки в религиозной сфере в первые годы работы этого института, собственную позицию руководства СДРПЦ и, конечно, деятельность его уполномоченных в регионах. Эти факторы имели различную значимость в становлении государственно-церковных отношений, о чем убедительно свидетельствуют исследования региональных авторов. Однако, несмотря на значительное число публикаций, посвященных отношениям Русской православной церкви и советского государства в годы Великой Отечественной войны, лишь в немногих исследованиях деятельность уполномоченного СДРПЦ в том или ином регионе страны является непосредственным объектом анализа (Горбатов, 2011; Гераськин, 2011; Малюков, 2015; Сердюк, 2011; Чумаченко, 2015). Между тем невозможно представить сложный и противоречивый процесс воплощения церковной политики власти в целом по стране, выявить общее и особенное ее реализации без анализа деятельности уполномоченных СДРПЦ в различных регионах страны, без принятия во внимание их личностных характеристик. Социальное происхождение, образовательный уровень, профессиональная деятельность до назначения, безусловно, накладывали отпечаток на характер работы уполномоченного, влияли на содержание, характер и эволюцию его взаимоотношений с духовенством и верующими того или иного региона.
С этой точки зрения анализ деятельности уполномоченных СДРПЦ по Молотовской (Пермской) области представляется актуальным и значимым. Введение в научный оборот новых архивных документов, касающихся личности и деятельности первых уполномоченных СРПЦ в области, безусловно, поможет составить более объективное представление о неоднозначном процессе возрождения церковно-религиозной жизни в Пермском крае в годы Великой Отечественной войны, а также о характере формирования взаимоотношений власти и Церкви в регионе.
Основой методологии исследования стала теория «нового институционализма». Область охвата этой теории широка: поведение человека, права собственности, контракты, организации, роль государства в обществе. Приверженцы данного направления утверждают: важность институционализма заключена не в демонстрации значимости институтов, а в методологической направленности научных исследований (Diermeier and Krehbiel, 2003, p. 124), не в том, чтобы государство и иные политические институты «вернулись» в исследование, а в стремлении «вспомнить все – историческую, философскую, социокультурную и политическую традицию, значение человеческого поступка» (Патрушев, 2006, с. 13).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Отправной точкой запуска системного процесса религиозного возрождения в СССР стала знаменитая «кремлевская встреча» руководства советского государства во главе с И. В. Сталиным и ведущими иерархами Московской Патриархии. В ночь с 4 на 5 сентября 1943 года делегация Московской Патриархии в составе трех митрополитов – Сергия (Страгородского), Николая (Ярушевича) и Алексия (Симанского) прибыла в Кремль, где была принята И. В. Сталиным. На встрече присутствовали заместитель Председателя Совнаркома В. М. Молотов, глава НКВД Л. П. Берия, а также начальник 5-го отдела («по борьбе с духовенством всех конфессий») II управления НКГБ полковник государственной безопасности Г. Г. Карпов (Чумаченко, 2013, с. 325).
В течение двух часов митрополиты обсуждали со Сталиным прежде неразрешимые в условиях советского государства церковные вопросы. Главным из них был вопрос о церковном управлении. Сталин дал согласие на легализацию центрального руководства Церкви – образование Синода в составе 5–6 архиереев, созыв Архиерейского собора и избрание на нем патриарха с титулом «Патриарх Московский и всея Руси». Для скорейшего и успешного проведения Собора правительство обещало обеспечить Церковь помещением, транспортом, деньгами и другими необходимыми средствами. Были достигнуты договоренности о сроках его проведения. Правительство согласилось на открытие православных храмов в стране, формирование православных епархий, а также на организацию пастырско-богословских курсов для подготовки кадров священнослужителей.
Встреча завершилась уведомлением иерархов о создании в ближайшее время при СНК нового органа, осуществляющего связь правительства с патриархом, – СДРПЦ. На должность его председателя назначался полковник госбезопасности Г. Г. Карпов, которому Сталин дал указание подобрать 2–3 помощников – членов Совета, создать аппарат. Наставляя Карпова, вождь посоветовал не подражать обер-прокурорам и своей работай подчеркивать самостоятельность церкви (Одинцов, 1999).
14 сентября 1943 года Совнарком издал постановление «Об организации Совета по делам Русской православной церкви при СНК СССР»1. 7 октября того же года правительство утвердило «Положение о Совете по делам Русской православной церкви при СНК СССР» своим постановлением за № 1095. Пункт первый Положения, определяющий главную задачу Совета, повторял указание Сталина: «Совет по делам Русской православной церкви при Совнаркоме СССР осуществляет связь между Правительством СССР и патриархом Московским и всея Руси по вопросам русской православной церкви, требующим разрешения Правительства СССР» (Одинцов, 1995).
Согласно этому Положению СДРПЦ получал право требовать предоставления необходимых сведений и материалов от центральных и местных органов, касающихся вопросов имеющих отношение к РПЦ; создавать комиссии для решения возникших вопросов. Центральные учреждения и ведомства Советского Союза были обязаны согласовывать с Советом свои мероприятия, которые относятся к Русской православной церкви. В компетенцию СДРПЦ также было включено: предварительное изучение вопросов, поставленных руководством РПЦ перед правительством, разработка законодательных актов, касающихся Церкви, их вынесение на рассмотрение СНК; наблюдение за проведением в жизнь государственного законодательства о религии, которое касается православной церкви; подготовка информации для правительства о деятельности РПЦ, подготовка заключений по вопросам, относящимся к Церкви. Положение возлагало на СДРПЦ обязанность наблюдать за своевременным и правильным на всей территории СССР проведением в жизнь законодательных актов правительства, относящихся к РПЦ (Одинцов, 2005, с. 81–82). Для выполнения этой задачи создавался аппарат региональных уполномоченных СДРПЦ при СНК союзных и автономных республик, а также при обл(край)исполкомах страны.
Вопрос формирования корпуса уполномоченных прошел обсуждение на высшем уровне 13 октября 1943 года. Председатель СНК В. М. Молотов считал, что в областях, освобожденных от врага, уполномоченных необходимо назначать из чекистов. Подбор уполномоченных был возложен на областные комитеты ВКП (б)2.
Заработная плата и довольствие уполномоченных были те же, что у начальников Управлений СНК республик и заведующих отделами обл(край)испол-комов. Финансирование предполагалось осуществлять из местного бюджета. Необходимо отметить, что данное решение В. М. Молотова делало противоречивым правовое положение уполномоченных: на должность назначали областные комитеты партии, оплата труда производилась из регионального бюджета, однако выполнять они должны были указания органа союзного значения – СДРПЦ.
18 декабря 1943 года СНК принял Постановление № 1392 о введении в стране 89 штатных должностей уполномоченного СДРПЦ3. В силу важности занимаемой должности уполномоченные получали отсрочку по мобилизации4.
В соответствии с принятыми на союзном уровне решениями и документами в декабре 1943 года при Молотовском облисполкоме была введена должность уполномоченного СДРПЦ и образован аппарат уполномоченного, состоявший из трех человек: уполномоченный, секретарь и машинистка (Сперанский, 1996, с. 260).
Первым уполномоченным Совета в Молотовской области стал сотрудник Молотовского облисполкома Л. И. Смирнов.
Смирнов Леонид Иванович родился 18 мая 1902 года в семье токаря Белохолуницкого завода Вятской губернии. После смерти отца находился на иждивении матери, которая работала чернорабочей. До 1911 года семья жила в Белохолуницком заводе, после чего переехала в Лысьвенский завод Пермской губернии. В 1913 году Л. И. Смирнов окончил начальную школу и поступил на работу заводским слесарем. В 1917 году вступил в комсомол. В октябре 1919 году ушел добровольцем в Красную Армию в 8-й Уральский стрелковый полк. В 1920 году вступил в ряды ВКП (б). После демобилизации в 1922 году возвратился на Лысьвенский завод, где проработал в должности слесаря-настройщика до 1925 года. С 1925 года Л. И. Смирнов занимал различные должности в районном комитете партии, а также в региональном отделении профсоюза металлистов.
Интересной страницей биографии Л. И. Смирнова является его работа в качестве председателя ячейковой комиссии по чистке рядов ВКП (б) с сентября 1933 года по март 1934 года. К сожалению, пока в архивах Пермского края не обнаружены материалы по деятельности этой ячейковой комиссии и ее председателя. Однако сам факт работы Л. И. Смирнова с кадрами повлиял на дальнейшее его продвижение по карьерной лестнице. В 1939 году он был утвержден заведующим сектором кадров облисполкома, а с января 1940 года занял должность заведующего спецсектором при председателе Пермского облисполкома. Одновременно Л. И. Смирнов исполнял обязанности секретаря партийной организации облисполкома5.
За время продвижения по служебной лестнице Л. И. Смирнов так и не получил образования кроме начального (низшее, по анкетам того времени). Был женат. За время пребывания в партии никаким взысканиям не подвергался, колебаний и уклонений от генеральной линии партии, согласно материалам его личного дела, не имел. Под судом не был, ни в семье, ни в родне лишенных прав гражданства не имел, правительственных наград также не имел.
14 декабря 1943 года решением Молотовского облисполкома Смирнов занял должность уполномоченного Совета по делам РПЦ при СНК СССР по Молотовской области. 20 декабря 1943 года утвержден в этой должности бюро Молотовского обкома ВКП (б). При этом Л. И. Смирнов не освобождался от своих должностных обязанностей заведующего секретным отделом облисполкома, а также оставался секретарем его партийной организации6.
Назначение на должность уполномоченного человека, никогда по долгу службы не имеющего отношения к религиозной (антирелигиозной) сфере,
Марченко А. Н., Чумаченко Т. А. Управление процессом религиозного возрождения в годы Великой Отечественной войны... причем в качестве дополнительной нагрузки к существующим служебным обязанностям, свидетельствовало, на наш взгляд, об отношении областной власти к церковным делам как к недостаточно важной или, возможно, временной задаче.
Формальный подход к назначению на должность уполномоченного СДРПЦ был весьма распространенным во всех регионах страны. Руководство СДРПЦ после неудачных попыток преодолеть инертность в этом вопросе было вынуждено разработать систему мероприятий, позволяющих направлять и контролировать деятельность уполномоченных.
Совет высылал в адрес уполномоченных инструктивные письма с указаниями, подробными разъяснениями, рекомендациями; регулярными были командировки сотрудников инспекторского отдела Совета на места и для проверки, и для оказания непосредственной помощи в работе. С осени 1944 года берет начало такая форма работы с уполномоченными, как кустовые совещания. Уполномоченные СДРПЦ должны были ежеквартально составлять информационные отчеты, периодически выезжая в Москву для представления отчета за полгода и год.
Документы Совета говорят о том, что основными направлениями в деятельности уполномоченных в годы Великой Отечественной войны стали: регистрация религиозных обществ и состава духовенства; учет действующих и закрытых церквей, молитвенных домов, монастырей; проверка и оформление документов, связанных с регистрацией.
Важнейшей и первоочередной задачей организации церковной жизни в Молотовской области в годы Великой Отечественной войны стало открытие православных храмов, которых не хватало для удовлетворения духовных нужд верующих. В то же время огромное количество православных церквей в области находились в запустении или использовалось не по назначению. Большая работа по учету храмов в области была проведена управляющим епархией епископом Александром (Толстопятовым). Указом Московской патриархии он уже 7 сентября 1943 года был направлен в Молотовскую епархию (Марченко, 2005, с. 105–106).
К январю 1944 года в Прикамье насчитывалось закрытых церквей и часовен – 691; использовались под школы и клубы – 365; для хозяйственных нужд – 271; неиспользованных зданий – 487. Из них 56 церквей стояли на государственном учете как уникальные памятники архитектуры ХVII –XIX веков.8
Чтобы ускорить процесс возвращения храмов, по всей области стали создаваться инициативные группы верующих, которые ходатайствовали перед местными органами власти об открытии церквей. Документы свидетельствуют, что наибольшую активность в этом направлении проявили жители районов с традиционно православным населением, где уже действовали храмы: Кунгурского, Юго-Осокинского, Нытвенского, Ворошиловского, Соликамского, Верхне-Муллинского и Красновишерского9. С сентября 1943 года по май 1945 года они подали свыше 400 заявлений (в 1943 году –
53 ходатайства, в 1944 году в 6 раз больше – 316). Пассивно вели себя верующие в районах, где преобладало исламское население, и жители Коми-Пермяцкого округа, где не было действующих церквей. В годы войны не поступило ни одного заявления из Бардымского, Юрлинского, Половинковского, Гайн-ского, Косинского районов10.
Ходатайства верующих проходили многократную проверку. Сначала они рассматривались органами церковного управления: епархиальным Советом и лично епископом Молотовским Александром, который принимал решение о целесообразности подачи прошения. Как правило, желание верующих приветствовалось епархиальной властью. Каждое ходатайство должны были подписать не менее 20 человек, «совершеннолетних, не лишенных по суду избирательных прав, граждан, проживающих в данном населенном пункте, с указанием возраста, места жительства и рода занятий»11. В тех случаях, когда прошения были подписаны не группой верующих, а одним человеком, Епархиальный совет отклонял ходатайство и возвращал документы обратно12.
Получив из епархии ходатайство, уполномоченный должен был выявить инициатора подачи заявления, его личные интересы в этом деле и отношение к церкви. Важно было узнать, вынесено ли властями в отношении данного церковного здания решение о закрытии или оно просто не функционирует в силу различных причин (отсутствие священника и т.д.).
Согласно постановлению СНК СССР от 1 декабря 1944 года «О православных церквах и молитвенных домах», ходатайства в отношении тех церквей, которые официально не закрывались, должны были удовлетворяться в первую очередь. Уполномоченный должен был ознакомиться с техническим состоянием церковного здания, выяснить стоимость его ремонта и согласие верующих на его проведение, наличие места для проживания священника. Для уполномоченного было важно знать, какое количество функционирующих церквей находилось в указанном районе и городе, а также расстояние до ближайшей из них13.
Для получения сведений уполномоченный направлял заявление верующих на экспертизу в местные (районные и городские) органы исполнительной власти. Изучив ситуацию, исполкомы давали заключение о возможности передачи верующим здания церкви, после чего возвращали заявление уполномоченному. К каждому ходатайству прилагалась справка, содержавшая сведения о состоянии, в котором находилось здание церкви: пригодно ли оно для богослужений, сохранилась ли церковная утварь, когда и по решению каких органов была закрыта церковь. Указывались также количество уже функционировавших в районе церквей и расстояние данного населенного пункта до ближайшей действующей церкви. Если облисполком по тем или иным причинам ходатайство верующих отклонял, им выносилось мотивированное решение, о котором верующие официально уведомлялись. В тех же случаях, когда просьба удовлетворялась, документы направлялись облисполкомом в центральный аппарат СДРПЦ, где выносилось окончательное решение. В случае согласия СДРПЦ с мнением облисполкома документы передавались в Правительство СССР на одобрение. После принятия положительного решения происходила регистрация приходской общины, с ней заключался договор о передаче в использование церковного здания. Правящим архиереем назначался настоятель храма14.
Такая система продвижения документов позволяла гражданской власти сдерживать процесс открытия храмов. Большинство подаваемых прошений отсеивалось на разных этапах движения документов. Например, с января по июнь 1944 года верующие Молотовской области подали 94 ходатайства об открытии церквей. 38 из них были сразу же возвращены уполномоченным как «неправильно оформленные». Остальные 56 были переданы на рассмотрение в райисполкомы, которые в 39 случаях вынесли отрицательное заключение. В итоге облисполком направил в СДРПЦ только 17 ходатайств. Из них были удовлетворены 915. С 1 января по 1 июля 1945 года верующие подали 167 заявлений об открытии церквей. Из них в Москву на утверждение отправлено – 33, удовлетворено – 1216. Таким образом, достигала цели лишь небольшая часть ходатайств (от 7 до 10 %).
Согласно инструктивному письму уполномоченным Совета № 2 председателя СДРПЦ Г. Г. Карпова от 20 апреля 1944 года, законными причинами отклонения ходатайств об открытии церквей могли являться только: отсутствие здания для богослужебных собраний, невозможность освобождения здания бывшей церкви, использование его для других целей, его техническая непригодность; отсутствие 20 человек верующих в районе или городе, фальсификация сбора подписей под ходатайством17.
За время пребывания в должности уполномоченного СДРПЦ Л. И. Смирнову удалось проделать большую работу по учету в области церковных зданий, собиранию архивных дел о закрытии церквей, по решению вопросов об открытии храмов и регистрации религиозных общин.
Важное место в деятельности уполномоченного Л. И. Смирнова занимал вопрос взаимодействия с духовенством, особенно с управляющим Молотов-ской епархией епископом Александром (Толстопятовым). Согласно поступающим сверху инструкциям, уполномоченный в личном разговоре с духовенством был обязан называть епископа и священников по имени и отчеству. Секретарь уполномоченного регистрировал в особом журнале информацию о каждом посетителе (фамилия, имя, отчество, место проживания, место работы, вопрос по которому прибыл). Однако визиты епископа, благочинных и секретаря епархиального управления в журнале посетителей не регистриро-вались18. Как правило, при посещении уполномоченного управляющий епархией представлял письменный доклад со своими просьбами и вопросами19.
23 февраля 1945 года Л. И. Смирнов внезапно скончался. На собрании прихода Всехсвятской церкви г. Молотова верующие по христианскому обычаю пропели умершему уполномоченному Л. И. Смирнову «Вечную память»20.
В апреле 1945 года на должность уполномоченного СДРПЦ по Молотов-ской области был назначен начальник спецотдела Молотовского облисполкома Петр Спиридонович Горбунов21.
Горбунов Петр Спиридонович родился в 1908 году в семье крестьянина – бедняка деревни Каневишевой Кунгурского уезда Пермской губернии. До 1923 года жил в семье отца, учился в школе, помогал отцу по хозяйству, пас скот. С 1923 года до времени призыва в 1930 году в РККА П. С. Горбунов работал по найму у местных кустарей, в различных артелях, на конезаводе и др. Армейская служба проходила в полковой школе артиллерийского полка в г. Молотове. По окончании курсов занимал различные должности в артиллерийских полках города: помощника командира взвода 57-го артиллерийского полка, инструктора школы 82-го полка. В 1936 году, после окончания курсов командиров взводов в г. Молотове, был направлен в распоряжение воинской части № 8108 РВК ТОФ, где и прослужил в должности командира особого взвода до ноября 1938 года, когда был уволен в запас по болезни. В 1930 году П. С. Горбунов был принят в ВКП (б). За период службы в РККА взысканий по партийной и служебной линии не имел. Неоднократно награждался почетными грамотами. За хорошую боевую и политическую подготовку своего подразделения был отмечен в статьях, опубликованных в окружных газетах22.
С 12 декабря 1938 года по 1945 год П. С. Горбунов работал в аппарате облисполкома на должностях: заведующего группой по разбору жалоб трудящихся, помощником заместителя председателя, заведующим военным отделом, начальником спецотдела. Согласно материалам личного дела, П. С. Горбунов репрессированных среди родственников не имел, в боевых действиях не участвовал23.
Отсутствие гражданского образования, многолетняя служба в воинских частях наложили отпечаток на характер будущего уполномоченного. По воспоминаниям современников, П. С. Горбунов имел грубый характер, в отно- шении к Церкви был нелоялен, к нуждам приходов и верующих безразличен. В отличие от своего предшественника, уполномоченный П. С. Горбунов не находил взаимопонимания с епископом Александром, так как последний стремился к отстаиванию церковных приоритетов. Известно, что Горбунова, как и многих других уполномоченных СДРПЦ, крайне раздражало заложенное в природе церковного единовластия стремление архиерея действовать самостоятельно и независимо от контролирующего государственного органа. По этой причине взаимоотношения епископа Александра с П. С. Горбуновым складывались весьма напряженно, порой доходя до конфликтов.
П. С. Горбунов и начал свою деятельность в должности уполномоченного с запретительных мер. В апреле 1945 года епископ Александр обратился к секретарю Молотовского обкома партии с просьбой разрешить отпечатать в пермской типографии для Молотовской епархии погребальные венчики и молитвы24. Епископу было предложено указать необходимое количество этой церковной утвари. Однако вмешался уполномоченный, и в изготовлении было отказано. Горбунов мотивировал отказ тем, что «в Москве имеется патриаршая типография, которая и должна удовлетворить нужды церкви»25.
Уполномоченный пользовался любым поводом для отклонения ходатайства верующих об открытии храмов. В тех случаях, когда инициативная группа верующих состояла из заштатных священнослужителей, бывших церковнослужителей и членов исполнительных органов церквей, со стороны уполномоченного следовал отказ. Мнение уполномоченного П. С. Горбунова вполне совпадало с позицией руководства СДРПЦ: «Эти лица ходатайствуют об открытии церкви в своих корыстных целях, стремясь жить за счет церковных доходов» (Одинцов, 2005, с. 387).
Одним из крупнейших церковных событий военного времени стал Поместный собор Русской православной церкви, проходивший в Москве с 31 января по 4 февраля 1945 года. На Соборе было совершено избрание Патриарха Алексия I (Симанского) и был принят ряд важнейших для Церкви документов, в том числе «Положение об управлении Русской православной церковью».
В период подготовки к Собору в декабре 1945 года между епископом Александром и П. С. Горбуновым возник конфликт по поводу состава делегации от Молотовской епархии. Епископ настаивал на включении в состав делегации ключаря собора священника Иоанна Мельникова. Однако Горбунов был заинтересован в другом кандидате – настоятеле Всехсвятской церкви г. Молотова протоиерее Иоанне Караваеве. Конфликт был разрешен отклонением обоих кандидатур. В результате проведенных выборов делегатами на Поместный собор от Молотовской епархии стали епископ Александр, благочинный протоиерей Леонид Зубарев и мирянин В. Ф. Любимов (Марченко, 2015, с. 266).
После возвращения с Собора отношения епископа Александра и уполномоченного П. С. Горбунова ухудшились. 24 января 1945 года епископ Александр сообщил патриаршему местоблюстителю митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Алексию о сложившихся трудностях в управлении епархией в связи с поведением уполномоченного. Владыка констатировал незаконное вмешательство П. С. Горбунова в управление Молотовской епархией, создание оппозиции из числа духовенства, назначенного епископу, грубое поведение в отношении духовных лиц (Марченко, 2015, с. 260–261).
П. С. Горбунов, в свою очередь, желая смещения неуступчивого архиерея с должности, обвинил его перед руководством СДРПЦ в том, что епископ «провалил патриотическую деятельность в епархии, слабо помогает государству». Однако такая позиция уполномоченного не нашла одобрения председателя СДРПЦ Г. Г. Карпова. Чтобы лучше разобраться в ситуации, Г. Г. Карпов обратился к самому епископу с просьбой сообщить в Патриархию и Совет причины конфликта с Горбуновым26.
Оправдываясь перед руководством СДРПЦ, П. С. Горбунов обвинял во всем епископа Александра. В объяснительной записке от 20 февраля 1945 года, называвшейся «О несработанности с епископом Александром», уполномоченный докладывал своему куратору в центральном аппарате СДРПЦ Г. Г. Уткину: «...Епископ занимался незаконной сменой священников, перемещал с места на место, не согласовывал и не ставил в известность нас... Патриотическими делами занимается совершенно неудовлетворительно. В Слудском соборе между священниками и церковным советом постоянные ссоры, созданные самим же епископом в виду того, что одни пользуются большим авторитетом у епископа, другие нет...»27.
Уполномоченный утверждал, что «со стороны епископа Александра нередко проскальзывают слова (при разговорах с верующими) непризнания Советской власти, в особенности по вопросам открытия церквей: «Он говорит: “Что мне власть Советская на местах. Я, где хочу, имею право открывать церкви”...»28.
Конфликт между уполномоченным и правящим архиереем так и остался неразрешенным – вплоть до смерти владыки Александра в сентябре 1945 года.
Примечательно, что епископ Александр (Толстопятов) в феврале 1945 года «во внимание к архипастырским трудам и за патриотическую деятельность» был возведен в сан архиепископа (Марченко, 2005, с. 120).
В то же время в личном деле члена ВКП (б) П. С. Горбунова зафиксировано: «Идеологически выдержан, морально устойчив, систематически работает над повышением своего идейно-политического уровня»29. В 1946 году по представлению Молотовского обкома партии П. С. Горбунов был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».30 Работа П. С. Горбунова на посту уполномоченного СДРПЦ устраивала не одно поколение областного руководства. Только в марте 1963 года П. С. Горбунов был освобожден от должности уполномоченного СДРПЦ в связи с переводом в сельский облисполком. Однако с 1965 года руководство области вновь привлекло П. С. Горбунова к работе в реорганизованном аппарате уполномоченного Совета по делам религий при Совете министров СССР по Пермской области. В должности старшего инспектора П. С. Горбунов проработал до 1967 года31.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Опыт деятельности первых уполномоченных Совета по Молотовской области Л. И. Смирнова и П. С. Горбунова оказался сколь успешным, столь и противоречивым. С одной стороны, уполномоченные способствовали воссозданию церковно-административной структуры, открытию церквей на территории Молотовской области. С другой – в их поведении закладывался стереотип нового государственного чиновника «по делам религий», способного диктовать условия, грубо вмешиваться в дела религиозных объединений в зависимости от ракурса государственной политики и личных убеждений.
Первая тенденция в большей степени нашла свое воплощение в работе уполномоченного Совета по Молотовской области Л. И. Смирнова, для которого характерным являлись внимание к ходатайствам верующих об открытии храмов, уважительное отношение к управляющему епархией, к духовенству, к вопросам, ими поднимаемым. В деятельности уполномоченного П. С. Горбунова нашла свое выражение запретительная тенденция, характерная для многих уполномоченных в стране: стремление ограничить пределы церковнорелигиозной жизни, диктат, пренебрежение к вопросам, поднимаемым духовенством и верующими.
Сравнительный анализ характера и содержания деятельности первых уполномоченных СДРПЦ по Молотовской области позволяет по-новому подойти к рассмотрению вопроса о роли региональной власти в процессе реализации церковной политики советского государства в годы Великой Отечественной войны. Через назначение на должность уполномоченного человека с определенными личностными характеристиками местный госпартаппарат выражал свою собственную позицию по отношению к новой церковной политике правительства. Архивные документы, а также выводы отечественной историографии свидетельствуют о том, что абсолютное большинство представителей региональной власти СССР отнеслись к этой политике как к временной, вынужденной, тактической уступке во имя достижения главной на тот период цели – победы над гитлеровской Германией. Вследствие этого зачастую к назначению на должность уполномоченного на местах подходили формально: назначались сотрудники советских ведомств без освобождения от своих обязанностей, с низким уровнем образования, с ярко-выраженной антицерковной позицией. Не стала исключением и Молотовская область.
И все же создание СДРПЦ и аппарата его уполномоченных на местах в годы Великой Отечественной войны было явлением важным и уникальным. Это была единственная – наряду с Советом по делам религиозных культов – структура в системе органов государственной власти, чьи функции и задачи не были непосредственно связаны с ходом военных действий. Этот факт свидетельствовал об исключительной заинтересованности власти в результатах деятельности нового института как инструмента контроля и управления религиозной жизнью в стране.
Кроме того, организация СДРПЦ демонстрировала также и особый политический интерес государственной власти к РПЦ как будущему проводнику своей внутренней и внешней политики. Орган, занимающийся делами лишь одной конфессии в стране – Русской православной церкви, и аппарат его уполномоченных на местах существовал в СССР более 20 лет, до конца 1965 года.
Несмотря на трудности, новая церковная политика постепенно претворялась в жизнь: открывались храмы и молитвенные дома, укреплялось материальное положение Церкви, формировались кадры церковно- и священнослужителей, верующие могли свободно исповедовать свою веру. Количество православных храмов на территории Молотовской области к концу Великой Отечественной войны увеличилась с 9 до 48, это самое большое число действующих храмов из всех областей уральского региона (Марченко и др., 2015, с. 154–155).
Список литературы Управление процессом религиозного возрождения в годы Великой Отечественной войны советом по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров СССР и его уполномоченными по Молотовской области
- Васильева О. Ю. Русская Православная Церковь в политике советского государства в 1943-1948 гг. М.: Ин-т рос. истории РАН, 2001. 214 с.
- Гераськин Ю. В. Уполномоченный Совета по делам Русской православной церкви: исторический портрет (на материалах областей Центральной России)//Государство и церковь в ХХ веке: эволюция взаимоотношений, политический и социокультурный аспекты. Опыт России и Европы/Отв. редактор А. И. Филимонова. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. С. 48-59.
- Горбатов А. В. К вопросу о статусе уполномоченных по делам религий в Сибири (1943-1969 гг.)//Государство и церковь в ХХ веке: эволюция взаимоотношений, политический и социокультурный аспекты. Опыт России и Европы/Отв. редактор А. И. Филимонова. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. С. 35-47.
- Малюков Е. И. Уполномоченные Совета по делам РПЦ при СНК (СМ) СССР в Челябинской области. 1943-1965 гг.//Социум и власть. 2015. № 1. С. 106-111.
- Марченко А. Н. Защитник Отечества и веры Христовой: Жизнеописание подвижника Православной веры Александра (Толстопятова, архиепископа Молотовского (Пермского) и Соликамского). Пермь, 2005. 152 с.
- Одинцов М. И. Русские патриархи ХХ века: Судьбы Отечества и Церкви на страницах архивных документов. М.: РАГС, 1999. 334 с.
- Одинцов М. И. Власть и религия в годы войны. (Государство и религиозные организации в СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.). М.: РОИР, 2005. 540 с.
- Одинцов М. И. Религиозные организации в СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг. М.: РАГС, 1995. 222 с.
- Патрушев С. В. Институциональная политология: Современный институционализм и политическая трансформация России. М.: ИСП РАН, 2006. 586 с.
- Поспеловский Д. В. Русская православная церковь в ХХ веке. М.: Республика, 1995. 511 с.
- Раккуччи А. Сталин и патриарх: Православная церковь и советская власть. 1917-1958. М.: Политическая энциклопедия, 2016. 582 с.
- Русская Православная Церковь в Прикамье в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)/Науч. ред. А. Н. Марченко. Пермь: Астер, 2015. 411 с.
- Сердюк М. Б. Институт уполномоченных Совета по делам Русской православной церкви и Совета по делам религиозных культов на Дальнем Востоке. 1944-1954 гг.//Азиатско-тихоокеанский регион: экономика, политика, право. 2011. № 2. С. 94-101.
- Сперанский А. В. В горниле испытаний: Культура Урала в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 1996. 347 с.
- Федотов А. А. Русская Православная Церковь в 1943-2000 гг.: внутрицерковная жизнь, взаимоотношения с государством и обществом (По материалам Центральной России). Иваново: Изд-во Иван. гос. ун-та, 2005. 136 с.
- Цыпин В. История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейший периоды/2-е изд., перераб. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2006. 816 с.
- Чумаченко Т. А. Институт уполномоченных Совета по делам РПЦ при СНК СССР в годы Великой Отечественной войны: становление аппарата//Великая Отечественная и Вторая мировая войны: дальневосточное измерение/Отв. ред. О. П. Федирко. Владивосток: Изд-во ДВФУ, 2015. С. 311-316.
- Чумаченко Т. А. Карпов Георгий Григорьевич//Православная энциклопедия. Т. XXXI. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2013. С. 325-328.
- Чумаченко Т. А. Совет по делам Русской православной церкви при СНК (СМ) СССР. 1943-1965 гг.: дисс… д-ра ист. наук. М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 2011. 535 с.
- Шкаровский М. В. Русская православная церковь при Сталине и Хрущеве (Государственно-церковные отношения в СССР в 1939-1964 годах). М.: Крутицкое патриаршее подворье, О-во любителей церков. истории, 1999. 400 с.
- Bodevig N. Die russishe patriarchatskirhe beitrage zur auberen bedruckung und inntren lage, 1958-1979. München, 1988. 287 p.
- Constantinov D. The crown of thorns. Russian Orthodox Church in the USSR. 1917-1967. London: Zaria, 1978. 334 p.
- Davis N. Long walk to the church. A contemporary history of Russian Orthodoxy. Oxford: Westview Press, 1995. 381 p.
- Diermeier D., Krehbiel K. Institutionalism as a methodology//Journal of Theoretical Politics. 2003. Vol. 15, № 2. P. 123-144.
- Ellis J. The Russian Orthodox Church: a contemporary history. London, Sidney: Croom Helm, 1986. 308 p.
- Kolarz W. Religion in the Soviet Union. London: Macmillan, 1961. 518 p.
- Pospielovsky D. The ‘best years’ of Stalin's church policy (1942-1948) in the light of archival documents//Religion, State and Society. 1997. Vol. 25, № 2. P. 139-162 DOI: 10.1080/09637499708431773
- Pospielovsky D. The Russian church under the soviet regime 1917-1982. N. Y.: St Vladimirs Seminary Press, 1984. 535 p.