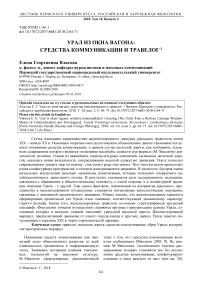Урал из окна вагона: средства коммуникации и травелог
Автор: Власова Елена Георгиевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 2 т.10, 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена характеристике железнодорожного дискурса уральских травелогов конца XIX - начала XX в. Основным теоретико-методологическим обоснованием данного феномена послужило понимание средства коммуникации, в данном случае железной дороги, как сообщения, основным содержанием которого является «изменение масштаба, скорости или формы» (М. Маклюэн) деятельности человека. Одним из важнейших социокультурных изменений, вызванных железной дорогой, оказалась новая визуальность, опосредованная высокой скоростью движения. Поезд позволил современникам увидеть мир по-новому, став своего рода «взглядом». Под этим взглядом происходит новая конфигурация пространства, в котором разворачивается движение. В частности, быстрая смена визуальных впечатлений запускает механизмы семиотизации, которые позволяют упорядочить ка-лейдоскопичность зрительного потока. В результате усиливается роль ассоциативного мышления, связанного с обращением к общепоэтическому контексту, с одной стороны, и к литературной традиции описания Урала - с другой. Еще одним фактором, повлиявшим на восприятие уральского пространства в железнодорожном путешествии, становятся интенсивные кинэстетические ощущения, связанные с динамикой механического движения. Можно сказать, что железнодорожные травелоги сформировали органичный для Урала стиль описания, соответствующий динамичному характеру горного рельефа. Кроме того, железнодорожные травелоги по-новому структурировали уральский ландшафт. Фокусными точками путешествия становятся крупные горнозаводские центры Урала, соединение которых и являлось главной «миссией» уральской железной дороги. Железнодорожный маршрут, предполагавший движение от одного города-завода к другому, вернул Уралу заметно потускневшие к середине XIX в. черты горнозаводской державы.
Травелог, железная дорога, средство коммуникации, образ урала, восприятие пространства, маршрут
Короткий адрес: https://sciup.org/147226906
IDR: 147226906 | УДК: 070:821.161.1 | DOI: 10.17072/2037-6681-2018-2-64-71
Текст научной статьи Урал из окна вагона: средства коммуникации и травелог
Так, колесо послужило человеку «отделительным падежом», благодаря которому он смог расширить возможности своего физического перемещения и поменять «синтаксис общественного устройства»: колесо привело к развитию городов и централизованных государств.
Сообщением любого средства коммуникации, по М. Маклюэну, является «изменение масштаба, скорости или формы, которое привносится им в человеческие дела» [Маклюэн 2003: 10]. Железная дорога в этом отношении привела к резкому изменению скорости и масштабов деятельности человека: «Железная дорога ... ускорила прежние человеческие функции, укрупнила их масштабы, создав совершенно новые типы городов и новые виды труда и досуга» [там же].
Значение железной дороги как важнейшего явления культуры становится предметом интенсивной рефлексии с момента ее появления. Железная дорога меняла ощущение пространства, которое поглощалось скоростью. Г. Гейне, присутствовавший в 1843 г. на открытии железной дороги Орлеан – Руан, писал: «Какие изменения должны теперь наступить в наших представлениях, в наших воззрениях! Поколебались даже элементарнейшие представления о времени и пространстве. Железная дорога убила пространство, осталось лишь одно время... Мне кажется, будто горы и леса приближаются к Парижу. Я слышу запах немецких лип, и у моей двери бушует Северное море» [Гейне 1958: 218–219].
Образ «приближающихся к Парижу гор и лесов» фиксирует принципиально важную для определения пространственного модуса человека опцию – особенность видения. Во время движения на поезде зрение человека сталкивается с ускоренной сменой наблюдаемого, что приводит к перцептивному шоку. В. Гюго в попытке описать увиденное из окна поезда обращается к образу сумасшедшего танца: «Цветы по обочинам дороги скорее не цветы, а пятна, или даже полосы, красные и белые; больше нет точек, все становится полосой; зерновые поля как огромные копны золотистых волос; поля люцерны – длинные зеленые косы; города, колокольни и деревья исполняют сумасшедший, беспорядочный танец» [цит. по: Schivelbusch 1986: 55–56]. Постепенно человек привыкает к новому визуальному потоку, однако новое зрение меняет парадигму восприятия.
Актуальное искусство особенно колоритно отражает эту трансформацию – так появляется динамический пейзаж футуристов. Поезд становится важнейшим объектом футуристических экспериментов. Достаточно вспомнить картины К. Малевича «Станция без остановки. Кунцево» и И. Клюна «Пробегающий пейзаж». И. Клюн называл свои картины «кинетическим кубиз- мом», определяя его как «расчленение предмета и развертывание его на плоскости» при сохранении «множественности точек зрения» [Малевич 2004: 76].
Анализируя изменения визуального восприятия пространства в связи с изобретением поезда, автор фундаментального культурологического исследования о железной дороге В. Шивельбуш говорит о том, что пейзаж за окном вагона превращается в панораму [Schivelbusch 1986]. Пано-рамность видения предполагает активность восприятия: для того чтобы собрать растянутое и разрозненное пространство, необходимо творческое усилие наблюдающего.
Поезд заставил современников увидеть мир по-новому, он сам стал «взглядом». Это качество поезда, по мнению Г. Амелина, выразительно запечатлелось в ранней прозе Б. Пастернака. Исследователь обращается к известному фрагменту, в котором героиня повести «Детство Люверс», припав к вагонному окну, с интересом разглядывает открывшуюся перед ней панораму Уральских гор:
«Горная панорама раздалась и все растет и ширится. Одни стали черны, другие освежены, те помрачены, эти помрачают. Они сходятся и расходятся, спускаются и совершают восхожденья. Все это производится по какому-то медлительному кругу, как вращенье звезд, с бережной сдержанностью гигантов, на волосок от катастрофы, с заботою о целости земли. Этими сложными передвижениями заправляет ровный, великий гул, недоступный человеческому уху и всевидящий. Он окидывает их орлиным оком, немой и темный, он делает им смотр. Так строится, строится и перестраивается Урал» [Пастернак 1991: 47].
В этом фрагменте нашли отражение такие черты новой визуальности, как круговое движение взгляда и особые, обоюдонаправленные, отношения между путешественником и ландшафтом. Комментируя фрагмент, Г. Амелин подчеркивает интенсивность переживания пространства, которое освобождается от привычного, подчиненного человеку, положения: «Это не просто взгляд, а само рождение взгляда....Девочка смотрит так, как будто никто никогда Урала еще не видел.... Ландшафт – открытие Люверс. Лишняя пара глаз этому ландшафту не нужна, он сам – всевидящ и, как говорит автор, – делает смотр » [Амелин 2009:74]. Таким образом, исчезновение пространства оборачивается его открытием. Движение поезда открывает внутреннюю динамику горного массива и его сущность в имени, которое в многократных повторах-раскатах сонорного р и акустическом образе пробужденного «великого гула» как бы «вырастает само собой из ландшафта» [Абашев 2008: 144].
Общее изменение визуального впечатления не могло не сказаться на рецепции конкретных ландшафтов и, как следствие, на традиции их литературного описания. Новое средство коммуникации преображало не только ландшафт, но и локальный текст. В этом отношении траве-логи, которые мы вслед за Е. Г. Милюгиной, М. В. Строгановым [Милюгина, Строганов 2013] и Е. Р. Пономаревым [Пономарев 2014] будем понимать как тексты, появившиеся по итогам реальных путешествий (т. е. тексты, написанные по следам конкретной поездки), представляют собой наиболее органичный для изучения дорожных дискурсов материал. Кроме того, на протяжении достаточно длительного времени, в том числе в XIX в., травелоги оставались основным жанром литературного описания Урала. В целом уральский травелог XVIII – начала XX в. может служить репрезентативным примером того, как последовательная смена транспортных коммуникаций находит отражение в изменениях литературного образа пространства.
Западная наука уже давно начала разработку экстралитературных подходов к изучению траве-лога. Среди них имеются исследования, посвященные транспортным особенностям путешествия. В частности, С. Смит в книге «Жизнь в движении» называет средство передвижения окуляром, поставленным между сознанием путешественника и посещаемыми странами [Smith 2001: 23].
В современной отечественной науке подобная проблематика пока только заявляется в перечне возможных подходов к анализу травелога, как это произошло в монографии Е. Г. Милюгиной и М. В. Строганова «Русская культура в зеркале путешествий». В любом случае ни в западной, ни в отечественной науке проблема влияния способа передвижения на образ создаваемого в траве-логе пространства предметом специального рассмотрения не стала.
На наш взгляд, каждый из способов путешествия формирует особую традицию описания пространства, которую следом за Е. А. Ковалевой мы определяем, опираясь на понятие дискурса. Железнодорожный дискурс, послуживший предметом рассмотрения Е. А. Ковалевой, характеризуется как «совокупность интерпретационно-тематически и культурологически связанных текстов, представляющих в своем “лексиконе” один из “возможных миров” (Ю. С. Степанов), центральным концептом которого выступает “железная дорога”» [Ковалева 2009: 3]. В соответствии с общим развитием транспортных коммуникаций в уральском травелоге XVIII – начала XX в. сложилось несколько крупных дорожных дискурсов: гужевой, пароходный, железнодо- рожный [Власова 2010: 116]. Каждый из них представил специфический образ уральского ландшафта, в котором по-разному расставлялись географические, социально-экономические и историко-культурные доминанты.
Уральская горнозаводская железная дорога (УГЖД) была открыта в 1878 г. Это была островная железнодорожная система, главной целью которой послужило транспортное обеспечение горнозаводской экономики Урала, пребывающей в состоянии затяжного кризиса, в том числе из-за отсутствия удобного сообщения. Кроме того, новая дорога должна была решить проблему возрастающих грузового и пассажирского потоков между центральной Россией и Сибирью.
Среди авторов железнодорожных травелогов были ученые (Э. П. Янышевский «Уральская горнозаводская железная дорога и Верхотурский край: путевые впечатления». Пермь, 1887), писатели (Д. Н. Мамин-Сибиряк «От Урала до Москвы». Русские ведомости. 1881–1882; Н. Д. Телешов «За Урал». М., 1897), журналисты (С. А. Кельцев «Из поездки на Урал». М., 1888; Н.Н. Рейхельт «По северу и югу». Исторический вестник. 1909), краеведы (А. А. Колычев «От Томска до Яренска». Дорожник по Сибири и Азиатской России. 1901) и др. Все эти травелоги были написаны в жанре популярного в периодике того времени путевого очерка, представлявшего собой соединение научного (экономического, географического, этнографического) и очеркового повествований. Благодаря своим документальным установкам травелоги подробно фиксировали последовательность маршрута, выстраивая пространство в соответствии с реальным развитием поездки. С другой стороны, очерковый характер описания не исключал эмоционально-образной оценки увиденного, что позволяет рассматривать эти тексты в общем литературном контексте. Ввиду своей двойственной природы травелог представляется репрезентативным материалом для обнаружения внутренних связей между экстралитературными обстоятельствами путешествия и образом пространства.
Способ перемещения связан со специфическим комплексом телесных ощущений: тактильных, зрительных, слуховых, кинестетических и т. д. Соотношение чувств выстраивается в каждом виде путешествия по-разному, заставляя путешественника особым образом воспринимать окружающее. Поездка в повозке, например, позволяет сохранить основные ощущения человека, непосредственно включенного в пространство: объемное видение, слуховые и тактильные ощущения, связанные с переменой погоды, дорожного покрытия, звукового фона. Невысокая скорость перемещения существенно не влияет на доминирующие в этом виде путешествия зрительные и тактильные ощущения. Если говорить о другом важнейшем для Урала виде путешествия – поездке на пароходе, нужно отметить плавность движения, при котором тактильные ощущения редуцируются, а роль наблюдения, наоборот, усиливается. Характер этого наблюдения определяется достаточно распространенным сравнением пароходных видов с картиной в раме или сеансом синематографа.
В отличие от гужевого и пароходного способов восприятия, переживание пространства у путешествующих по железной дороге опосредовано ощущением скорости. Интенсивность кинестетических впечатлений, связанных с повышенной скоростью перемещения, усиливается благодаря горному характеру уральского рельефа: постоянные повороты подчеркивают динамичность движения: «Но вот поезд от горного отрога круто завернул по покатости к мосту, “на закрытых парах” не более чем в полминуты пролетел сквозь решетчатые предохранительные стены казавшегося далеко моста, и повернув еще круче вправо, остановился у самой большой на Уральской дороге станции Чусовой…» [Кельцев 1888: 44]; «Находясь в вагоне, чувствуешь, как вагон сильно наклоняется то на один, то на другой бок, а, выглянув в окно, видишь, что поезд постоянно изогнут в крутую дугу…» [там же: 48].
В железнодорожном путешествии зрение подчинено скорости, ощущению быстрого и неровного движения. Пейзаж за окном дробится, панорама превращается в круговорот мелькающих «знаков»: «Смотришь в окно и видишь, как мелькают телеграфные столбы, знаки, лес, избушки, сторожа с флажками; картины меняются поминутно, и – то поезд мчится с подошвы гордо поднимающейся горы, то пересекает гору и входит словно в коридор, и в вагоне становится сумрачно и потом снова светло … а внизу, как пропасть, зияет болотное, заросшее травой и мохом, озерцо» [Колычев кн. 3: 7].
Ракурс постоянно меняется: то это взгляд вниз – в пропасть, то вверх – к вершине подступившей горы, то – вдаль, к открывшемуся горизонту. Свет сменяет темнота тоннеля, а огни приближающейся станции оказываются то с одной стороны поезда, то с другой.
Пожалуй, одним из самых точных определений этого типа зрительного впечатления может стать его сопоставление с калейдоскопом. Разрозненные фрагменты, вращаясь, собираются в картинку, конфигурация которой зависит от творческой воли наблюдателя. Как показал М. Ямпольский, собирание визуального потока во время железнодорожной поездки опирается на «связывание видимого с образами памяти»:
«Зрение блуждает в пространстве, покуда не испытывает “неистового эффекта знака”, покуда не сталкивается со “знакомым незнакомым”» [Ямпольский 2000: 92]. Получается, что характер движения располагает к подключению ассоциативной памяти, в результате которого происходит семиотизация пространства. Не случайно железная дорога сформировала богатейшую литературную традицию, у истоков которой стоят Н. Некрасов, Л. Толстой, А. Белый, А. Блок, Б. Пастернак, С. Есенин, И. Бунин.
Не претендуя на оригинальность ассоциаций, травелог, тем не менее, наглядно демонстрирует процесс семиотизации впечатлений. Чаще всего путешественники пользуются при этом устойчивыми образами популярного литературного контекста, нередко повторяя друг друга. В железнодорожных травелогах устойчивым становится сравнение уральского пейзажа с гигантским каменным городом. Поезд проходит через каменные ворота и движется вдоль гигантских стен, образующих тесные коридоры:
«То видишь почти под собою страшные овраги, за которыми далеко-далеко вырастают гигантские холмы, покрытые лесом, то внезапно встречаешь у самой дороги дикие стены разрубленной надвое скалы, в которую поезд проскальзывает, как в ворота, и мчится среди зловещих изуродованных камней, сажени в три или четыре ростом» [Телешов 1897: 308]; «Отойдя от станции Чусовой версты две, поезд круто повертывает влево от скалистых уже здесь берегов Чусовой и входит в глубокий горный овраг; справа и слева от рельс возвышаются холмистые горные стены, и поезд идет как бы в коридоре» [Кельцев 1888: 48]; «Первый на восточном склоне прорыв скалы, через который проходит железная дорога, находится тотчас за станцией Азиатскою и тянется более чем на четверть версты: обломанные стены из глинистого сланца и других каменистых пород возвышаются по бокам вагонов на 89 аршин» [там же: 54].
Безусловно, эти сравнения инспирированы общепоэтической традицией описания гор как крепостных стен каменного города. Однако, попадая в сферу локального текста, эти общепоэтические метафоры по-своему конкретизируются. Заметно, что в представленных описаниях доминирует ощущение глубины, которое рождается благодаря повторяющимся образам коридора, тоннеля, высоких стен. При этом устремленность увиденного из окна вагона пространства вглубь усиливается рассказами о горных богатствах Урала: «Близ станции Кушва, верстах в двух, находится магнитная гора Благодать, знаменитая по богатству своей руды…» [Телешов 1897: 25]; «Вот он, первобытный уральский пейзаж, с не- проездными целинами, с неисследованными рудными богатствами, залегающими, может быть, тут же, в нескольких шагах от полотна железной дороги» [Рейхельт 1909: 742].
Cемиотизация визуальных наблюдений железнодорожного путешествия по Уралу оказывается тесно связанной с горнозаводским укладом местной культуры. Общепоэтические ассоциации, восходящие к топосу каменного города, соединяются с горнозаводской семантикой уральского пространства, создавая образ не просто рукотворного, но техногенного ландшафта.
Не менее важным экстралитературным фактором, влияющим на формирование образа пространства в травелоге, является маршрут поездки. По точному наблюдению М. В. Строганова и Е. Г. Милюгиной, травелог как специфический тип литературного текста обладает способностью связывать пространство: «Текст путешествия можно представить в качестве цепочки локальных текстов, но гораздо важнее, что путешествие фиксирует системно-синтаксические связи между этими локальными текстами» [Милюгина, Строганов 2013: 13]. Главной осью, собирающей пространство путешествия, совершенно закономерно становится маршрут поездки. Маршрут, выстроенный в соответствии с целью путешествия, представляет собой направленное движение, основными пространственными составляющими которого являются точки остановок и пути между ними. Образ пространства, созданного в травелоге, самым непосредственным образом зависит от направления движения и фокусных точек маршрута.
В соответствии со стратегическими задачами развития Уральского региона УГЖД была построена как магистраль, связующая крупнейшие горнозаводские центры Среднего Урала. Закономерно, что для путешествующих по ней пассажиров определяющими структурными элементами уральского пространства становятся заводы. Доминирующее положение завода в уральском ландшафте выразительно представлено именно в железнодорожном травелоге: «Но вот лес начинает редеть, все больше и больше вырубленных пространств, и наконец открывается огромная ровная площадь, на которой не осталось ни одного дерева, а только торчат из земли голые пни и вдали виднеется громадный Надеждинский завод и широко раскинувшийся поселок. Большинство домиков чистенькие, похожие друг на друга, как родные братья. Громадные трубы с клубами черного дыма, высокие домны, выбрасывающие снопы пламени – все это господствует над окружающей местностью» [Г-н С. 1906: 3].
Таким образом, железнодорожное пространство строится на взаимодействии уральских гор- ных обрывов, которые доминируют в восприятии местной природы, и городов-заводов, составляющих основу антропогенного ландшафта.
В травеложных описаниях уральской железной дороги совсем нет рефлексии по поводу разрушительного воздействия технического прогресса, как нет и повышенного чувства опасности, несмотря на то, что путешественники зачастую ехали ночью. Преобладает восхищение силой человека, покорившего суровое пространство: «…Повсюду леса, леса и камни, и нигде незаметно признаков руки человеческой, кроме железнодорожного полотна, и с восторгом глядишь на эту девственную картину природы и с изумлением любуешься человеческими трудами, этими пробитыми скалами, образующими целые коридоры» [Телешов 1897: 23]. А. П. Чехов, ругавший уральские города за их серость, скуку и грязь, местную железную дорогу хвалит: «…Уральская дорога везёт хорошо. Ба-ромлей и Мерчиков2 нет, хотя и приходится переваливать через Уральские горы. Это объясняется изобилием здесь деловых людей, заводов, приисков и проч., для которых время дорого» [Чехов 1975: 70].
Очевидно, что путевые описания железной дороги совпали с уже существующей в образе Урала горнозаводской семантикой. Железнодорожные травелоги зафиксировали процесс собирания горнозаводского пространства Урала, которое оказалось основным в отраженном ландшафте. Железная дорога становится своего рода силовой линией Уральского региона, соединившей его ключевые точки, как некогда связывал их сплав железных караванов.
В железнодорожном пространстве Урала определяются свои семиотические центры. С открытием УГЖД екатеринбургский Урал существенно «потеснил» Пермь в объеме и масштабе путевых записей. Намечается противостояние речной Перми и делового, железного Екатеринбурга. В отличие от Перми, где железнодорожное путешествие только начиналось (ветка была островной и развивалась прежде всего в восточном направлении), Екатеринбург быстро становится железнодорожным узлом: вскоре после открытия ветки Пермь – Екатеринбург начинается строительство дороги до Тюмени, а потом к Екатеринбургу выводят ответвление от Самаро-Златоустовской железной дороги. В этой ситуации Пермь превращается в транзитный пункт, соединивший крайнюю точку речного и железнодорожного путешествий. Зимой по причине окончания навигации транзитное значение города на Каме заметно тускнеет, город – особенно для путешествующих на запад – становится конечным пунктом, где цивилизованные пути прерываются.
Так, геокультурная безысходность Перми была с нажимом проговорена в железнодорожном путешествии Мамина-Сибиряка. В известном вагонном споре о том, «что Перме не бывать супротив Екатеринбурга», один из основных аргументов отсылал к соперничеству реки и железной дороги: «Што, ежели будем говорить на счет реки, так опять зиму то она мертвая, а чугунка все пыхтит и пыхтит» [Мамин-Сибиряк 1998: 285]. Это кажется парадоксальным, но открытие уральской железной дороги усугубило негативные коннотации образа Перми, восходящие к резкой характеристике П. И. Мельникова-Печерского, который писал о «мертвенной пустоте» [Мельников-Печерский 1842: 2] города на Каме. С другой стороны, относительная пространственная изоляция Перми стала дополнительным стимулом компенсирующего ее городского сто-рителлинга [Абашев 2010: 14].
В целом, благодаря ощущению высокой скорости движения железнодорожные путешествия нашли органичный для горного Урала стиль описания, передающий особую кривизну ландшафта. Никогда раньше, ни в гужевом, ни в пароходном путешествии, образ уральского пространства не был таким извилистым. Кроме того, железнодорожные травелоги по-новому структурировали уральский ландшафт. Взгляд из окна вагона, движущегося в теснине Уральских гор, акцентировал внимание на глубине пространства, а конфигурация маршрута, проложенного от одного города-завода к другому, вернула Уралу заметно потускневшие к середине XIX в. черты горнозаводской державы.
Органичность железной дороги уральскому пространству выразительно запечатлел Б. Пастернак. Не случайно среди важнейших железнодорожных текстов русской литературы называют уральские произведения поэта – повесть «Детство Люверс», стихотворение «Урал впервые» и юрятинскую часть романа «Доктор Живаго». По словам А. Флакера, в железнодорожных произведениях Б. Пастернака происходит «освоение нового пространства видением девочки и рассказчика через окно вагона» [Флакер 2001: 221]. Железнодорожный травелог, оставаясь в рамках свой сферы бытования, проделал эту дискурсивную работу намного раньше. В пространстве локального текста уральский травелог стал своего рода литературным разведчиком железнодорожного пространства Урала.
Примечания
-
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РГНФ в рамках проекта №1514-59004 а(р) «Маршрутами российских первопроходцев: образно-географическая карта Урала
в путевых отчетах ученых и писателей XVIII – начала XX вв.»
-
2 Боромля и Мерчик – небольшие станции Харьковско-Николаевской ж. д.
Associate Professor in the Department of Journalism and Mass Communications
Perm State University
ResearcherID: Q-2048-2016
Submitted 09.01.2018
Список литературы Урал из окна вагона: средства коммуникации и травелог
- Абашев В. Урал как предчувствие. Заметки о геопоэтике Бориса Пастернака // Вопросы литературы. 2008. № 4. С. 125-144
- Абашев В. В. Неосязаемое тело города. Опыт работы со смыслом //Антропологический форум. 2012. № 7. С. 10-16
- Амелин Г., Мордерер В. Письма о русской поэзии. М.: Знак, 2009. 424 с
- Власова Е. Г. «Дорожные дискурсы» уральского травелога XVIII - начала ХХ в. // Вестник Пермского университета. Русская и зарубежная филология. 2010. № 6. С. 115-122
- Гейне Г. Лютеция: Статьи о политике, искусстве и народной жизни / пер. А. В. Федорова; под ред. А. И. Дейча // Гейне Г. Собр. соч.: в 10 т. М.: ГИХЛ. Т. 8. 1958. 394 с
- Ковалева Е. А. Элементы «железнодорожного дискурса» в поэзии серебряного века: лексический аспект: автореф. дис.... канд. филол. наук. M., 2009. 21 с
- Маклюэн Г. М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. М.; Жуковский: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2003. 464 с
- Малевич о себе. Современники о Малевиче: письма. документы. воспоминания. критика: в 2 т. Т. 2 / авт.-сост.: И. А. Вакар, Т. Н. Михиенко. М.: RA, 2004. 679 с
- Милюгина Е. Г., Строганов М.В. Русская культура в зеркале путешествий. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2013. 176 с.
- Пономарев Е. Р. Типология советского путешествия: «Путешествие на Запад» в русской литературе 1920-1930-х годов: дис.... д-ра филол. наук. СПб., 2014. 577 с
- Флакер А. Освоение пространства поездом (заметки о железнодорожной прозе Б. Пастернака) // Slavica Tergestina. 2001. № 8. С. 219-225
- Черепанова Н. В. Путешествие как феномен культуры: автореф.... канд. филос. наук. Томск, 2006. 20 с
- Ямпольский М. Наблюдатель. Очерки истории видения. М.: Ad Marginem, 2000. 288 с
- Schivelbusch W. The Railway Journey: The Industrialization of Time and Space in the 19-th century. Berkeley, 1986. 203 p
- Smith S. Moving Lives. Twentieth-Century Women's Travel Writing. Minneapolis; L.: University of Minnesota Press, 2001. 240 p