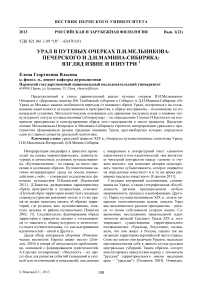Урал в путевых очерках П.И. Мельникова-Печерского и Д.Н. Мамина-Сибиряка: взгляд извне и изнутри
Автор: Власова Елена Георгиевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 1 (21), 2013 года.
Бесплатный доступ
Представленный в статье сравнительный анализ путевых очерков П.И.Мельникова-Печерского «Дорожные заметки (Из Тамбовской губернии в Сибирь)» и Д.Н.Мамина-Сибиряка «От Урала до Москвы» выявил особенности перехода от внешнего образа Урала, построенного на столкновении идентичности путешественника и пространства, к образу внутреннему – позитивному по изначальной установке. Методологическим основанием для сравнения послужила идея о влиянии геокультурного статуса путешественника («бэкграунда» – по определению Сьюзен П.Кастилло) на восприятие пространства и конструирование образа этого пространства в тексте травелога. Представленные Мельниковым-Печерским и Маминым-Сибиряком стратегии интерпретации уральского пространства сформировали разные традиции описания Урала, противоборство которых определило один из главных сюжетов уральской геопоэтики.
Уральский травелог xix в, бэкграунд путешественника, геопоэтика урала, п.и.мельников-печерский, д.н.мамин-сибиряк
Короткий адрес: https://sciup.org/14729182
IDR: 14729182 | УДК: 821.061.1.09
Текст научной статьи Урал в путевых очерках П.И. Мельникова-Печерского и Д.Н. Мамина-Сибиряка: взгляд извне и изнутри
Интерпретация ландшафта в травелоге происходит на основе мировоззренческих, социокультурных и личностных установок путешественника. «Путешественник – не сканер, не место проекции и коллекции образов. Путешественник активно интерпретирует среду на основе взаимодействия с ней», – утверждает исследователь феномена путешествия В.Каганский [Каганский 2011]. Д.Замятин, разворачивая характеристику образа пространства в путешествии, отмечает: «Путевой образ территории может быть насыщен социокультурными реалиями эпохи; в то же время он может включать память об образах территорий, где родился, жил путешественник, зачастую далеких от района путешествия» [Замятин 2002: 15]. Следовательно, формирование образа территории в травелогах связано с отталкиванием от знакомого, общекультурного и личностного опыта путешественника, т.е. как выстраивание идентичностей – своей и Другого.
Делая обзор материалов сборника «Романтические местности: Европа пишет место» (Лондон, 2010) и говоря об актуальности проблематики, связанной с формированием идентичностей, А.Сорочан подчеркивает: «Местность – не просто фон для развития событий (домашний и уютный или экзотический и неведомый), она связана с внедрением в литературный текст элементов идентичности или идентичностей; она впечатляет читателей контрастом между «домом» и «чужим местом»; она позволяет авторам моделировать чувство субъективности, которое опирается на определение известного и в то же время расширяет пределы известного» [Сорочан 2011].
Ситуация внутренней колонизации, сложившаяся на Урале, а также географическая обособленность региона предопределили особую напряженность процесса идентификации Другого. Перед путешественниками XIX в. стояла непростая геополитическая задача: описать Урал как малоизвестное русское пространство – регион со своим собственным укладом жизни. Современные исследования национальной идентичности жителей Среднего Урала XIX в. подтверждают существование территориального изоляционизма: «Уральцы, безусловно, осознавали, что они живут в России, однако так же называли территорию европейской части страны. Свою же землю они величали Уралом, несколько противопоставляя себя в данном случае русским центральных губерний. Таким образом, следует констатировать присутствие наряду с этнонимом "русские" территориального имени населения края – "уральцы"» [Теленков 2003]. Очевидно, что приезжающие на Урал путешественники также осознавали специфичность местной жизни. Конечно, в первую очередь эта специфика была связана с деятельностью горных заводов. В итоге, несмотря на колониальный характер освоения региона, главным объектом наблюдения в уральском травелоге XIX в. стали не «туземцы», а русское население Урала.
Процесс формирования образа «русского» Урала в литературе путешествий XIX в. зафиксировал контрастный переход от внешнего восприятия к внутреннему пониманию уральской специфики. Пространственный статус путешественника определял характер оценки, содержание идентификации, а следовательно, образа пространства. Благодаря высокой степени интертекстуальности травелога эти идентичности пересекались, наслаивались и взаимоотталкива-лись. Cвоего рода авантекстом уральского тра-велога XIX в. послужили «Дорожные заметки (Из Тамбовской губернии в Сибирь)» П.И.Мельникова-Печерского («Отечественные записки», 1839–1842): здесь были заданы основные темы уральского пространства, так или иначе повторившиеся в путевых «отчетах» других авторов. Путевые очерки Д.Н.Мамина-Сибиряка «От Урала до Москвы» («Русские ведомости», 1881–1882) открыли новый этап уральского тра-велога – этап самоидентификации и самопрезен-тации – и стали, в свою очередь, статусным текстом для последующих путешественников. Сопоставительный анализ путевых очерков Мельникова-Печерского и Мамина-Сибиряка, представляющих противоположные векторы идентификации, позволяет выявить особенности перехода от внешнего образа пространства, построенного на столкновении идентичности путешественника и пространства, к образу внутреннему – позитивному по изначальной установке.
При анализе образа уральского пространства с точки зрения внеположенности или включенности идентичности путешественника продуктивным будет обращение к методологии, предложенной в книге Сьюзен П. Кастилло «Колониальные взаимодействия в текстах о Новом Свете. 1500–1786» [Castillo Susan P. 2006]. Автор этого исследования называет четыре ключевых аспекта путевого текста: бэкграунд исторический и философский, образ Другого и синтез. Для нашего исследования особое значение приобретает бэкграунд, связанный с геокультурной идентичностью путешественника, т.е. с характером исходного пространства путешествия. В качестве примера определяющего влияния бэкграунда на восприятие ландшафта сошлемся на описанную В.В.Абашевым предысторию форми- рования образа Урала в творчестве Бориса Пастернака [Абашев 2008].
Описание бэкграунда позволяет выявить точку отсчета – исходную идентичность путешественника, которая вступает во взаимодействие с ландшафтом. На фоне геокультурного бэкграунда, или того, что находится позади, чаще всего это воспоминания о Доме, определяется характер Другого. В этой связи «Дорожные заметки» Мельникова-Печерского представляют собой наглядный пример восприятия пространства путешествия в сопоставлении с привычным опытом – а именно с волжским укладом жизни, который идентифицируется писателем с общерусским. Горный пейзаж Урала описывается Мельниковым-Печерским сопоставительно с более привычным равнинным пейзажем, горнозаводской уклад жизни – с крестьянским, уровень экономики и культуры – по меркам приволжской деловой активности.
Так, самый яркий эмоциональный отклик писателя при восприятии уральского пейзажа связан с долиной реки Обвы, напоминающей путешественнику родные места: «Низменными, зеленым ковром зелени покрытыми берегами Обвы ехали мы в это прелестное июльское утро. Как живописны берега этой Обвы! Какие пленительные ландшафты представлялись со всех сторон глазам нашим! Смотря на них, любуясь ими, я не видал более пред собой суровой Пермии; мне казалось, что я там, далеко – на юге. <…> Леса нет, горизонт широко раскинулся. Обва тихо, неприметно катит струи свои. Это не уральская река: она не шумит тулунами, не мутится серым песком, не перекатывает на дне своем цветных галек; тихо, безмятежно извивается она по зеленым полям и медленно несет свои светлые струи в широкую, быструю, угрюмую Каму» [Мельников-Печерский 1909: 564].
Приподнятое настроение Мельникова-Печерского во время путешествия вдоль Обвы поддерживается также увиденным и таким привычным укладом жизни:
«По берегам Обвы жители занимаются и хлебопашеством довольно успешно, и потому здесь редко покупается сарапульский хлеб, которым снабжается северная часть Пермской губернии» …» [там же: 566]. При этом писатель подчеркивает отличие местной жизни от специфически уральской: «Горных работ здесь нет, и потому-то здешние страны имеют свою особенную физиономию; здесь народ богаче, здоровее, воздух чище, самая природа смотрит как-то веселее. Так и должно быть…»[там же].
Таким образом, «домашний» опыт писателя определяет избирательность взгляда. Мельников-Печерский внимательно описывает жизнь уральских крестьян и весьма сдержанно, сухим языком экономического обзора, состояние уральских заводов, подчеркивая при этом их тяжелое положение, упадок производства или не-конкурентоспособность продукции. Так, рассказывая об одном из самых благополучных в Прикамье заводов – Пожевском, Мельников-Печерский успевает заметить: «Кроме разных поделок и машин, здесь делаются прекрасные ножи, ножницы, которые, однако, далеко уступают завьяловским…» [Мельников-Печерский 1909: 557].
Образ главной уральской реки также дается в неблагоприятном сравнении: «Кроме этих лодочек, ничего нет на Каме: река совершенно пуста; это не то, что на Волге, где круглое лето одно судно перегоняет другое и дощаники беспрестанно ходят то вверх, то вниз. Судоходство по Каме бывает по временам. <…. >В другое время вы не увидите жизни на Каме, она вам представляется совершенно пустынною рекою» [там же: 534].
Негативное восприятие Урала усиливается консерватизмом общественных и религиозных установок путешественника. В частности, его рассказ об уральских кержаках выполнен в риторике резкой религиозной нетерпимости:
«Но когда некоторые закоренелые изуверы не только что не слушали увещаний Питирима, но еще старались увеличить как можно более число своих единомышленников, тогда Петр Великий принужден был сослать некоторых керженских раскольников в Сибирь и Пермскую губернию. Но в числе этих сосланных был лжеучитель их Власов. Он и клевреты его рассеяли гибельные семена раскола по Сибири и по Пермской губернии. Петр Великий в бытность свою в Астрахани отменил приказание это, узнав о следствиях, и повелел раскольников керженских впредь ссылать в Рогервик. Но зло, занесенное в Сибирь, развилось и только в нынешнее время почти кончилось» [там же: 566–567].
В результате образ Другого у Мельникова-Печерского – это не столько местные инородцы, пермяки и вогулы, описание которых не лишено романтического ореола («дикий сын дикой пустыни»), сколько русское население, связанное с жизнью горных заводов. Симпатию вызывают только местные крестьяне и старинные предания, обращенные к героическому прошлому: «Надобно тому пожить в Сибири или в Пермской губернии, кто хочет узнать русский дух в неподдельной простоте. Здесь все – и образ жизни, и предания, и обряды – носит на себе отпечаток глубокой старины» [там же: 533].
Так формируется образ дикой пустыни, медвежьего угла, где промышленность, быт и нравы законсервированы и остаются на раннем этапе русской колонизации. Не понимая и не принимая современной жизни Прикамья, Мельников-Печерский с увлечением пишет о пермских древностях, кодифицируя в образе уральского пространства диссонанс между богатой историей и безрадостным, вымороченным настоящим. Главное достояние Урала – его древность и верность старинному укладу жизни. Сочетание архаичности, пермяцкой экзотики, сохранившейся в местной топонимике, древности истории рождает образ русского Китая: «Пермь настоящий русский Китай… И какое китайство в ней – удивительно! Скоро ли она выйдет из своего безжизненного оцепенения? Давай, Господи, поскорее. Что ни говорите, а ведь Пермь на матушке Святой Руси; ведь не последняя же она спица в колеснице» [там же: 573].
В последующих путевых описаниях Урала сохраняются заданные Мельниковым-Печерским темы, а также основные особенности их интерпретации. Большинство путешественников изобразили Урал глубокой провинцией, акцентируя главным образом угасание горнозаводской экономики.
Принципиально ситуация меняется только в начале 80-х гг., когда выходят путевые очерки Д.Н.Мамина-Сибиряка («От Урала до Москвы» и др.) и В.И.Немировича-Данченко (очерк «Река лесных пустынь» в «Историческом вестнике» (1882. №11–12)). Эти травелоги, появившиеся практически одновременно, построены на утверждении образа самодостаточного и самобытного российского региона. Причем реинтерпретация Урала в очерках Мамина-Сибиряка имела более наступательный характер, что предопределялось уральским бэкграундом писателя.
Начало путевых очерков Мамина-Сибиряка «От Урала до Москвы», как представляется, целенаправленно задает противоположный принятому, утвердившемуся в путевой литературе XIX в., ракурс описания Урала: «Мне случилось в последний раз безвыездно прожить в Екатеринбурге около четырех лет, в течение которых я настолько привык к этому городу и сроднился с ним, что минута расставания была более чем тяжела» [Мамин-Сибиряк 1955: 249]. Писатель намеренно подчеркивает свою уральскую «прописку» и особую связь с Екатеринбургом. Словно отвечая на вопрос Мельникова-Печерского из финала «Дорожных заметок»: «Скоро ли Пермь выйдет из своего безжизненного оцепенения?», Мамин-Сибиряк переносит внимание читателя на главный, по его мнению, город Урала. Именно здесь сосредоточены самые важные приметы уральской жизни: «…что-то полное деятельности, энергии и предприимчивости чувствовалось в этой картине города, с тридцатитысячным населением, заброшенного на рубеж между Европой и Азией» [Мамин-Сибиряк 1955: 249].
Можно сказать, что путешествие Мамина-Сибиряка – это геокультурная ревизия сложившегося образа Урала и презентация подлинного Урала, суть которого составляют горные заводы и работные люди: мастеровые, сплавщики, старатели. Миссия «ребрендинга», как представляется, была вполне отрефлексирована писателем. Так, в его характеристике уральских пейзажей художника Верещагина видится критика всего, что было написано об Урале прежде: «Мне случалось видеть в Петербурге на выставке его виды Урала, но что это было: были рамы, было намалеванное полотно, на полотне красовалось имя профессора Верещагина, и только Урала не было…» [там же: 267].
Говоря о еще не открытой красоте уральского пейзажа, Мамин-Сибиряк направляет художников «в лучшее место реки Чусовой» – «где она течет среди великолепных скал и утесов, именно между Межевой Уткой и Кыновским заводом» [там же: 268]. Выбирая самые яркие приметы окрестного пространства, писатель рисует типичный для Урала горный пейзаж: «…кто раз видал, тот никогда не забудет чудные уральские ночи с глубоким голубым небом…; живописные лесные ландшафты где-нибудь на дне глубокого лога или на шихане, горные озера и реки» [там же].
Образ Урала создается Маминым-Сибиряком, в отличие от Мельникова-Печерского, посредством утверждения. Бэкграунд Мамина-Сибиряка как путешественника – это глубокое и живое (не книжное) знание рабочей жизни Урала, а также продуманное уважение к горнозаводскому делу. Основным источником сведений об Урале служит собственный опыт. Поэтому в тексте путешествия появляются вставные очерки о знакомых старателях-малороссах и бабушке из староверов; детальный анализ съезда горнозаводчиков; разбор экономических обстоятельств, разоривших уральских кустарей, и т.д. Мамин-Сибиряк дает подробные характеристики местных профессий, которые демонстрируют его прекрасную осведомленность о специальных навыках и умениях уральских рабочих. Так, например, он пишет о чусовских сплавщиках: «Сплавщик, помимо знания реки, должен отлично знать свою барку, должен примениться в каждом данном случае к известному уровню воды в реке, быстроте течения, законам движения барки по речной струе. И все-таки, зная все это, часто сплавщик оказывается негодным, потому что у него недостает двух главных качеств: смелости и уменья хорошо поставить себя между бурлаками.
Последние качества безусловно необходимы» [там же: 367].
Создавая галерею уральских типов, Мамин-Сибиряк реинтерпретирует введенные предыдущими путешественниками характеристики. Отдельный очерк в путешествии посвящается уральским раскольникам, которые, по мнению писателя, воплощают лучшие качества уральского характера – нравственную целостность, верность традиции, волю и смелость. Писатель ставит вопрос об историческом значении раскола в судьбе российского государства и, в частности, о его важнейшей роли в освоении Урала: «В истории Урала раскол составляет выдающееся явление, получившее под влиянием исторических и местных условий совершенно особенную, может быть, слишком интенсивную окраску» [там же: 314]. Мамин-Сибиряк противопоставляет свое мнение о расколе как живом явлении русской действительности книжным представлениям тех, кто «в тиши ученых кабинетов» не видит «живых людей и живых лиц» [там же: 315]. Он не вступает в религиозные споры и не оценивает раскол с точки зрения праведности веры. Для него значение имеет то обстоятельство, что «за формальными проявлениями» раскола стоит «целое народное миросозерцание», купленное «потом и кровью тысяч страдальцев» [там же]. Давая альтернативную официальной позиции характеристику раскола, писатель демонстрирует важную для уральского сообщества социокультурную установку, связанную с многоконфессиональным укладом местной жизни: «Даже эти формальности, смешные и нелепые сами по себе, заслуживают внимания и уважения по одному тому, что они служат известным лозунгом для тысяч людей, которым, как цементом, связаны все части этого живого здания» [там же: 315– 316].
Образы уральских раскольников под пером Мамина-Сибиряка становятся воплощением физической и нравственной красоты. «Эта массивная, атлетически сложенная фигура с грубым, но красивым лицом и глядевшим насквозь ласковым мягким взглядом небольших темно-карих глаз служила живым олицетворением нравственной силы, уверенности в себе и сознания какого-то превосходства; это сознание просвечивало в каждом движении, в тоне голоса, в медленном взгляде, в каждой складке платья», – так эмоционально писатель рисует портрет раскольничьей начетчицы Василисы Авдеевны [там же: 316].
Наступательное утверждение уральского уклада жизни как самодостаточной ценности приводит к кардинальному пересмотру принятых в российской действительности геополитических координат, предписывающих считать российские окраины глубочайшей провинцией. Центром для писателя становится родной Екатеринбург. На подъезде к Москве путешественник уносится «мыслью назад»: «…и кажется, что вот уже скоро неделя, как все едешь куда-то под гору, в яму» [Мамин-Сибиряк 1955: 400]. Географический спуск становится аксиологическим движением от центра на периферию. Главные отсечки на этой нисходящей оси – изменяющийся типаж мастеровых. Зауральские мастеровые, как образец физической силы и великой преданности своему делу, противостоят «расейским» фабричным. Отрицательные характеристики последних даны на контрастном фоне негативного сопоставления: «…это не тагильский мастеровой, не старатель, не сплавщик, это что-то такое пришибленное, глядящее болезненно напряженным взглядом, какое-то уныние сказывается в этих вялых движениях, в этом общем упадке физических сил» [там же: 401].
Однако в заданном векторе негативной идентификации есть более раздражающая ипостась Другого – Пермь с ее административной пустотой, чахлыми мастеровыми, вырождающимися коми-пермяками. Характеристики Перми поражают своей резкой нетерпимостью: «…. Тут уж нельзя было встретить ни уральского мастерового, ни старателя, ни пахаря по преимуществу: на сцену выступал мещанский элемент и «золотая рота», т. е. крюшники, которые грузили баржи» [там же: 284]; «Попадались по дороге черномазые фабричные – что-то среднее между мастеровым и машинистом; это был уже другой тип сравнительно с уральскими мастеровыми. Народ там выглядел могутнее, сильнее. Тип мельчал» [там же: 285]; «От Перми до своего впадения в Волгу Кама не имеет никакой истории, – ее историческая часть выше Перми <…>» [там же: 293].
Образ Перми тенденциозен, потому что создан в полемике со сложившимся представлением об Урале. Формируя новый образ региона, Мамин-Сибиряк намеренно исключает из него Пермь, которая в силу своего столичного статуса (административная столица Пермской губернии, в состав которой входил уездный город Екатеринбург) и геокультурного положения (въездные ворота на Урал – крупнейший речной порт и железнодорожный узел) воспринималась главной территорией Урала.
Маркирующим качеством Другого для Мамина-Сибиряка является несоответствие образу горнозаводского Урала. В связи с этим коренное население также выпадает из поля зрения писателя. Беглого упоминания местные «инородцы» заслуживают только в рассказе о начале горнозаводской колонизации края, в котором Мамин-
Сибиряк, увлекшись риторикой «огневой работы», откажет «аборигенам» в способности к тяжелому труду: «Аборигены не могли служить здесь материалом; на севере – вогулы, на юге – башкиры, они были слишком слабы физически, чтобы вынести все тяготы рудникового труда и огневой работы» [там же: 272]. Другой у Мамина-Сибиряка – это тот, кто не соответствует образу уральского рабочего. Поэтому, несмотря на общий позитивный характер идентификации уральского пространства, в путевой публицистике Мамина-Сибиряка происходит отрицание важнейших его составляющих: прикамского Урала и уральского коренного населения, не совпавших с образом горнозаводского края.
Пермский вектор уральской идентичности не нашел в XIX в. местного интерпретатора, конгениального Мамину-Сибиряку. Многочисленные путевые отчеты, появлявшиеся в пермской периодике на рубеже XIX–XX вв., осторожно обходили критику Мамина-Сибиряка, стараясь осваивать легитимизированные писателем темы – древней истории северного Прикамья, красоты Камы и т.д. Одна из самых заметных попыток реабилитации Перми принадлежала пермскому публицисту и писателю А.А.Городкову, опубликовавшему в московском журнале «Светоч и дневник писателя» за 1913 г. цикл путевых очерков «Кама» [Макк 1913а, б]. Правда, полемизировал Городков не с Маминым-Сибиряком, а с Немировичем-Данченко, упрекая последнего в необъективности оценок. Умные, колоритные по деталям, интонационно выдержанные очерки Городкова все же не смогли предложить столь же яркий и убедительный, как у Мамина-Сибиряка, образ уральского пространства: они распались на описания отдельных достопримечательностей.
Образ Урала, созданный Маминым-Сибиряком в путевых очерках, обладал необходимыми воздействующими характеристиками: была найдена главная тема идентичности, четко и убедительно назван ее субъект и даже придуман динамичный сюжет, основанный на соперничестве территорий. Ввиду сложившихся историко-литературных и творческих обстоятельств этот проект был лишь частично претворен в художественной прозе писателя. В.В.Абашев, размышляя о художественной интуиции Мамина-Сибиряка, справедливо отметил, что скованный литературной конвенцией времени писатель не смог в полной мере реализовать свое неординарное геопоэтическое мышление. Однако «в менее контролируемых элементах повествовательной периферии» – «в сравнениях, в подборе деталей для описания» – проявилось его глубинное видение уральской онтологии [Абашев 2009: 59]. В художественной прозе Мамина-Сибиряка формировались элементы уральской геопоэтики, которые получат дальнейшее развитие в литературе XX в. [Абашев, Абашева 2010]. Рассматривая творчество Мамина-Сибиряка в геопоэтическом отношении, следует отметить, что анализ его ранней публицистики становится подтверждением концептуальной целостности образа уральского пространства в структуре художественного мышления писателя.
Представленные векторы интерпретации уральского пространства дали толчок к формированию двух разных традиций описания Урала. Пермь чаще всего воспринимается наследницей легендарной Биармии и древнего Пермского моря, Екатеринбург – промышленным центром, сохранившим славу экономической столицы Урала. Противоборство этих идентичностей по-прежнему составляет один из главных текстопорождающих сюжетов уральского ландшафта.
Reader of Journalism Department
Perm State National Research University
Список литературы Урал в путевых очерках П.И. Мельникова-Печерского и Д.Н. Мамина-Сибиряка: взгляд извне и изнутри
- Абашев В.В. Урал как предчувствие. Заметки о геопоэтике Бориса Пастернака//Вопросы литературы. 2008. №4. С.125-144.
- Абашев В.В. Мамин-Сибиряк: у истоков геопоэтики Урала//Уральский исторический вестник. 2009. №1(22). С.51-59.
- Абашев В.В. Абашева М.П. Поэзия пространства в прозе Алексея Иванова//Сибирский филологический журнал. 2010. №2. С.81-89.
- Замятин Д.Н. Образы путешествий: социальное освоение пространства//Социологические исследования. 2002. №2. С.12-22.
- Каганский В. Путешествие. URL: http://www.biosemiotica.ru (дата обращения: 01.10.2011).
- Мамин-Сибиряк Д.Н. От Урала до Москвы: Путевые заметки//Собр. соч.: в 8 т. М.: Гос. изд-во худ. лит., 1955. Т.8. С.249-402.
- Макк А.А. (Городков А.А.) Кама//Светоч и дневник писателя. 1913а. №3-9.
- Макк А.А. (Городков А.А.) По Каме//Светоч и дневник писателя. 1913б. №11-12.
- Мельников-Печерский П.И. Дорожные записки (На пути из Тамбовской губернии в Сибирь)//Мельников П.И. (Андрей Печерский). Полн. собр. соч. СПб., 1909. Т.7. С.514-573.
- Теленков А.В. Национальное самосознание русских во второй половине XIX -начале XX века: По материалам Среднего Урала: дис.... канд. ист. наук. Пермь, 2003. 247 c. URL: http://www.dissercat.com/content/natsionalnoe-samosoznanie-russkikh-vo-vtoroi-polovine-xix-nachale-xx-veka-po-materialam-sred (дата обращения: 01.10.2011).
- Сорочан А. Туда и обратно: Новые исследования литературы путешествий и методология гуманитарной науки//НЛО. 2011. №112. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2011/112/(дата обращения: 01.10.2011).
- Castillo Susan P. Colonial Encounters in New World Writing, 1500-1786: Performing America. L.: Routledge, 2006. X, 276 р.