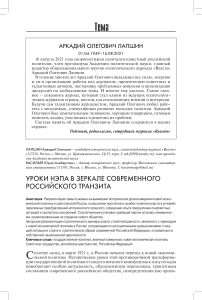Уроки нэпа в зеркале современного российского транзита
Автор: Лапшин Аркадий Олегович, Васильев Юрий Альбертович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Тема
Статья в выпуске: 5, 2021 года.
Бесплатный доступ
Репрезентация темы основана на выявлении исторических уроков введения новой экономической политики в крестьянской России, осмыслении просчетов и ошибок политики власти в условиях переломных преобразований исторического прошлого, освещении опыта преодоления конфликтных ситуаций и протестных настроений. Стратегические установки правящей партии остались неизменными, ориентированными на создание нового общества. Авторская репрезентация стратегического маневра власти столетней давности, связанного с переходом к новой экономической политике в России, сопровождается ассоциативными размышлениями о текущей ситуации в стране и стратегическом образе современной Российской Федерации, основанном на собственной национальной идентичности.
Государственная политика, военный коммунизм, новая экономическая политика, советское государство, российское крестьянство, российская федерация
Короткий адрес: https://sciup.org/170191572
IDR: 170191572 | DOI: 10.31171/vlast.v29i5.8522
Текст научной статьи Уроки нэпа в зеркале современного российского транзита
Столетие назад, в марте 1921 г., в России начался переход к новой экономической политике. Исторические уроки этой противоречивой трансформации государственной политики от модели военного коммунизма к нэпу сегодня приобретают особую актуальность, обусловленную переходным, транзитным состоянием современного российского общества, неопределенностью ориен- тиров и приоритетов (в идеологии, теории) в отношении экономического и социального будущего новой России [Васильев 2011]. Очевидно, нужно ска- зать несколько слов о том, почему мы соединяем две темы – нэп и сегодняшнее транзиторное состояние российского общества. Полагаем, что в основе этих процессов лежали тогда и лежат сейчас фундаментальные потребности, связанные с острейшей необходимостью изменения, прежде всего, экономических основ жизни, но не только, поскольку эта сфера жизни всегда тесно сопряжена с социокультурной и информационной сферами современного человека. Следовательно, речь идет о смене модели развития. Мы подошли к этапу, когда нужно не просто осуществлять воспроизводство экономики с темпами роста в 2–3% ВВП. Необходимо добиться ее качественного роста на основе экоинновационных факторов. Но, как известно, экономика всегда тянет за собой политику. А где большая политика, там возникают вопросы государственного управления, смены или радикальной модификации системы управления и стратегического планирования. И опыт прошлого, и особенно сегодняшние реалии убеждают, что изменения эти не могут проходить в режиме саморегуляции. Разумеется, сегодня другое время, но огромный масштаб задач объединяет эти темы. Решать их приходится в очень непростых условиях – с новыми вызовами и рисками при растущей неопределенности и неустойчивости социума, что, естественно, затрудняет его анализ. Попытки найти простые ответы на проблемы усложняющейся реальности только усугубляют ситуацию, обостряют риски и конфликты в обществе, в сфере международной политики. На это накладывается «состояние современного отечественного политикометодологического дискурса», причем это состояние один из ведущих политологов России, доктор политических наук, профессор, член-корреспондент РАН О.В. Гаман-Голутвина характеризует как удручающее [Гаман-Голутвина 2019: 29].
Острейшая проблема касается сохранения нашей национально-государственной безопасности сейчас и на перспективу. В Российской Федерации намечен переход критической информационной структуры (КИИ), связанной прежде всего с оборонно-промышленным комплексом (ОПК), на преимущественное использование отечественного и оборудования. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ обозначило сроки этого перехода –до 1 января 2023 г. для программного обеспечения и до 1 января 2024 г. для оборудования. До 1 июня 2021 г. необходимо провести аудит этих процессов. Что он покажет?
В связи с сетекоммуникационными вызовами происходит эволюция государственного управления. Здесь складывается ситуация, при которой либо государственные институты сохранят за собой способность стратегического управления обществом, либо сетевые платформы займут их место. Вариант оптимальный – необходимо договариваться о правилах игры, от которой должны выиграть прежде всего граждане. Насколько это реально, покажет время. Но не замечать это противоречие было бы, мягко говоря, неправильно. COVID -19 стал неким триггером, запустившим неустойчивость, зыбкость, текучесть современного бытия. Привычное и давно знакомое стало уходить из индивидуальной и социальной жизни, происходит одновременное ее усложнение и архаизация. Казалось бы, два трудно совместимых тренда, но они проявляются в реальности и взаимодействуют. Депрессивность стала характерной чертой функционирования государственных и международных институтов.
Картина не вызывает оптимизма. Проблема требует, чтобы были задействованы иные формы государственного и гражданского контроля. Банальные констатации текущего времени, такие как «системный кризис», «политиче- ская турбулентность», «внутриполитическая волатильность», только обозначают, но не объясняет общую ситуацию.
Нам показалось, что опыт российского нэпа может в какой-то степени быть полезным при разработке антикризисной стратегии, прежде всего для России. Мы также прекрасно понимаем, что любые аналогии, сравнения весьма условны, а для истории как науки продуктивны разве что в методологическом плане. Тем не менее мы попытались провести некие сквозные рефлексивные линии, указывающие на причины того, почему так быстро сработала стратегия нэпа и так трудно и мучительно формируется сегодняшняя политика устойчивого развития России.
Одним из важнейших уроков, связанных с введением нэпа, являлось признание большевистской властью ошибочности предположений по поводу непосредственного перехода пролетарского государства к коммунистическому государственному производству и распределению в стране, 80% населения которой составляло крестьянство. В современном россиеведении крестьянский вопрос по-прежнему выступает основополагающей проблемой, в которой нашло отражение взаимодействие крестьянства и власти (государства) как значимых, ведущих субъектов модернизационного процесса в истории России [Васильев 1995].
Политика военного коммунизма весной 1921 г. привела Россию к глубокому системному экономическому и политическому кризису, который олицетворял, по свидетельству руководителя советского государства В.И. Ленина, «сильнейшее поражение» и «отступление»: большевики потерпели поражение более серьезное и опасное для государства, чем какое бы то ни было поражение, нанесенное Колчаком, Деникиным или Пилсудским [Ленин 1977а: 159]. Не прошло и полутора лет после ленинского заявления о готовности «лечь костьми» против отмены госмонополии на хлеб (декабрь 1919 г.), как партия ради сохранения власти объявила свободу товарооборота в марте 1921 г. Это была не локальная или фрагментарная корректировка политического управления, а фундаментальное изменение в самой стратегии государственного курса.
Один из большевистских теоретиков Н.И. Бухарин объяснил причину провала в осуществлении непосредственного перехода к социализму оригинальным образом: в стране с огромным числом крестьянских хозяйств это оказалось невозможно, т.к. их никак нельзя сразу «втиснуть» в единый стройный план [Бухарин 1988: 195].
Вектор теории социального эксперимента, казавшийся ранее большевикам прямой магистралью к коммунизму, пришлось повернуть в сторону поиска обходных путей и переходных ступеней к конечной цели посредством элементов госкапитализма. Установка на построение социализма (определявшегося как первая стадия коммунизма) дополнилась осознанием необходимости переходного периода.
Провал экспериментов в области коллективного земледелия, осуществлявшегося мобилизационными методами, без учета базисных архетипических и социокультурных черт российского крестьянства, на практике нельзя объяснить, как это делал Ленин, только неопытностью и неумением хозяйствовать. Практика являлась апробацией теоретических построений большевизма. Почему так быстро удалось запустить политику нэпа? Прежде всего, потому, что эта политика опиралась на существующие базовые институциональные практики, смыслы, ценности, которые были придушены, но не раздавлены политикой военного коммунизма. Большевики невольно воспользовались действием закона исторической последовательности, о котором писал выда- ющийся русский психиатр и мыслитель В.М. Бехтерев. Итак, если нет достаточных исторических, прежде всего социокультурных предпосылок для фундаментальных трансформаций общества или правящий политический класс не может обеспечить реализацию крайне необходимой стратегии развития, происходит нарушение закона исторической последовательности, что ведет к неизбежным деформациям общества, а в случае длительных невразумительных действий или бездействий власти вступают в силу контрэволюционные тренды. Разве уход с исторической арены СССР не объясняется теми же фундаментальными обстоятельствами?
Изучение крестьянского менталитета в советской истории показало, что в условиях строительства нового общества был пропущен важнейший этап формирования цивилизованного работника через массовые формы кооперации, постепенного и последовательного подтягивания культурных и духовных предпосылок. В результате в тени остались негативные проявления и беды, этим же порожденные: форсированно созданные посредством административно-чрезвычайных мер формы кооперации в социально-культурном и духовном плане не имели под собой надежной основы [Васильев 1992: 122].
Приоритетной стала задача «переработки» мелкого земледельца как дела, требующего создания материальных предпосылок и не одного поколения. Л.Д. Троцкий высказал положение о недостаточности обобществления отдельных отраслей сельского хозяйства – необходимо обобществить все сельское хозяйство, чтобы на место «жалкого ковыряния земли», как он выражался, поставить целые пшеничные и ржаные фабрики, коровьи и овечьи заводы [Троцкий 1927: 436] (данная идея Троцкого позднее особенно приглянулась И.В. Сталину).
Прежняя политика, олицетворяемая термином «штурм», заменялась новой политикой – «осадой». Политика могла меняться, причем достаточно круто: не отрицалась возможность при необходимости ликвидировать общество госкапитализма, который только что был допущен в ограниченных и лишь экономических рамках.
Введение нэпа не являлось четко спланированным мероприятием – скорее это была интуитивная рефлексия большевистского руководства. Введение продналога вместо продразверстки, организация товарообмена и разрешение торговли не были частью программы, авторство которой принадлежит исключительно Ленину и его единомышленникам. Нэп отражал своеобразную легитимацию многочисленных требований российского крестьянства, идущих снизу, от жизни. Не случайно с введением новой экономической политики отчетливо стало проявляться стремление крестьян к увеличению посевной площади, многопольной системе, выполнению продналога облигациями хлебного займа. Крестьянство стало оказывать добровольное содействие власти в борьбе с «бандитизмом». Случаи участия амнистированных повстанцев в поимке или ликвидации руководителей «банд», как их тогда называли, вызваны не только стремлением заслужить отпущение грехов у советской власти (это вряд ли можно отрицать), но и желанием покончить с явлениями, мешающими наладить мирную трудовую жизнь крестьянина. Крестьянство устало от войн и многолетней изматывающей борьбы, приводивших хозяйство в упадок и разорение. Эффективность поворота к нэпу как раз и объясняется прежде всего тем, что основные концепты этой политики опирались на существовавшие тогда практики ведения хозяйства в крестьянской стране.
Следует отметить, что далеко не все крестьянство осознало сущность новой трансформации и приняло новую политику. Данный тезис можно подтвер- дить появлением, особенно в Сибири, феномена, получившего парадок- сальное название «красный бандитизм». Движение зародилось среди быв- ших красных партизан, боровшихся за установление советской власти, – его участники с оружием в руках выступали против нэпа. Оставаясь приверженцами военно-коммунистической идеологии, они по собственной воле продолжали выполнять карательную функцию, часто с особым ожесточением, по отношению к своим односельчанам и землякам, которых считали классо- выми врагами.
Апогей крестьянского протеста в Советской России, направленного против политики военного коммунизма, наступил в конце 1920 – начале 1921 г., после победы советской власти над Белым движением и ликвидации военных фронтов. Примечателен следующий факт: в то время, когда на территории Центральной и Южной России, Поволжья, Урала, Украины, Сибири уже не было белых армий и интервентов, в 36 губерниях сохранялось военное положение – по-прежнему шла борьба с протестным крестьянским движением. Указанные районы оказались эпицентрами крестьянского протеста на территории советского государства. В разгар крестьянской войны полыхали крупнейшие восстания: антоновщина в центральной части России, махновщина на Украине и Юге России, Западно-Сибирское восстание. Восстания в вооруженных силах Советской республики летом 1920 г. (сапожковщина, серов-щина) породили повстанческое движение в Поволжье и на Урале.
Восстание крестьян в Тамбовской губернии, вспыхнувшее в августе 1920 г., известное под названием антоновщины, стало знаменательным событием в условиях кульминации политики военного коммунизма. Оно получило общероссийскую значимость по масштабу, политическому и экономическому резонансу и последствиям в стране. По решению руководства Советского государства, в Тамбовской губернии переход к новой экономической политике начался фактически на месяц раньше, чем объявление и введение нэпа по всей стране [Алешкин 2012: 454].
В течение нескольких месяцев (ноябрь 1920 г. – май 1921 г.) на значительной территории Тамбовщины оформилось своеобразное крестьянское государство в государстве, в котором действовали собственные законы, была своя законодательная и исполнительная власть, повстанческая регулярная армия, основу которой составляли бывшие красноармейцы, многие из которых прежде воевали под командованием командарма М.Н. Тухачевского, которому пришлось возглавить борьбу против своих бывших однополчан. Вместе с ним для подавления антоновщины прибыли и другие военачальники, отличившиеся в Гражданской войне, – Н.Е. Какурин, И.П. Уборевич, Г.И. Котовский.
Западно-Сибирское восстание, датируемое февралем–апрелем 1921 г., охватило огромную территорию Западной Сибири, Зауралья и современного Казахстана. Боевые действия на охваченной восстаниями территории по масштабам и военно-политическим результатам приравниваются к фронтовой операции периода Гражданской войны. В подавлении восстаний были задействованы вооруженные силы, достигавшие численности полевой советской армии. На подавление восстания штабом РККА в Сибирь были переброшены 21-я стрелковая дивизия, кавалерийские бригады 10-й кавалерийской дивизии, два полка 21-й кавалерийской дивизии, Симбирский и Казанский стрелковые полки, специально сформированные из курсантов и отборных частей, 4 бронепоезда. Все войска Приуральского военного округа переходили в подчинение помглавкому по Сибири В.И. Шорину – члену чрезвычайной тройки Сибревкома.
Признаки крестьянской войны в период ранней советской истории можно определить следующей характеристикой: охват движением значительной территории, контролируемой повстанцами; элементы организованности в стихийном крестьянском движении: складывание единого военно-политического руководства в крупных восстаниях, объединяющего разрозненные действия отдельных повстанческих отрядов; создание повстанческой армии и штабов по руководству вооруженными повстанческими формированиями, включая сражения с регулярными армейскими частями Красной армии; общие для всего движения лозунги, разработка и принятие социальных и политических программных документов. Крестьяне сопротивлялись общегосударственной политике в масштабе всей страны – политике военного коммунизма. Историческое значение крестьянской войны заключалось в ее воздействии на политику государства, на дальнейшее социально-экономическое и политическое развитие страны. Это проявилось в признании государственной властью ошибочности прежней политики и объявлении пере- хода к нэпу.
Лозунг: «За Советы без коммунистов» отражал интересы большинства восставшего крестьянства. Крестьянский протест выражался не против Советов, а против политики военного коммунизма. Отношение к советской власти характеризовалось восприятием ее как «истинной», народной власти, близкой интересам трудового народа. Для организации новой власти крестьянство желало выбрать представителей от населения. На повстанческих территориях указанный лозунг воплощался на практике путем создания волостных и сельских крестьянских Советов. В сознании трудового крестьянства утвердилось представление о происходившем перерождении бывшей народной советской власти, завоеванной в результате революции и Гражданской войны.
Типологию крестьянского протестного движения определяли созданные повстанцами вооруженные формирования по принципу организации регулярной армии (аналогично Красной армии): перенимались тактические приемы регулярных армейских частей в организации военных операций и ведении боевых действий; создавались реввоенсоветы, политические отделы и политкомы; разрабатывались инструкции для повстанцев, осуществлялась агитационная и пропагандистская деятельность: выпускались и распространялись обращения, призывы, воззвания, листовки и даже газеты. Повстанческие отряды создавались и пополнялись посредством мобилизации населения. Военное руководство в основном осуществлялось командным составом из крестьянской среды, подготовленным и закаленным в сражениях двух войн – Первой мировой и Гражданской. Комсостав состоял из бывших унтер-офицеров, прапорщиков. Было немало случаев, когда руководителями повстанцев становились бывшие командиры Красной армии (командиры дивизий, полков, политработники, в т.ч. бывшие коммунисты), награжденные в боях с белыми орденами Красного Знамени (высшая награда того времени).
Военная угроза в отношении государственной власти со стороны крестьянского протестного движения была не главной: у Советского государства имелись мощные вооруженные силы. Тем не менее на подавление крестьянских восстаний требовались значительные ресурсы и время, к тому же возникала опасность, что крупное крестьянское повстанчество могло вызвать цепную реакцию и стать катализатором выступлений по всей стране. Для ликвидации крестьянских восстаний Советское государство повсеместно использовало регулярные части Красной армии.
Руководство страны осознало степень реальной опасности, которую представляла крестьянская война для Советского государства. Об этом свидетель- ствовали действия и высказывания В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого, А.И. Рыкова,
Э.М. Склянского, Ф.А. Сергеева (Артема) и др. руководителей. Основная угроза для государства заключалась в том, что крестьянство являлось единственным источником продовольственного и сырьевого снабжения в стране. Поэтому прекращение или сокращение обеспечения промышленности и городов создавало продовольственную и сырьевую угрозу для Советского государства. Так, трехнедельный перерыв железнодорожного сообщения на Транссибирской железнодорожной магистрали между Центральной Россией и Зауральем в период Западно-Сибирского восстания создавал реальную продовольственную угрозу для государства.
Решение X съезда РКП(б) о замене продразверстки продналогом законодательно было оформлено постановлением ВЦИКа «О замене продовольственной и сырьевой разверстки натуральным налогом» от 21 марта 1921 г. Устанавливалось, что налог должен быть меньше существовавшего ранее обложения методом разверстки1. Вводя нэп, большевики признали право собственности крестьянина на производимый им продукт. Однако величина продналога, даже в сокращенном объеме, оказалась непомерной для разоренного войнами и неурожаем крестьянского хозяйства и не улучшила положение крестьян в первый год нэпа. В 1921/1922 сельскохозяйственном году план по сбору продналога не был выполнен2. Настроение основной массы крестьянства улучшилось лишь во второй половине 1922 г. в связи с хорошими видами на урожай. В 1922/23 сельскохозяйственном году объем хлебных заготовок был в 1,6 раза больше, чем в предыдущем году3.
Характерно следующее обстоятельство: переход от военного коммунизма к нэпу в значительной мере совершался привычными для партийцев методами военного коммунизма. В чекистской информации в феврале 1922 г. (прошел почти год после объявления нэпа в стране) сообщалось о следующих фактах, имевших место в Омской губернии: «Бесчинства продработников в губернии достигают совершенно невероятных размеров. Повсеместно арестованных крестьян сажают в холодные амбары, бьют нагайками и угрожают расстрелом. Крестьяне, боясь репрессий, бросают хозяйства и скрываются в лесах ‹…› Не выполнивших полностью продналог гнали через село и топтали лошадьми. После чего сажали голыми в холодные амбары. Многих женщин избили до потери сознания, закапывали голыми в снег, производили насилие. Продработники местами создали подпольные ЧК. Положение крестьян катастрофическое. Введение дополнительного налога заставляет крестьян собирать милостыню. Крестьянство обменяло почти все свое имущество на хлеб. 50% населения голодают ‹…› Крестьяне распродали весь сельскохозяйственный инвентарь. Настроение крестьян в губернии крайне возбужденное ‹...› Посевная площадь в 1922 г. сократится на 50%»4.
Выездные сессии ревтрибунала и нарсуда против неплательщиков продналога осенью 1921 г. и зимой 1922 г. практиковались повсеместно по стране. Принудительные и репрессивные меры при взимании продналога осуществлялись при помощи вооруженных отрядов. Власти закрывали и опечатывали мельницы до выполнения продналога. Неплательщики продналога подвергались арестам. Ходатайства о снижении налога не принимались.
Величина продналога, как и ранее продразверстка, часто не соответствовала реальным возможностям крестьян: приоритет заключался в потребности получения продовольствия любой ценой. Именно этим обстоятельством можно объяснить заметный разрыв между заданиями и их реальным выполнением. Сбор продналога в 1921 г. не соответствовал плану.
Недовольство крестьян находило свое конкретное выражение в специфических крестьянских формах сопротивления. Одной из таких форм пассивного протеста крестьян являлось сокрытие пашни (посевной площади) и скота, поскольку размер налога зависел от размера пашни на едока, обеспеченности скотом и урожайности. Сокрытие пашни и скота было массовым явлением и составляло от 10 до 20% пашни и до 50% скота1. В борьбе с этим явлением
Советское государство еще более усилило налоговый пресс и ужесточило административно-репрессивные меры воздействия. Власти пытались проводить выявление и учет фактических посевов. За скрытую пашню взыскивался штраф в двукратном размере от причитавшегося за эту площадь продналога, а виновные в сокрытии посева и скота привлекались к судебной ответствен- ности.
Сбор продналога за скрытую от учета землю порождал в первую очередь недовольство бедняков. Сокрытие от учета пашни осуществлялось беднейшим крестьянством, семьями красноармейцев, вынужденными идти на этот шаг из-за разорения хозяйств в период Гражданской войны: нечем и не на чем было засеять поля. Однако план продналога устанавливался по наличию фактической земли вне зависимости от того, сколько крестьянин мог засеять (не учитывалось наличие семенного материала, рабочего скота, инвентаря). Крестьяне-бедняки, не имея возможности заплатить продналог, продавали семенной материал и сельхозинвентарь, скот, чтобы оплатить налог. Для оплаты масляного налога покупали на базаре масло. В результате после уплаты налога беднота оставалась без хлеба и необходимых продуктов. В посевную кампанию крестьяне за отсутствием лошадей запрягали коров, сами запрягались вместе с женами, детьми в плуги, бороны. Чтобы сдать налог, нередко приходилось выстаивать очереди в заготконторах. Политика власти заставляла бедноту наниматься к кулакам или бросать хозяйство и уезжать в город на поиски работы и заработка. Кулак имел возможность добыть фиктивные квитанции об уплате продналога: взяточничество среди продработников получило широкие размеры.
На основе постановления IX Всероссийского съезда Советов 17 марта 1922 г. был принят декрет ВЦИК и СНК РСФСР «Об едином натуральном налоге на продукты сельского хозяйства на 1922/1923 г.». Новый налог отличался от предыдущего следующими особенностями: устанавливался единый натуральный налог, определялась единая весовая мера его начисления (пуд ржи или пуд пшеницы в зависимости от района распространения той или иной культуры), вводился дополнительный критерий для характеристики хозяйства – обеспеченность скотом. Таким образом, налог с каждого отдельного хозяйства начислялся в зависимости от сочетания следующих трех показателей: размера пашни на едока, обеспеченности скотом и урожайности (определялись 11 разрядов урожайности). Уплата налога могла производиться различными видами сельхозпродукции по устанавливавшимся эквивалентам к основной весовой мере исчисления налога – пуду ржи или пшеницы2. Декретом СНК РСФСР от 8 июня 1922 г. устанавливался на особых основаниях единый натуральный налог в скотоводческих районах. Этот налог исчислялся в мясных едини- цах по числу голов скота всех видов, за исключением молодняка. В качестве единицы обложения принималась голова крупного рогатого скота, отдель- ные виды скота пересчитывались на основе соответствующих эквивалентов. Ставки налога дифференцировались в зависимости от обеспеченности хозяйства скотом (5 групп). Необлагаемый минимум был установлен в 5 голов крупного рогатого скота1.
Напряженная социальная обстановка заставила Советское государство частично вернуться к обещаниям, зафиксированным в Декрете о земле 1917 г. Постановление IX Всероссийского съезда Советов вернуло возможность свободного выбора форм землепользования: товарищеского, общинного, отрубного, хуторского или смешанного. Регламентировалась система землепользования. Весной–летом 1922 г. появился ряд законов и постановлений советской власти в области землепользования: закон о трудовом землепользовании (постановление 3-й сессии ВЦИК IX созыва от 22 мая 1922 г.), «О порядке рассмотрения земельных споров» (постановление 3-й сессии ВЦИК IX созыва от 24 мая), «По вопросу о кодексе земельных законов» (постановление 3-й сессии ВЦИК IX созыва от 25 мая), «О порядке введения в действие в автономных дружественных и договорных республиках РСФСР основного закона о трудовом землепользовании и дополнительного к нему закона о порядке рассмотрения земельных споров» (постановление президиума ВЦИК от 20 июля 1922 г.).
Осенью 1922 г. положения указанных законов были включены в принятый 30 октября 1922 г. 4-й сессией ВЦИК IX созыва Земельный кодекс, который вводился в действие с 1 декабря. Новое советское земельное законодательство в определенной мере можно рассматривать как уступку крестьянским требованиям в духе нэпа. При этом основополагающим принципом советской земельной политики объявлялась национализация земли – крестьянство так и не дождалось обещанной социализации. Суть основных положений земельного законодательства сводилась к следующему: категорически запрещались всякие сделки с землей – купля, продажа, завещание, дарение, залог. Право на землепользование давал только труд. Пока члены хозяйства занимались обработкой земли, соответствующий участок оставался в их постоянном и непрерывном пользовании. В земельном законодательстве закреплялся принцип свободы выбора крестьянским населением форм и порядка землепользования. Управление земельными делами возлагалось на общину, которая получала право юридического лица. Она отвечала перед государством за правильное и целесообразное использование земельных угодий, а Советы и земельные органы проводили все мероприятия в области поземельных отношений только с согласия общины и через нее. Была упорядочена система переделов. Разрешалась трудовая аренда земли, но при этом запрещалась аренда такого количества земли, которое арендатор не мог обработать силами своего хозяйства. Допускалось применение наемного труда в крестьянских хозяйствах при неуклонном исполнении законов об охране и нормировании труда. Поощрялись коллективные формы хозяйства (товарищества по обработке земли, сельскохозяйственные коммуны, артели), которым государство предоставляло ряд льгот2.
Допущение капитализма в экономической сфере сопровождалось одновре- менным ужесточением политической системы. Советское государство ограничивало, контролировало, карало попытки капитализма выйти за установленные рамки государственного капитализма. Требовалось усилить репрессии против политических врагов советской власти – с обязательной постановкой ряда образцовых процессов в ряде регионов, воздействием на судей и членов ревтрибуналов через партию для усиления репрессий [Ленин 1977б: 396, 397]. Примечательно, что ревтрибуналы были ликвидированы лишь 11 ноября 1922 г. в соответствии с новым положением о судопроизводстве РСФСР. Были произведены массовые аресты членов партии левых эсеров. 8 июня – 7 августа 1922 г. в Москве состоялся первый политический процесс в России после революции – открытый суд над членами партии эсеров. 12 человек из 34 подсудимых были приговорены верховным трибуналом ВЦИК к высшей мере наказания. Им вменялась в вину организация заговоров и восстаний против советской власти, поддержка иностранной интервенции. Часть подсудимых была присуждена к изоляции на сроки от 2 до 10 лет. Ряд «раскаявшихся» были освобождены от наказания. Исполнение приговора для смертников было отложено, они оказались политическими заложниками: власти объявили, что приговор будет приведен в действие, если эсеры применят вооруженные методы борьбы против советской власти1.
Хотя эксперимент с военным коммунизмом как формой непосредственного перехода к новому обществу закончился неудачей, но фундаментальные партийные установки остались прежними. Всех большевистских руководителей (несмотря на тактические разногласия) объединяло восприятие понятия «социализм» как альтернативного «капитализму» способа организации общества. При всех различиях во взглядах все они были членами правящей партии, поставившей задачу построения нового общества. Социализм для них означал справедливое и гуманное общество, а суть его становилась скорее воплощением утопической идеи, чем реальной социально-экономической программой.
Конечно, любые исторические аналогии условны. Они могут дать только самое общее смысловое сопоставление настоящего и вчерашнего. Тем не менее это не просто «игра в бисер». Попытки найти общие, фундаментальные причины кризисных процессов, безусловно, полезны, поскольку позволяют политическому руководству искать ответы на «вечный» вопрос: как провести реформы без ослабления власти.
Представляется, что четкое определение стратегической модели страны позволит ответить на многие актуальные вопросы современности. Что собой представляет образ будущей России – непонятную периферию Европы или самостоятельное евразийское по своей природе цивилизационное образование? Как ему развиваться дальше под давлением коллективного Запада в условиях санкций и информационной конфронтации? Как разрешить дилемму сохранения российской национально-государственной идентичности и социокультурного своеобразия с универсалистским трендом на глобальную унификацию, которая уничтожает специфику, уникальность, единичность? Отставание отечественного политического класса от общественного сознания и настроения масс, направленных на позитивные перемены, игнорирование укоренившихся ориентаций на социальную справедливость и против разгула коррупции – все эти несоответствия усугубляют кризисные явления в обществе.
Рецепты трансформации политического режима всегда упираются в инер- цию политического класса, нежелание искать что-нибудь новое, в отсутствие людей, которые бы действительно хотели этого нового, несмотря на риск поте- рять все. Тем не менее столетие назад лидеры большевистского руководства, несмотря на доктринальные идеологические установки, не только сумели понять, что продолжение политики военного коммунизма приведет страну к коллапсу, но смогли выдвинуть альтернативу силовой политике всеобщей продразверстки. Удержать власть можно было, только разморозив те реальные механизмы жизнедеятельности, которые находились внутри самой народной хозяйственной жизни, прежде всего российских крестьян. Власть тогда не опоздала и выиграла.
Сейчас другое время, другие люди и другая социальная структура российского общества. Особый социальный сегмент в российской социальной структуре занимают прекарии – люди с частичной, временной занятостью. В конце 2020 г. зарегистрировано около 1,5 млн самозанятых. А сколько не зарегистрированных? Необходимо тщательно изучать эти социальные слои. Как они поведут себя при возможном расширении протестного движения накануне парламентских выборов? Ведь совершенно очевидно, что протекающая пандемия усугубила индивидуализацию жизни. Сидение дома для больших групп населения, особенно молодых, повлияло на психическое состояние людей не в лучшую сторону. Принятие решений в условиях неопределенности, особенно молодежью, как правило, определяется через те или иные социальные сети, в которых хороших и плохих цифровых контентов – пятьдесят на пятьдесят. Международный и отечественный опыт показал, что клиповое мышление приживается быстрее, особенно у молодежи. По своей природе оно проще, доступнее, поскольку оно механистично по своей природе. Но оно не позволяет принимать решения в условиях растущей неопределенности и рисков. Атомизация жизни при усиливающейся сетекоммуникационной включенности вызвали к жизни новые ориентации и установки. Коллективное социальное больших и малых групп видоизменилось. Государственные медиа проигрывают борьбу за молодежь в социальных сетях. Нужны системные изменения в информационной политике. Стихийное (для нас, для России) распространение цифровых технологий формирует снизу тотальную зависимость, а сверху – тотальную управляемость, субъекты которой находятся формально за пределами наших государственных границ. В России следует обсудить закон о праве граждан на тайну личной информации, а также закон об обороте пользовательских данных, считает президент группы Info Watch Наталья Касперская: «Должен появится “цифровой кодекс”. Если не остановить сбор персональных данных кем попало, нас ждут цифровые “фукусимы”. Наше государство должно защищать тайну частной жизни и сдерживать аппетиты тех, кто пытается засунуть нас в электронный концлагерь»1. Рациональная цифровизация может способствовать минимизации современных кризисных тенденций, но сама по себе она не решает проблем разрешения системного кризиса. Более того, механическое применение цифровых технологий ведет к появлению новых вызовов и рисков. И жизнь это уже показывает.
Запросы снизу к правящему классу сохраняются всегда. Острота их разная. В настоящее время она требует принятия определенных стратегических решений. Не ошибиться с их принятием, не опоздать – задача первостепенная. Без сохранения своей сложносоставной по сути системной идентичности (гражданской, политической, этнической, социокультур- ной, сетеинформационной) Россия как государство окажется в зоне риска.
Сохранение идентичности – это не воспроизводство и консервация автар- кии и изоляционизма. Нам нужна своя самодостаточная стратегия устойчивого комплексного развития. Как в условиях глобализации обеспечить действие закона соответствия? Уйти нельзя остаться. Где ставить запятые?
А может быть, вспомнить диалектику и поставить их в двух местах – уйти, нельзя, остаться? Уйти от зависимости, которая есть у России в высокотехнологических отраслях. Остаться евро-азиатской державой с сохранением свой фундаментальной идентичности.
Жизнь, пока она есть, – это всегда продолжение, будь то человек или общество. Если есть потребности, намерения, установки продолжать, тогда строятся планы, формируются стратегии, преодолеваются кризисы. Нет продолжения – жизнь уходит от человека, разрушаются государства и империи. Продолжение – это деятельностное проявление самой онтологической основы нашего бытия. Несколько пафосно, но зато искренне и по существу поставленной темы – исторические аналогии и кризисы. Эти аналогии есть, поскольку, очевидно, существуют несменяемые механизмы жизни, которые не зависят ни от 4-й научно-технической революции, ни от того, что нам видится разительное отличие людей сегодняшних и вчерашних. Хроноцентризм всегда сопровождает и обычную жизнь, и даже научную. Так мы устроены. Все проходит, не проходит только продолжение самой жизни, пока она есть!!!
[Это были последние фразы, написанные рукой Аркадия Олеговича Лапшина – честного, искреннего и талантливого человека. Светлая память. – Ю.В. ].
Список литературы Уроки нэпа в зеркале современного российского транзита
- Алешкин П.Ф. 2012. Крестьянское протестное движение в России в условиях политики военного коммунизма и ее последствий (1918-1922 гг.). М.: Книга. 624 с.
- Бухарин Н.И. 1988. Избранные произведения. М.: Политиздат. 499 с.
- Васильев Ю.А. 1992. Деревня на распутье. К возрождению села: формирование условий жизнедеятельности и культуры быта. М.: Молодая гвардия. 146 с.
- Васильев Ю. А. 1995. Сельский социум в 60-80-е годы. - СССР и холодная война (под ред. В.С. Лельчука, Е.И. Пивовара). М.: Мосгорархив. С. 249-268.
- Васильев Ю.А. 2011. Очень странный российский капитализм. - Власть. № 9. С. 4-6.
- Гаман-Голутвина О.В. 2019. Преодолевая методологические различия: споры о познании политики в эпоху неопределенности. - Полис. Политические исследования. № 5. С. 19-42.
- Ленин В.И. 1977а. Новая экономическая политика и задачи политпросветов: Доклад на II Всероссийском съезде политпросветов 17 октября 1921 г. - Полное собрание сочинений. 5-е изд. Т. 44. М.: Издательство политической литературы. С. 155-175.
- Ленин В.И. 1977б. О задачах Наркомюста в условиях новой экономической политики. - Полное собрание сочинений. 5-е изд. Т. 44. М.: Издательство политической литературы. С. 396-400.
- Троцкий Л.Д. 1927. Культура переходного периода. - Сочинения. Т. 21. М.; Л.: Госиздат. 520 с.