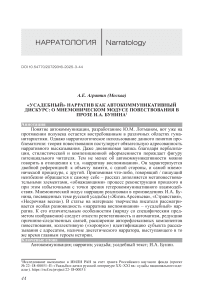«Усадебный» нарратив как автокоммуникативный дискурс: о мнемоническом модусе повествования в прозе И.А. Бунина
Автор: А.Е. Агратин
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Нарратология
Статья в выпуске: 3 (74), 2025 года.
Бесплатный доступ
Понятие автокоммуникации, разработанное Ю.М. Лотманом, вот уже на протяжении полувека остается востребованным в различных областях гуманитаристики. Однако нарратологическое использование данного понятия проблематично: теория повествования постулирует обязательную адресованность нарративного высказывания. Даже дневниковая запись благодаря вербализации, стилистической и композиционной оформленности порождает фигуру потенциального читателя. Тем не менее об автокоммуникативности можно говорить в отношении к т.н. «нарративу воспоминания». Он характеризуется двойной референцией: к объекту памяти, с одной стороны, и самой мнемонической процедуре, с другой. Припоминая что-либо, говорящий / пишущий неизбежно обращается к самому себе – рассказ дополняется метаповествовательными элементами, «обнажающими» процесс реконструкции прошлого и при этом избыточными с точки зрения гетерокоммуникативного взаимодействия. Мнемонический модус наррации реализован в произведениях И.А. Бунина, посвященных теме русской усадьбы («Жизнь Арсеньева», «Странствия», «Несрочная весна»). В статье на материале творчества писателя рассматривается особая разновидность «нарратива воспоминания» – «усадебный» нарратив. К его отличительным особенностям (наряду со специфическим предметом изображения) следует отнести репетативность и автоматизм, редукцию причинно-следственных связей, расширение авторефлексивных компонентов повествования, коллективную («хоровую») идентификацию субъекта рассказывания с адресатом, наличие диегетического нарратора, выступающего в то же время главным героем истории.
Автокоммуникация, нарратив, усадьба, усадебный текст, И.А. Бунин
Короткий адрес: https://sciup.org/149149374
IDR: 149149374 | DOI: 10.54770/20729316-2025-3-44
Текст научной статьи «Усадебный» нарратив как автокоммуникативный дискурс: о мнемоническом модусе повествования в прозе И.А. Бунина
Autocommunication; narrative; estate; estate text; Ivan Bunin.
Понятие автокоммуникации было разработано Ю.М. Лотманом еще в 70-х гг. прошлого столетия. По мысли ученого, «наиболее типовой случай» передачи сообщения – «это направление “Я – ОН”, в котором “Я” – это субъект передачи, обладатель информации, а “ОН” – объект, адресат». Вместе с тем, существует альтернативное «направление в передаче коммуникации» – «направление “Я – Я”», иными словами, «случай, когда субъект передает сообщение самому себе, то есть тому, кому оно уже и так известно» [Лотман 2000, 164]. Лотмановская схема с момента ее возникновения не получила сколько-нибудь заметных модификаций и вплоть до сегодняшнего дня воспроизводится в культурологических, философских, литературоведческих, дискурсологических и др. работах [Ростова 2012; Han 2014; Шутая 2015; Токарева 2020; Клюкина 2020; Федорова 2022].
В контексте нарратологических штудий феномен автокоммуникации видится проблематичным. Дело в том, что одна из важнейших характеристик повествования – его неизбежная адресованность другому. Даже дневниковая запись мнимо автокоммуникативна, так как благодаря вербализации, стилисти- ческой и композиционной оформленности генерирует фигуру потенциального читателя.
Понятие автонарратива, предложенное В.И. Тюпой, частично снимает это противоречие: «<…> рассказывания такого рода [автонарративные. – А.А. ], – подчеркивает исследователь, – не звучат, не записываются, остаются лишь потенциально возможными». Они противопоставлены «привычным повествованиям от первого лица – эгонарративам» и в отличие от последних предназначены не другому, а самому себе – служат построению ориентировочной «траектории личной жизни, цельной истории событийного присутствия “я” в бытии» [Тюпа 2023, 23]. Однако в рамках анализа повествовательных произведений уместно вести речь об автонарративе только в связи с фигурой героя: художественный текст обладает инструментами косвенного представления внутренней жизни персонажа, изолированной от каких-либо коммуникативных ситуаций (внутренняя фокализация, несобственно-прямая речь, изображение мыслей действующего лица в форме прямой речи), – нарратор, строго говоря, не способен к такой «изоляции»: само его существование обусловлено интенцией донесения неких сведений гипотетическому или реальному читате-лю/слушателю в виде связного дискурса.
В поисках решения описанной проблемы мы обратили внимание на статью И.А. Авраменко «Нарратив воспоминания в английском перволичном ретроспективном романе XX в.» (2019). Исследователь выделяет особый «мысленный» модус ретроспективной наррации, имеющий место, когда «прошлое подается не как устный рассказ или письменный документ, а как процесс воспоминания, регистрируемый изнутри самим автобиографическим героем-нар-ратором» [Авраменко 2019, 6]. Ученый рассматривает эволюцию нарративов подобного типа, которые к XX в. образовали целый жанр – роман-воспоминание. В таком романе «психологический процесс воспоминания изображается как автокоммуникативный » [Авраменко 2019, 8; курсив в цитируемых фрагментах здесь и далее наш. – А.А .].
Противопоставление воспоминания письменному либо устному изложению событий представляется спорным: легко вообразить, что «ментальный процесс» записывается или озвучивается. Однако автокоммуникативность нарратива воспоминания, на наш взгляд, не подлежит сомнению: припоминая что-то, мы обращаемся не только к объекту памяти, но и к самим себе, осуществляем «ревизию» своей мнемонической компетенции. При этом автокоммуникативность повествования не исключает его одновременной адресованности еще кому-то (например, слушателю, который является открытым «свидетелем» наших воспоминаний). Кроме того, занимающий нас тип рассказывания не следует экстраполировать на литературное произведение как целое: ведь именно читатель призван констатировать и оценить автокоммуникативность дискурса, изображенного в тексте.
В русской литературе «мысленный», или, как можно было бы его назвать, мнемонический модус наррации также обнаруживается. Яркий тому пример – «Жизнь Арсеньева» И.А. Бунина. В отношении этого текста также используется термин «роман-воспоминание» [Аверин 2003, 189]. Рассказчик повсеместно употребляет личную форму глагола «помнить», отсылая к событиям и вместе с тем процедуре их умственной реконструкции: «Помню до сих пор, как я томился, стоя среди двора на солнечном припеке <…>» [Бунин 1965–1967, VI, 11]; «Помню, был в Малиновом, доехал до Ливенской большой дороги…» [Бунин 1965–1967, VI, 149] и т.д. Вопросы, периодически задава- емые нарратором, нельзя назвать ни риторическими, ни предназначенными читателю, поскольку они предусматривают наличие ответа, но дать его может только субъект повествования, что он нередко и делает, буквально разговаривая с самим собой: «Может быть, мое младенчество было печальным в силу некоторых частных условий? В самом деле, вот хотя бы то, что рос я в великой глуши. Пустынные поля, одинокая усадьба среди них…» [Бунин 1965–1967, VI, 9]. В тексте романа прослеживается повторяемость одних и тех же речевых отрезков, избыточная с точки зрения нарративной информации, необходимой для понимания истории, но уместной в мнемонических целях. Таковы анафорически выстроенные последовательности абзацев: «Он молча вынул из бокового кармана бумажник <…> Он усмехнулся, ответил, что, слава Богу, Александр Сергеевич Арсеньев достаточно всем известен» <…> Он закурил и опять как-то вскользь спросил <…>» [Бунин 1965–1967, VI, 139]. Перечень аналогичных примеров нетрудно умножить, дополнив наши наблюдения контактными и дистантными лексическими повторами, а также случаями сюжетной репетативности, коррелятивной вербальному устройству повествования, с одной стороны, и циклическому характеру деятельности памяти, с другой: в романе репродуцируется мотив возвращения домой – в масштабах повседневности («Возвращаясь после ученья домой, мы с Глебочкой нарочно шли по той улице, где была женская гимназия» [Бунин 1965–1967, VI, 77]) или больших этапов биографии героя («Возвращаться домой, одному, было особенно грустно и странно. Даже как-то не верилось, <…> что я еду один и один проснусь завтра в Батурине» [Бунин 1965–1967, VI, 153–154]). По замечанию Лотмана, автокоммуникация задается «вторжением извне некоторых добавочных кодов» [Лотман 2000, 165]. В словесном тексте система общения «Я – Я» реализуется при помощи «ритмических рядов, повторов, возникновением дополнительных упорядоченностей, совершенно излишних с точки зрения коммуникативных связей в системе “Я — ОН”» [Лотман 2000, 172]. Как мы убедились выше, бунинское произведения прекрасно иллюстрирует данный тезис.
«Жизнь Арсеньева» актуализирует тип повествования, который мы условно назовем «усадебным» нарративом. Это не укоренившийся пока в литературоведении термин (несистемно используется в некоторых работах [Глухова 2019]), однако мы все-таки попробуем очертить его возможную семантику. Ввиду риска слишком широкого толкования термина, хотелось бы высказать такое соображение: специфика «усадебного» нарратива, по нашему мнению, должна определяется не только темой, но и структурными особенностями. Если в классическом романе усадьба воспринимается в качестве привычного места действия и рассказ о ее обитателях и происходящих в ней событиях структурно не отличается от любого другого рассказа, то на рубеже XIX–XX вв. она становится предметом ретроспективной рефлексии, а значит, вырабатывается новая модель наррации, наиболее наглядно репрезентируемая «литературой исторической памяти» [Малкина 2023, 114], или, по слову В.Я. Малкиной, «произведениями, в которых так или иначе коллективное историческое прошлое соотносится с личной памятью в настоящем» [Малкина 2023, 113–114]. К этому виду художественной словесности принадлежит «усадебный» нарратив, ознаменованный как воображаемым возвращением в прошлое (т.е. домой, в Эдем – согласно бунинской аксиологии), так и возвращением к самому себе и, следовательно, неустранимой автокоммуникативностью.
Потенциально проблематично соотношение сформулированного понятия с категорией «усадебного текста», которая прочно вошла в научный обиход благодаря работам В.Г. Щукина. Исследователь отмечает обязательное присутствие в его основе идиллически-элегического «мифа дворянского гнезда» [Щукин 2007, 316–337]. Разумеется, в «усадебном» нарративе его тоже можно было бы усмотреть. Однако теория повествования оперирует более «технологичными» инструментами, предназначенными для выявления непосредственно регистрируемых черт различных практик рассказывания. В центре внимания нарратолога – сюжетно-повествовательная структура, «обрамленная» коммуникативными условиями, в которых она способна реализоваться [Ильин 1999]. «Мифологический субстрат» не является решающим фактором ее обнаружения. Кроме того, по справедливому замечанию О.А. Богдановой, «впервые выдвинутая В.Г. Щукиным категория “усадебного текста” <…> в многочисленных исследованиях последнего десятилетия существенно раздвинула свои семантические рамки и <…> понимается как любой художественный текст с усадебной тематикой» [Богданова 2019, 98–99]. Но и в этом случае «усадебный» нарратив не сливается с «усадебным текстом», который выступает по отношению к первому в качестве родовой категории.
Попутно отметим, что и мотив памяти, и усадебный топос в прозе Бунина неоднократно оказывались в поле зрения исследователей. Однако мнемонические образы интересуют их вне связи с проблемами коммуникации [Капинос 2013; Попова 2017; Пономарев 2022]. Усадебной топике уделяется больше всего внимания, но за пределами нарратологического контекста (подробный обзор работ см. в: [Пращерук 2024]).
Автокоммуникативность «усадебного» нарратива реализуется отнюдь не только в репетативности повествовательной речи и автоматизме, «случайност-ности» припоминания событий и, как следствие, «размытости» излагаемой истории, количественном преобладании ассоциативных связей над каузальными, усилении медитативности и лиризма. Интересна в этом плане серия миниатюр, лаконично озаглавленная «Странствия» и описывающая перемещения героя-рассказчика по монастырям и усадьбам. Так же, как и в «Жизни Арсеньева», здесь разворачивается сюжет воображаемого возвращения в прошлое – но не в личное, а историческое, живущее в «глухих усадьбах» [Бунин 1998, 334]. Способ повествования, избранный Буниным, на первый взгляд, существенно отличается от представленного в романе: референция к памяти встречается редко и служит воссозданию опыта героя, а не нарратора («Я вспомнил, что тут где-то близко, в Хоромном тупике, находится загородный дом Ивана Грозного» [Бунин 1998, 334]); вопросительные конструкции не являются «репликой» диалога рассказчика с самим собой, а опять же выступают средством переключения на точку зрения действующего лица, пусть и ассоциированного с повествующим «я» («Медленно бьют часы в монастыре… для кого? Город точно вымер» [Бунин 1998, 342]); повторяемость заметна на уровне изображаемых ситуаций (приезд – наблюдение/общение – отъезд), но не в ритмической организации текста, употреблении и расположении лексических и синтаксических единиц. Можно допустить, что Бунин имитирует дневниковые записи, о чем свидетельствуют начальные слова очерковых заметок: «…В начале апреля посетил <…>» [Бунин 1998, 333], «…Вчера весь день несло страшной вьюгой <…>» [Бунин 1998, 334] и т.п. Однако дневниковость не синоним автокоммуникативности – мнемоническая функция как таковая не делает высказывание автокоммуникативным: «Здесь воспринимающее второе “Я”, – пишет Лотман, – функционально приравнивается к третьему лицу. Различие сводится к тому, что в системе “Я – ОН” информация перемещается в пространстве, а в системе “Я – Я” – во времени» [Лотман 2000, 164]. То, что, помимо усадебной тематики, автобиографизма и ностальгического пафоса, действительно роднит «Странствия» с «Жизнью Арсеньева», – внешняя окказиональность описываемых событий, как будто произвольно всплывающих в памяти нар-ратора. Этот эффект усиливается благодаря многоточиям, рассыпанным по всему тексту. Весьма примечательно, что они используются как в конце и середине предложений, так и в начале каждого очерка. Выдвинем гипотезу: а не воспроизводится ли таким образом процесс чтения? Может быть, нарратор не рассказывает, а читает уже когда-то написанное, выхватывая взглядом то один, то другой фрагмент, как бы начиная со случайного места? Если все-таки допустить, что «Странствия» – дневник, а точнее – его беглое перечитывание, то мы имеем дело с еще одной чертой «автокоммуникационного текста» – «многократностью, повторностью чтения» [Лотман 2000, 174], которое в конечном итоге есть не что иное, как один из ключевых инструментов припоминания, во всяком случае когда объектом повторной рецепции становится «мой» эгонарратив. Таким образом, именно работу памяти, а не одни лишь картины «странствий» изображает писатель в своем произведении.
Многоточие в препозиции наблюдается и в рассказе «Несрочная весна»: «...А еще, друг мой, произошло в моей жизни целое событие: в июне я ездил в деревню в провинцию (к одному из моих знакомых)» [Бунин 1965–1967, V, 118]. Рискнем предположить, что Бунин вновь предлагает нам имплицитную репрезентацию чтения – теперь уже не дневниковых заметок, а эпистолярия. Герой-рассказчик делится с адресатом письма впечателениями от посещения музея-усадьбы, которая пробуждает в его памяти множество деталей дворянского мира, внезапно ставшего частью истории. Возможно, как и в «Странствиях», «усадебный» нарратив «Несрочной весны» строится на двойной мнемонической перспективе: одна из них принадлежит персонажу – он бродит по музею и рассматривает предметы, осколки золотого века русской аристократии, и мысленно реконструирует близкие его сердцу образы, другая – нарратору, который возвращается к тексту об этих воспоминаниях, чтобы еще раз погрузиться в них, но уже в рамках события рассказывания-чтения. Наше предположение подкрепляется тем, что Бунин позиционирует и «Странствия», и «Несрочную весну» именно в качестве письменных текстов, прозрачно намекая на их дневниковую или эпистолярную природу, что и определяет, на наш взгляд, особую роль многоточия в этих произведениях. Скажем, в «Антоновских яблоках», не содержащих таких намеков, аналогичная пунктуация приобретает скорее паузальное значение (своего рода подступ к повествованию): «… Вспоминается мне ранняя погожая осень» [Бунин 1965–1967, II, 179].
В то же время дискурс нарратора в «Несрочной весне» снабжается глагольными маркерами мнемонической деятельности – теми же, что уже встречались нам в «Жизни Арсеньева», но употреблены они во втором лице: «Помнишь ночные грозы в Васильевском? Помнишь, как боялся их весь наш дом?» [Бунин 1965–1967, V, 121]. Казалось бы, изменение грамматической формы влечет за собой разрушение автокоммуникативности повествования: вспомнить должен не говорящий, а его адресат. Но не будем забывать о некоторых дополнительных аспектах лотмановской теории, а именно о случаях идентификации адресанта с адресатом. Сюда в первую очередь относится тайнопись: «Засекречивание текста, как правило, связано с переводом его из системы “Я — ОН” в систему “Я — Я” (члены коллектива, пользующиеся тайнописью, в этом случае рассматриваются как единое “Я”, по отношению к которому те, от которых текст должен быть скрыт, составляют собирательное третье лицо)» [Лотман 2000, 169–170]. Частное письмо – тоже в каком-то смысле «тайнопись»: не только из-за откровенности рассказчика, но и потому, что отправитель и получатель – представители одной социальной группы (коллектива): участники переписки дистанцируются от нового советского общества (то самое «третье лицо»), где им не нашлось места и где лишь они владеют «усадебным» кодом: «А главное, как переменился, как сказочно переменился даже самый белый свет за то время, которое мы, чудом уцелевшие, пребывали в могиле!» [Бунин 1965–1967, V, 127].
В прозе Бунина утверждается ключевая особенность «усадебного» нарратива, а именно двойная референция: во-первых, к памяти (может дублироваться путем «наложения» перспектив рассказчика и героя, а также реализоваться посредством скрытой репрезентации процесса чтения), во-вторых к ее объекту (усадебный универсум). Эта особенность коррелирует с автокоммуникативностью, порождающей несколько факультативных свойств рассмотренного нами явления: репетативность и автоматизм на уровне сюжета и вербальной организации повествования; редукция причинно-следственных связей; расширение авторефлексивных компонентов наррации; коллективная («хоровая») идентификация субъекта рассказывания с адресатом. Наконец, нарра-тор в «усадебном» повествовании обязательно диегетический (т.е., согласно В. Шмиду, «повествует о самом себе как о фигуре в диегесисе», существуя «в двух планах – и в повествовании (как его субъект), и в повествуемой истории (как объект)» [Шмид 2008, 82]). Вспоминающее «я» по определению обладает ограниченным кругозором, причем нарратор рассказывает о своем опыте, а не о чужом – последний параметр может показаться не столь уж важным, однако его элиминация, при сохранении всех остальных признаков, приводит к превращению нарратива памяти в нарратив квазипамяти, как это, например, происходит в повести С. Довлатова «Заповедник»: экскурсионный рассказ лишь имитирует приобщение к прошлому и нередко подменяет его различными иллюзиями [Агратин 2024]. В статье был предложен схематичный набросок «усадебного» нарратива. Дальнейшее изучение этого повествовательного «паттерна» в художественной литературе предполагает привлечение широкого материала, не исчерпывающимся одним только бунинским наследием.