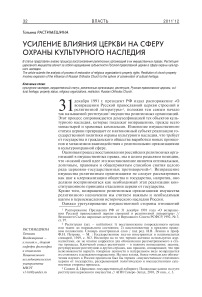Усиление влияния церкви на сферу охраны культурного наследия
Автор: Растимешина Татьяна Владимировна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 12, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен анализ процесса восстановления религиозных организаций в их имущественных правах. Реституция церковного имущества влечет за собой наращивание субъектности Русской православной церкви в сфере охраны культурного наследия.
Культурное наследие, имущественный статус, религиозные организации, реституция, русская православная церковь
Короткий адрес: https://sciup.org/170165684
IDR: 170165684
Текст научной статьи Усиление влияния церкви на сферу охраны культурного наследия
Оценивая процесс восстановления российских религиозных орга-низаций в имущественных правах, мы в целом разделяем позицию, что «в самой своей идее это восстановление является оптимальным, логичным, правовым и общепринятым способом снятия целого ряда церковно - государственных противоречий»3. Возвращение имущества религиозным организациям не следует рассматривать как шаг к клерикализации общества и государства, напротив, оно должно восприниматься как необходимый этап реализации кон ституционного принципа отделения церкви от государства.
Кроме того, возвращение религиозным организациям имущества религиозного назначения мы считаем важным и необходимым шагом в переосмыслении исторического наследия России.
Однако ур егулирование имущественной стороны отношений
церкви и государства, логично сопровождающееся восстановлением имущественных прав религиозных организаций, в т.ч. возвращением церкви тех объектов, которые имеют статус культурного наследия, осложняет и обостряет другую сторону этих отношений. В конце 2010 г. в России насчитывалось 6 584 объекта культурного наследия федерального значения религиозного назначения. Из них православных объектов – 6 4021. Все они, согласно закону РФ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», постепенно перейдут в собственность Русской православной церкви. Именно принятие этого закона обозначает политико-правовую точку, за которой церковно-государственные отношения в той плоскости, которая касается использования объектов культурного наследия, превращаются во все более запутанный лабиринт.
Политико-правовой «каркас» государственно-церковного лабиринта составляют следующие объективные обстоятельства. Чем в большей степени укрепляется имущественное положение церкви, тем большее число объектов культурного наследия общенационального и международного значения она фактически может контролировать. И новый закон, и устав Русской православной церкви рассматривают церковь как юридическое лицо, выступающее в качестве полновесного собственника и распорядителя передаваемых государством объектов культурного назначения. Устав церкви, в частности, гласит: «Церковь может иметь в собственности <…>объ-екты <…> культурно-просветительного и иного назначения, предметы религиозного назначения, <…> необходимые для обеспечения деятельности Русской православной церкви, в том числе отнесенные к памятникам истории и культуры»2.
При этом, согласно уставу Русской православной церкви, «порядок владения, пользования и распоряжения имуще- ством, принадлежащим Русской православной церкви на правах собственности, пользования и на иных законных основаниях, определяется настоящим Уставом, правилами, утвержденными Священным синодом и “Положением о церковном имуществе”. Право распоряжения имуществом Русской православной церкви принадлежит Священному синоду»3. Буква этой нормы устава не противоречит букве федерального закона. Однако этот ключевой документ, регламентирующий функционирование института РПЦ, не указывает, каким образом, на основании каких принципов распорядительная деятельность Священного синода будет обеспечивать соответствие режима использования объектов культурного наследия «требованиям законодательства Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»4, как того требует норма федерального закона.
Отсутствие продуманного и кодифицированного в нормативном акте механизма взаимодействия церкви и государства в сфере охраны культурного наследия уже привело к обострению отношений религиозных организаций и гражданского общества в лице той его части, которая относят себя к «музейной общественности». Все последние годы она активно возражает против демузеефикации объектов культурного наследия, которая сопровождает процесс передачи религиозным организациям России имущества религиозного назначения.
Автор сдержанно-пессимистически относится к возможности разрешения обостряющихся противоречий в ближайшей перспективе. Этот пессимизм обусловлен двумя основными обстоятельствами.
Во-первых, демузеефикацию в России приходится воспринимать как необходимое и сложное (хотя для многих и неприемлемое) следствие и одновременно условие процесса восстановления исто- рической справедливости по отношению к религиозным организациям и обществу в целом, прежде всего в свете признания репрессивно - насильственного характера самой музеефикации, осуществлявшейся в нашей стране в ХХ в. Перемещение абсо-лютного большинства ценных предметов из церквей в музеи, музеефикация мона стырских и храмовых комплексов после 1917 г. в своей историко - политической основе имела экспроприацию имущества церковных юридических лиц, причем зачастую осуществлялась варварскими методами1. В этом отношении возвра-щение религиозным организациям иму щества и сопутствующая ему демузее фикация представляет собой адекватные политические меры. Они демонстрируют готовность государства хотя бы отчасти компенсировать урон, нанесенный тота литарным режимом гражданскому обще -ству Эти меры в политическом отноше -нии следует рассматривать как признаки необратимости демократизации россий ского общества и государства.
Следует также упомянуть, что церковь идет на некоторые уступки государству, обществу в т.ч. той их части, которая не приемлет возвращения религиозным организациям их имущества. Так, Русская православная церковь официально заяв ляет о том, что «не желает претендовать на весь объем собственности, бывшей в ее распоряжении в течение того или иного исторического периода»2, и заверяет, что она «не намерена поднимать вопрос о реституции»3. Действительно, полноцен-ная и полномасштабная реституция цер ковного имущества, которая осуществля ется в странах Восточной Европы, стала бы непосильным бременем для россий ского государства и общества.
Кроме того, церковь практически примирилась с обстоятельством, что на демузеефикацию движимых объектов государством фактически наложен мора торий. Еще в 1996 г. В России был при -нят закон «О музейном фонде и музеях в РФ», согласно которому все объекты, которые можно было бы расценивать как движимое имущество церкви: иконы, церковная утварь, раки с мощами свя тых, не подлежат отчуждению, передаче церкви и демузеефикации. В настоящее время церковь лишена возможности контролировать хранение и использова ние своих реликвий. Поле наиболее обо -стренной конфронтации церкви и музей ного сообщества возникает вокруг икон. Так, в 2008 г., после того как дирекция Третьяковской галереи выразила готов ность передать икону А. Рублева «Троица ветхозаветная» для праздничного бого-служения в Троице Сергиеву лавру, работники музея выразили резкий про тест и при поддержке представителей прессы помешали передаче4.
Мы далеки от того, чтобы признать правоту одной из сторон. Мы также при -знаем, что механизм разрешения противо речий должен стать предметом длитель ной работы многосторонней экспертной комиссии. В рамках настоящей статьи мы лишь отмечаем небеспочвенность притя заний церкви на ту часть объектов куль турного наследия, которая не подлежит демузеефикации.
Мы полагаем, что в нынешней политико правовой ситуации общество и государство будет вынуждено сначала возмещать урон, нанесенный церкви «в годы лихолетья», возвращая «собствен ность, созданную трудами многих поколе ний верующих и, что гораздо более важно, посвященную Богу»1, причем даже ценой ее демузеефикации, хотя бы в том огра -ниченном объеме, о котором сегодня идет речь. В свою очередь церковь должна при -мириться с неполноценностью и неко-торым «лукавством» реституции, а также противодействием со стороны музейного сообщества и части общественных сил. Одновременно церковь будет вынуждена доказывать свою дееспособность и зако нопослушность в отношении сохранения культурного наследия. Лишь затем, вто-рым этапом, начало которого пока даже не проглядывается, общество и государство смогут инициировать начало процесса добровольного и полноценного сотрудни чества с религиозными организациями в области музеефикации.
Таким образом, поскольку мы находимся лишь в самом начале этих процессов, стороны еще не проявляют готовности к конструктивному диалогу и для него еще не созданы достаточно крепкие полити -ческие и правовые основания, мы скепти чески расцениваем возможность скорого выхода из церковно государственного лабиринта.
Этот лабиринт запутывается в силу того, что значительная часть так назы-ваемого музейного сообщества оказывает противодействие восстановлению имуще ственных прав церкви, не признавая даже на словах ни репрессивного характера осуществленной когда то музеефикации, ни двойственного и неполного характера реституции.
В свою очередь, церковь ожидает воз вращения большей части имущества, уже выказывая при этом отсутствие вну тренних финансовых и управленческих ресурсов для адекватного сопровождения процесса демузеефикации. Более того, неспособность церкви обслуживать (в соответствии с принципами охраны куль турного наследия) некоторую часть полу -ченного имущества безвозвратно лишает общество части памятников культуры. Тем самым религиозные организации льют воду на мельницу своих оппонентов, утверждающих, по заявлению директора музеев Московского Кремля Е. Гагариной на парламентских слушаниях, что «музе фицированные ансамбли-монастыри сегодня остаются единственной институ цией, способной защитить особо ценные объекты национальной культуры»2.
Таким образом, при рассмотрении только одного аспекта отношений церкви и государства в сфере охраны культурного наследия — имущественного — мы обнару -жили все основания для вывода, что в этой сфере нарастает конфронтация сторон, в проигрыше от которой оказывается все российское общество, заинтересованное в конструктивном сотрудничестве для обе спечения охраны культурного наследия и доступа к нему всех желающих.
Существует и вторая причина для нашего пессимизма. Дело в том, что даже нала -живание в отдаленной перспективе кон структивного диалога между церковью и обществом не может гарантировать выра ботки единых подходов к охране культур ного наследия. Проблема заключается в том, что у церкви и светских организаций, в числе которых следует рассматривать и государство, были изначально разные, базирующиеся на разных доктринальных основаниях и императивах подходы к охране культурного наследия.
Следует уточнить этот тезис. Не подле -жит сомнению, что церковь достаточно давно заботилась о сохранении своих реликвий. Еще в XVIII в. Священный синод издал распоряжение «О починке Ивановской колокольни» (17 апреля 1753 г.), а также указы «О запрещении изно -сить из костромского Успенского собора чудотворную икону Божией Матери, име нуемую Федоровскую» (1742 г.), «О при -стойном хранении патриарших ризничных вещей» (1753 г.), «О соблюдении чистоты в церквах и о поновлении иконостасов и святых икон» (1753 г.). Объективным и неоспоримым фактом является и то обсто-ятельство, что церковь, начиная с XVIII в. и вплоть до 1917 г., активно сотрудничала с государством в области охраны и науч ного изучения религиозных древностей, образования церковно - археологических кабинетов и епархиальных музеев.
Однако история сбережения церков ных реликвий (как нормативно - правовая, так и практическая) свидетельствует, что подходы церкви к этим вопросам специфичны. Прежде всего, концептуальные постулаты и практические рекомендации православной церкви содержат такой подход к артефактам, в рамках которого их следует понимать не как памятники старины или произведения гениальных мастеров, а как святыни, светская интерпретация которых оскорбляет клиры, приходы, в их лице – институт церкви в целом и даже основы православного вероучения. В «охранительной» политике православной церкви церковные ценности хотя в юридическом плане и представляют собой имущество, но находятся вне пределов экономических и социальных отношений. Ключевым, определяющим и неоспоримым, не подверженным сомнению и интерпретациям императивом является принадлежность любого имущества Богу. Человек или социальный институт являются временными собственниками и распорядителями. Ключевое условие правильного распоряжения вверенным имуществом – недопущение святотатства. А отношение и обращение с памятником исключительно как с музейным экспонатом, безусловно, понимается именно как святотатство, оскорбляющее чувства верующих и саму веру.
Недопустимо и такое отношение к религиозной святыне, при которой она рассматривается исключительно как произведение искусства. Во-первых, согласно учению церкви, «нельзя и обожествлять земную красоту, поскольку таким образом человек впадает в идолопоклонство, поклоняясь вместо Бога Его произведениям» 1. Соответственно, делать ставку на что-либо преходящее, в т.ч. чувственно воспринимаемую красоту, – странно и неразумно2. Что же касается церковного искусства, согласно православному учению об иконопочитании «назначение и суть иконы – в символизме, позволяющем перенести умный взор в иной мир, мир духовной реальности, но никак не в том, чтобы, глядя на нее, человек получал эстетическое удовольствие от красоты искусства, воплощенного в ней»3. Искусство в церкви «являет собой другой вид красоты – красоту умную, то есть ту красоту, которая не воспринимается чувствами и не оценивается в эстетических категориях, но может быть ухвачена только умным взором, позволяющим кому-то усмотреть неявное и явить его, а кому-то – воспринять это являемое неявное»4.
В результате передачи церкви имущества религиозного назначения некоторые объекты культурного наследия переходят не только под имущественную юрисдикцию, но и под духовный «методический» контроль священноначалия, осуществляемый с опорой на учение православной церкви. Поэтому светское общество, нацеленное на сотрудничество с церковью в сфере охраны культурного наследия, также будет вынуждено ориентироваться на внутри-церковные нормы использования церковных святынь. Если же будет иметь место дальнейшая трансляция узко светских, с одной стороны, и узко религиозных норм и практик охраны культурного наследия – с другой, плодотворное сотрудничество сторон окажется невозможным.
Таким образом, реституция церковного имущества влечет за собой наращивание субъектности Русской православной церкви в сфере охраны культурного наследия. Это, в свою очередь, вынуждает государство и общество к выработке новых принципов и механизмов взаимодействия с этим институтом в культуроохранной сфере.